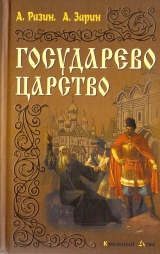
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– А мой Янек? Что поделывает Ян? – спросил с тревогой Бучинский.
– Что же! Ян – ничего. Ни днём, ни ночью не расстаётся с Димитрием и, кажется, больше надеется на казаков, чем на регулярное войско... Впрочем, из всей этой затеи, полагаю, ничего путного не выйдет.
– Почему же так думает пан?
– Потому, что Москва выставит полтораста тысяч войска: это одно. А другое – то, что гетманом выбрали Мнишка. Ну, сделай меня сейчас маршалком двора, разве я не наделаю чепухи в ваших церемониях? Мнишек – человек политический, человек тонкий, умеет завязать интригу, найти поддержку, вывести своего человека... Но какой же он воин, какой гетман, скажите на милость!..
– Вот я тоже с моим Яном спорил об этом. Он уверял, что войны никакой не будет, что это политический поход, больше ничего, что подданные Московского государства с первого шага Димитрия через границу признают его своим царём, ибо устали от Бориса, и весь поход будет торжественным шествием на Москву...
– Ну так бы и говорили! – сердито отвечал Камоцкий. – Но в таком случае зачем же царевич тянет с собой казаков? Разорять только своих подданных? Или зачем ему наш отряд? Ведь две тысячи шестьсот польских воинов набралось... да будь это в толковых руках – это сила... и великая сила!..
Пан Бучинский вовсе не был доволен беседой с Камоцким, который во всём видел дурную сторону, а о милом Яне, не занимавшем никакой видной военной должности, не говорил ни слова, как будто в самом деле Ян не был одним из главных лиц в предприятии Димитрия.
Вернулся, наконец, из Кракова ксёндз Помаский, и бедный старик, получавший очень скудные известия о сыне, наконец ожил. У ксёндза постоянно были свежие новости. Он ходил к пани Мнишковой сообщать ей поклоны от мужа и рассказывал о важнейших событиях из совершаемого похода. Но Бучинский не довольствовался общими известиями, а расспрашивал ксёндза обо всех подробностях – как будто очевидца. Маршалок перестал удивляться, каким это образом почтенному, благообразному ксёндзу известны все малейшие частности, касающиеся Димитрия. А на самом деле всё было очень просто: царевича сопровождали два ксёндза, Савицкий и Черниковский, чтобы своим влиянием поддерживать в нём усердие к латинской Церкви и в то же время как можно чаще доносить по начальству о ходе дел. Их донесения пересылались в Краков, к папскому нунцию Рангони, с чрезвычайной поспешностью, особыми гонцами, от костёла до костёла, и таким образом проходили через руки ксёндза Помаского. Королевский запас самых старых бутылок венгерского должен был потерпеть значительный ущерб от родительской любви и любопытства пана Бучинского, потому что королевский духовник вовсе не был бескорыстен и за сообщаемые новости любил промочить себе горло вином, которое не было свидетелем распространения в Польше лютеранской ереси.
– Ну что же у нас нового? – спрашивал старый маршалок, наливая вторую рюмку ксёндзу. – Что поделывают наши воины?
– Ничего, всё идёт хорошо. Только, не доходя Киева, перетрусили немножко наши воины! – отвечал Помаский. – Не доходя Киева Мнишек посылал к тамошнему воеводе, известному еретику князю Константину Острожскому, твоего сына – просить содействия. Старый медведь, непостижимо упорный в своей греческой вере, отвечал сердито, что он рад будет посещению пана Мнишка, воеводы сендомирского, но о войске никаком не слыхал и московского царевича Димитрия никакого не знает, так как углицкий Димитрий, сын царя Ивана Васильевича, тринадцать лет тому назад скончался. Надо признаться, что нехорошо принял еретик нашего Яна, совсем нехорошо. Только и Ян не глуп. Разведал он у прислуги и секретарей, что от московского патриарха Иова приезжал к Острожскому гонец Афанасий Пальчиков и привёз грамоту. Ян достал за деньги и копию с этой грамоты. Пишет патриарх, что «называющий себя Димитрием есть беглый дьякон; сам патриарх посвящал его, и весь священный собор это знает. Впоследствии он, говорит, впал в злые еретические дела и чернокнижие и, страшась справедливой казни, бежал». Патриарх просил не оказывать вору никакой помощи, но поймать его и прислать в Москву для достойного возмездия по делам его. Старый медведь Острожский, как известно, усердный еретик, постоянно ссылается с Москвой. Чего доброго, он в самом деле мог исполнить требование своего патриарха, ударить на наших и выхватить царевича. Тут наши несколько ночей не спали и держали лошадей наготове. Впрочем, всё кончилось благополучно. Как видно, старый медведь, хотя и силён, не захотел, однако, ссориться с могущественной партией Вишневецких, Мнишков, Фирлеев, Тарло и не вмешался в это дело. Наши повернули налево, переправились через Днепр на паромах, гораздо выше Киева, и двинулись вверх по Десне...
– Однако мой Ян молодец! – заметил самодовольно Бучинский.
– Да, парень не дурак, не в темя битый, как говорится. Знает, с какой стороны к человеку подойти. А что князь Острожский грубовато его принял, так это ещё полезно: твой Ян слишком уже далеко, слишком беззаветно отдался московскому делу. Надеяться надо, что это от молодости, и с годами пройдёт. Однако ты напиши ему, чтобы о себе больше думал да о святой латинской Церкви...
– Он у меня честный служака! – отвечал с гордостью Бучинский. – И уж если отдался какому делу, то готов положить за него свою душу. Покойная мать его, умирая, всё твердила это моему мальчику...
– Жена твоя была кальвинистка, – кивнул строго королевский духовник. – И тебе, как доброму католику, вовсе не следовало бы и вспоминать о ней. Это только глупая молодость душу свою полагает в пользу данного дела, забывая, что впереди всякого дела должна стоять служба святой Католической церкви. Её пользам должно пожертвовать всяким делом и всякой преданностью, без исключения. Ты, мой любезный маршалок, напиши это сыну построже. А то я, пожалуй, на досуге набросаю тебе маленький проект письмеца. Как это бесценное вино, – прибавил ксёндз вовсе некстати, – с течением годов принимает чрезвычайный аромат и удивительную крепость, так и человек с годами должен крепнуть в преданности святой латинской Церкви...
– Напишу, непременно напишу, пан ксёндз-благодетель. Но скажите, ради Бога, в каком же положении находится дело теперь? – спросил Бучинский, вновь наполняя маленькую рюмочку собеседника.
– Настолько моё всеведение не простирается! – отвечал добродушно ксёндз. – Я не могу вам сказать, что кушает теперь за ужином ваш сын. Верно покамест то, что за Днепром наши попали в страну обильную, богатую, а затем перешли московскую границу шестнадцатого октября, прямо против города Моравска, что в Северской земле. Жители города ожидали царевича, но он из осторожности послал вперёд запорожских казаков – тысячи две. Горожане связали своих воевод Лодыгина и Безобразова и прислали в наш стан уведомление, что они поддаются и бьют челом законному царю Димитрию Ивановичу. Через день Димитрий торжественно вступил в свой первый город. Не было сделано ни одного выстрела, ни малейшего насилия, и если вперёд дело пойдёт таким образом, то через какой-нибудь месяц или через полтора наши будут в Москве.
– Ну так и есть! – воскликнул пан Бучинский. – Янек мой так и говорил, что войны никакой не будет, а пан Камоцкий пророчил вздор. Ну любезный пан ксёндз-благодетель! А дальше что было? Что мой Янек?..
– Через несколько дней, может быть, – отвечал королевский духовник, – я расскажу вам, что было дальше... Да, кстати! Письмецо-то к сыну пришлите мне завтра пораньше. У меня будет маленький случай отправить кое-что в обоз. А покамест велите кому-нибудь проводить меня до дому: ночи становятся ужасно тёмными, а возле костёла проклятые хлопы наездили такой грязи, что прохода нет...
Но для почтенного ксёндза готов был экипаж, который благополучно доставил его домой. И два хлопа бережно провели его под руки до самой кровати.
Это было в конце октября 1604 года. После того сряду целых шесть недель пан Бучинский не мог дозваться ксёндза на вечернюю беседу; то он опять на несколько дней уезжал в Краков, то отговаривался недосугом, то нездоровьем. Только при минутных встречах он успевал сказать, что Ян здоров, что всё благополучно. Наконец, в середине декабря королевский духовник сам посетил Бучинского без его просьбы и уже при входе объявил, что пришёл к нему на целый вечер. Старый маршалок был вне себя от радости и на полчаса оставил ксёндза одного, потому что никому не доверял ключей от самого дальнего отделения королевского погреба.
Опять устроилась беседа у жарко пылающего камина.
– Я боялся бы какого-нибудь печального известия, пан ксёндз-благодетель, – признался маршалок, разливая вино, – если бы заранее не слышал от вас, что всё обстоит благополучно.
– Превосходно! – отвечал ксёндз, рассматривая вино в рюмке на свет восковой свечи. – За исключением только того, что нам не следовало в это дело мешаться...
– Как так? Стало быть, худо? – спросил Бучинский, и дрогнувшая рука его пролила на стол половину рюмки.
– Говорят пану, что превосходно! – отвечал ксёндз спокойно, с сожалением смотря на пролитое вино.
– Ну так я ничего не понимаю! – сказал Бучинский и поставил свою рюмку на стол, не попробовав вина.
– А вот я объясню пану всё дело! – отвечал с простодушной улыбкой королевский духовник. – И то потому, что опять мне нужно от пана письмецо к сыну. Ты только успокойся, выпей рюмочку этого почтенного вина и слушай, ничего не опасаясь. Ты знаешь, сколько добра мы ожидали от этого похода: на московский престол мы возводили человека, всем обязанного Польше, стало быть, приобретали республике верного и преданного союзника. Мало этого, мы возводили человека, принявшего единение с Римско-католической церковью, а так как московский народ боготворит своих царей, то за ним присоединятся миллионы его подданных. Стало быть, у нас две цели: приобретение Польше сильного политического союзника и приобретение в пользу истинной латинской Церкви миллионов новых сынов. Но из донесений выходит, что одна из этих двух целей должна быть пожертвована другой. Ксёндз Савицкий и ксёндз Черниковский отличаются необычной проницательностью, и их наблюдениям нельзя не верить... Помнишь последнюю нашу беседу здесь? На другой день я послал две папские грамоты: одну к царевичу, другую к царю. В одной святейший отец напоминал Димитрию, что дело началось с его благословения, что молитвами латинской Церкви Бог повергает к его ногам злодея его, похитителя престола, и что он твёрдо будет держаться на прародительском троне, если только станет ревностно распространять в своей земле истинное латинское учение. В другой грамоте святейший отец дружелюбно просил царя Бориса пропустить через его государство, с надлежащими провожатыми, посольство, снаряженное в Персию, именно пятерых кармелитских монахов с десятью слугами. Из этого ты видишь, пан маршалок-благодетель, что мы и наблюдаем, и слушаем, и что рюмка почтенного вина, не видавшего ереси в польской земле, не мешает нам исправно и ревностно делать своё дело. Тогда я знал только о первом шаге царевича в московскую землю, о покорности Моравска. С тех пор воды утекло много, а успехов достигнуто весьма мало. От Моравска до Чернигова всего один переход, ну, может, два. В Чернигове воевода, какой-то Татев, заупрямился. Казаки Димитрия ещё не успели разграбить посад, как город сдался. Нашли там десять тысяч злотых казны и раздали жалование войску. Однако из Чернигова выступили только четвёртого ноября – дальше, в Новгород-Северск. По дороге народ не разбегался, а встречал царевича хлебом-солью и со слезами радовался его спасению. С одиннадцатого ноября, как стали под Новгородом-Северским, и до сих пор – ни с места. Тамошний воевода, проклятый Басманов, через предместье стреляет и бранится с городских стен. Пушек в нашем отряде нет. Три раза ходили на приступ. И совершенно безуспешно. Царевич вздумал наших упрекать за неудачные приступы. Это бы ещё ничего. Но вслед за тем стали приходить известия одни других утешительнее. Город Путивль связал своих воевод и поддался Димитрию. За ним поддался Рыльск, потом Курск, потом – Кромы и Белгород. Со всех сторон подходят новые войска, и под Новгородом-Северским набралось уже более пятнадцати тысяч воинов. Кажется, всё очень хорошо. Но депутации от городов и новые отряды, пристающие к нам, вовсе не скрытно выражают своё неудовольствие против поляков. Племенная вражда, видишь ли, мешает нашему делу. А люди Бориса и духовенство пользуются этим и беспрестанно твердят народу и в церквях, и на площадях, будто поляки идут разорять православные церкви и веру. Это вооружает народ против царевича и мешает успеху его дела. И приходится выбирать что-нибудь одно: торжество латинской Церкви в лице преданного ей царевича или торжество Польши и нашего отряда с воеводой сендомирским во главе. В этом выборе не подлежит сомнению, на которой стороне остановится святейший отец. Если бы царевич вступил в Москву вовсе без поляков, а только с одними московскими отрядами и, пожалуй, с несколькими тайными руководителями его совести, то это было бы всего выгоднее. А после того – граница наша с Москвой велика, а царь самовластно у себя распоряжается и не нуждается в разрешении какого-нибудь сейма, чтобы строить костёлы, принимать проповедников истинной латинской Церкви и допускать в свою службу поляков. Понимаешь, пан маршалок-благодетель, что другая-то цель весьма легко будет достигнута впоследствии, после первой – это уже в наших руках. Мало того, в случае смерти короля Сигизмунда через несколько лет царевич может быть избран королём польским, и тогда всё пойдёт отлично...
Казалось, что пан Бучинский слушал очень внимательно, но когда королевский духовник приостановился и стал наполнять свою рюмку, он подумал немножко и спросил:
– Пан ксёндз-благодетель не имеет известий, участвовал ли мой Янек в этих первых приступах к Новгороду-Северскому?
Ксёндз понял очень хорошо, что он напрасно толковал старику обо всех своих политических соображениях, так как всё внимание маршалка устремлено на известия о сыне. Но не вышел из терпения благообразный ксёндз, не рассердился, а, напротив, улыбнулся очень снисходительно и рассказал старику выдуманную повесть о подвигах его сына.
– Но приступим же к делу! – продолжал он с мягкой благосклонностью. – Из довольно верного источника я знаю, что воевода будет скоро отозван. Он занимает слишком видное место здесь: сенатор польской республики, воевода сендомирский, староста львовский, такое лицо, что его присутствие в войске царевича не может не иметь политического значения. Остальных воинов отозвать приказом нельзя; они свободно могут служить кому и где угодно; поэтому потребуется всё искусство и всё влияние Савицкого и Черниковского, чтобы возвратить их по домам. А это необходимо, чтобы покамест не раздражать москалей. При царевиче останутся ксёндзы, наш Ян и, может быть, те из поляков, которые нас не послушаются. Ксёндзы получат приказание не слишком бросаться в глаза своими костюмами, а Яну следует дать маленькое наставление. К этому-то я и веду свою речь... Пусть он, оставаясь добрым католиком, кажется как можно более москалём, чтобы лицо, так близко стоящее к царевичу, не слишком резало глаза этим бородатым медведям. Пусть даже он зайдёт в православную церковь... Да вот я набросал маленькое письмецо к нему. Послезавтра у меня будет случай послать кое-что в обоз, так если бы любезный пан маршалок переписал письмо к тому времени, то это была бы большая услуга нашему делу...
Пан Бучинский был очень рад, что от него требовалась такая простая услуга. Он безусловно верил мудрости ксёндза Помаского и был убеждён, что подчинение его указаниям без размышлений во всяком случае выгодно. Письмо было переписано и отправлено в обоз вместе с подробными наставлениями ксёндзам как можно осторожнее относиться к москалям и постараться удалить из лагеря, если это возможно, всех поляков.
Возле самой церкви, в Самборе, стояла убогая хата приходского самборского священника, отца Герасима. В ней помещалась и школа. Матушка попадья пускала в ход всю свою изобретательность, чтобы поддерживать хоть сколько-нибудь благообразный вид своего бедного жилища. Но все её усилия с трудом противостояли всесокрушающему времени. Деревянная хата продолжала потихоньку гнить и разваливаться, несмотря на то, что попадья усердно смазывала её разведённой в воде известью, в некоторых местах приколачивала доски, устраивала подпорки и т. д. Отец Герасим подобным вздором не занимался, потому что весь, телом и душой, отдался исполнению своих священных обязанностей; а трудов было много в огромном его приходе. Нередко дворовая самборская челядь видела его высокую, худощавую, прямую фигуру, неторопливо проходящую по грязи торговой площади, между разными крестьянскими возами и жидовскими тачками: это отец Герасим, спрятав на груди Святые Дары, шёл к умирающему мужику, пешком, вёрст за пять. Дворовая челядь, толпящаяся на базаре, подшучивала над бедно одетым попом, громко смеялась ему вслед, иногда бросала ему под ноги палки, а он шёл, одушевляемый святым своим призванием, пристально смотря вперёд и не обращая никакого внимания на земные невзгоды. Наглые лакейские выходки доходили иногда до того, что физически останавливали почтенного пастыря: то толпа челяди окружала его со всех сторон, то протягивали верёвки – так, чтобы ему нельзя было пройти. Тогда отец Герасим останавливался, гордо поднимал голову и медленно осенял крестным знамением нахальную толпу. Недавно обращённая в католичество, челядь не выдерживала сурового взгляда священника и его крестного знамения: многие невольно вспоминали, может быть, лета молодости или детства, когда приобрели привычку с любовью и смирением преклоняться перед этим знамением... Дерзкая толпа расступалась, и отец Герасим, кротко склонив голову, как будто перед той силой, которая избавила его от надоедливых лакеев, смиренно проходил своей дорогой. Изредка случалось ему встречаться с ксёндзом Помаским; но богатый ксёндз ездил обыкновенно в карете, а отец Герасим ходил пешком, поэтому встречи были очень коротки. Ксёндз бросал презрительный взгляд на священника, в глазах которого при этом выражалось не то изумление, не то негодование... Крестьяне, встречаясь со своим попом, за несколько шагов снимали шапки и с благоговением приближались для принятия благословения. Весь приход безусловно доверял отцу Герасиму и держался вокруг него твёрдой общиной, из которой иезуиты, при всей своей ловкости, не могли вырвать в унию ни одной души.
То было трудное время для православного населения областей, принадлежавших к польскому королевству (или республике). Римско-католическое духовенство деятельно работало для обращения православных в латинство, а если нельзя, то по крайней мере в унию. Под этим словом разумелось то единение Православной церкви с Римско-католической, к которому приступили, из корыстных видов или по чувству самосохранения, четыре православные епископа: луцкий – Кирилл Терлецкий, пинский – Леонтий Пельчинский, Львовский – Гедеон Болобан, и холмский – Дионисий Збируйский. Знаменитый акт, с которого начинается уния, объявлен этими иерархами на соборе 1596 года в Бресте. Выговаривая себе, чтобы «церемонии и все обряды божественной службы и церковного порядка по древним обычаям восточной Церкви оставались ненарушимы до конца мира», епископы уступали под верховное владычество Папы Римского и себя, и свои церкви. Этот поступок епископов вооружил против них всё православное население. Тут только заметили они, что их признание главенства Папы далеко не разрешает всего дела. Гедеон львовский увидел, что православное братство при ставропигиальном Онуфриевском монастыре не только не следует по стопам своего архиерея под благословение Папы, но ещё хлопочет у константинопольского Патриарха о свержении его с епископской кафедры. Остальные три епархии точно так же стали во враждебные отношения к своим епископам. Низшее духовенство, не предупреждённое своими архиереями, вместе с мирянами не признавало главенства Папы, стало быть, прямо восставало против поступка иерархов и отказывалось повиноваться их духовному руководству. Произошло великое смятение между всеми православными. В то же время поляки вовсе не спешили наградить отступников, а напротив, не скрывали своего к ним презрения. Престарелый епископ львовский Гедеон, долгое время враждовавший с львовским братством, которое не хотело ему подчиняться, понял, что уния с его стороны была и грешным отступничеством, и грубой ошибкой. К тому времени, о котором идёт речь, то есть к 1604 году, он раскаялся, отрёкся от унии и перестал притеснять тех из священников своей епархии, которые не поминали на ектеньях Римского Папу, а продолжали молиться за константинопольского Патриарха. Но латинский епископ во Львове точно так же, как и всё латинское духовенство, неустанно всеми неправдами преследовали и теснили священников, не признававших унии. Гонения поляков, с одной стороны, и отступничество архиереев, с другой, сделали то, что лучшие из православных попов закалялись в борьбе, теснее прежнего сближались со своими прихожанами и готовы были скорее принять мученический венец, чем подчиниться Папе. Напротив, люди слабые находили, что гораздо удобнее будет и выгоднее покориться, чтобы за произнесение на ектенье имени Папы и за вставку в Символе веры одного только слова – жить спокойно, иногда получать от помещика и дрова, и сено, и овёс, а иногда и денежное жалованье.
Самборский поп, отец Герасим, принадлежал к числу самых твёрдых людей; под страхом смерти он не согласился бы преклониться перед латинским учением о том, что Папа есть будто бы глава всех христиан и наместник Христа на земле. За то же он и вынужден был терпеть тысячи оскорблений, насмешек, лишений, бороться с бедностью... Но он постоянно находил утешение в исполнении своих обязанностей, а когда читал заповедь: «блаженни есте, егда поносят вы и ижденут...», то утешительная надежда на многую награду в будущей жизни оживляла и ободряла его стойкий дух. Измена православию со стороны четверых архиереев была тяжким ударом, который пробудил многие полусонные умственные силы. Священники привыкли было спокойно, доверчиво, почти без рассуждений предаваться духовному руководству своих епископов; но когда грянула гроза отступничества, духовенство заметило, что в деле православного учения каждый служитель алтаря должен полагаться только на свои знания и на свою веру, а для успешного противодействия измене углубиться в изучение духовных писателей, не довольствуясь исполнением установленных обрядов. Современные сочинения о брестском соборе читались и изучались в величайшей подробности; приходилось читать сочинения не только защитников православия, но и защитников ненавистной унии, чтобы в случае нужды иметь наготове самые убедительные опровержения новой ереси, внесённой иезуитами в православие. Отец Герасим изучил сначала знаменитое сочинение о брестском соборе иезуита Петра Скарги, который описывал с особенной любовью деяние униатского меньшинства этого собора и строго порицал мнения православного большинства. Потом он читал «Эктезис», деяния того же собора, описанные православным членом собора. Любимой книгой его было «Апокризис, альбо Отповедь на книжке о соборе беростейском», красноречивое опровержение униатских заблуждений. Читал он и «Перестрогу», написанную с той же целью. Читал и «Антиризис», иезуитскую книгу, в которой автор уверяет, будто «дьявол из ада не мог бы выдумать ничего злокозненнее Апокризиса». Отец Герасим сам в свободное время составлял большое сочинение, в котором рассказывал о страданиях православных под гнетом иезуитов и, по тогдашнему обычаю образованных людей Галицкой Руси, дал своему русскому сочинению заглавие польское, заимствованное с латинского, – «Lament»[1]1
Lament – жалоба.
[Закрыть]. Бывало попадья печёт вечером блины или какие-нибудь лепёшки на ужин, а отец Герасим пристроится возле неё со своей тетрадью и, пользуясь светом очага, дополняет рукопись красноречивой страницей, созревшей в течение дня в его деятельном мозгу. Попадья не мешала мужу и охотно жертвовала для него своими хозяйственными удобствами: отодвигала свою сковороду так, чтобы больше света падало на тетрадь, в потухавший огонь подкладывала понемногу хворост и, усевшись в стороне с вязанием, изредка с любовью посматривала на озабоченное, строгое чело мужа и на ясные, кроткие глаза его, когда он, на минуту оставив работу, устремлял их на огонь, выбирая соответственное мысли выражение или просто задумывался.
Понятно, что слух о приезде в Самбор московского, стало быть, православного царевича наполнил дом отца Герасима блестящими надеждами. Попадья рассчитывала на щедрый вклад на церковное строение, так как всему православному миру известно было усердие московских царей к благолепию храмов. Отец Герасим надеялся на то, что в присутствии царевича хоть немного облегчится участь православных хлопов и обуздается нахальство дворовой челяди. Поповский сын Яков надеялся, что здесь, в Самборе, на чужбине, среди ляхов, царевич приблизит к себе его, образованного единоверца, знающего страну, знакомого с происками и ухищрениями латинских патеров и владельцев. У отца Герасима не достало смелости в день приезда царевича пойти встречать его на замковый двор; но он ни минуты не сомневался, что на другой день после приезда, в субботу, царевич поспешит в православный храм, чтобы возблагодарить Бога за счастливое путешествие. Церковь была прибрана с особым старанием, окна её вымыты, глиняный пол посыпан свежим песком. Всё утро отец Герасим был как в лихорадке. Беспрестанно выглядывал в окно, поджидая царственного гостя, и мысленно повторял коротенькую речь, обдуманную ещё несколько дней тому назад, на тему: «Благословен грядый во имя Господне». Он собирался этой речью приветствовать царевича, вспоминал в ней о чудесном его спасении от убийц, благодарил за него Бога и выражал твёрдую надежду на успешное окончание всего дела вступлением царевича на прародительский престол. В напрасном ожидании прошло уже несколько часов. Отец Герасим нетерпеливо ходил по хате, потом высовывался в окно и глядел вдоль улицы в сторону торговой площади, откуда должен был показаться поезд. Наконец он решил, что теперь уже скоро будет, и отправился в церковь облачаться для встречи. Во время короткого перехода по улице он слышал, как вдали, при костёле, в перебой звонил католический колокол, и крикнул пономарю, стоявшему на ветхой низенькой колокольне, чтобы он внимательнее смотрел по направлению к замку. Томясь ожиданием, уже около полудня, отец Герасим решил, что царевич, конечно, заболел с дороги, потому что одна только тяжкая болезнь могла помешать ему исполнить благочестивый обряд. И с глубочайшим благоговением, с самой пламенной верой приступил он к совершению церковной службы о здравии царевича Димитрия.
После этого утра, проведённого в напряжённом ожидании, обед был довольно печален. Грибная похлёбка и варёный горох с чёрным хлебом казались не так вкусны, как обыкновенно. Попадья была озабочена, отец Герасим – крепко печален.
Тотчас после обеда Яков по приказанию отца отправился в замок, чтобы разузнать всё от людей и, если можно, повидать самого царевича и подать ему просфору, для чего из церкви взято было небольшое медное блюдо. Только к вечеру Яков вернулся домой.
– Ну, видел царевича? – спросил отец Герасим ещё в окошко и, получив отрицательный ответ, поспешил встретить сына в сенях. – Что же? Крепко болен? Говори скорее...
– И здоров, и весел, – отвечал угрюмо Яков. – И пирует с воеводой, и доступа к нему нет. Пришёл, спрашиваю. Говорят, что кушать изволят. Стал ждать, думаю, что ведь откушают же когда-нибудь. Потом вышел ко мне старый маршалок и расспросил, что мне надо. Ждал, ждал... Выходит ксёндз Помаский и опять спрашивает, чего я желаю, да так насмешливо, как иной мошенник, который фальшивыми костями наверняка обыгрывает доверчивого дурака. Опять жду, жду... Дело уже идёт к вечеру... Опять маршалок, эта старая обезьяна, спрашивает: что надо? Как будто и не говорил со мной недавно... Присылают, наконец, какого-то лакея сказать, что царевичу некогда. Я и пошёл, потому что не силой же к нему ломиться...
Отец Герасим был жестоко огорчён. Попадья проворчала:
– Недаром говорят люди, что это не настоящий, а поддельный царевич, самозванец, беглый монах, расстрига.
– Решаешь слишком торопливо, жена! – заметил ей хмуро отец Герасим. – Разве ты не знаешь, как сильны иезуиты? Разве ты не понимаешь, что ему и не сказали о присылке просфоры из православного храма? Да ещё знает ли царевич, что в Самборе есть церковь? Может быть, он, бедняга, тоскует о родной церкви, думает, что его увезли подальше от истинных храмов...
– Как же! Не занет! – отвечала сердито попадья. – Да кто же не знает, что в Самборе есть церковь? Малый ребёнок он, что ли, чтобы этого не знать! Слава Богу, не иголка Самбор, не бисер какой-нибудь...
– Не решай так торопливо, женщина! – возразил отец Герасим с явной укоризной. – И помни, что всякому муравью кажется, будто его муравейник препрославлен и стоит в самой середине вселенной. В том-то и беда наша, что мы мечтаем о себе слишком много, а не остерегаемся вражеских происков. Весь день сегодня мы жили надеждой, что царевич посетит наш храм, а если бы только я подумал о силе иезуитов, о тонкости их интриги, то заранее должен бы догадаться, что его тщательно будут охранять от православной церкви и от попа Герасима, который не поддаётся униатским проделкам, а безропотно терпит гонения за свою твёрдость в вере... Но постойте вы, порождение дьявола, отцы иезуиты! Своими ухищрениями вы и нас принуждаете к хитростям, вы заставляете нас, православных, тоже интриговать для торжества истины. Ну, так посмотрим же, кто кого перехитрит!.. Знаю я очень твёрдо, что не все средства хороши для достижения желаемой цели; но тут идёт речь о спасении от унии самого царевича всея Руси!.. Постойте, господа патеры! Я вам устрою такую неожиданную проделку, что разом выхвачу из ваших когтей и Димитрия, и с ним всё Московское царство...
– Так что же ты придумал, сказывай! – оживилась попадья.
– Подожди, женщина, не мешай! – возразил отец Герасим, и на лице у него мелькнула самая простосердечная улыбка. – Надо придумать такую штуку, чтобы эти дьяволы не могли ни предупредить нас, ни помешать нам... Надо бы этак вдруг перенести церковь на замковый двор, чтобы она была ближе костёла... А этого нельзя, так ночью, что ли, забраться в комнату царевича и поставить там наши хоругви, чтобы они осеняли его, как знамёна православия...







