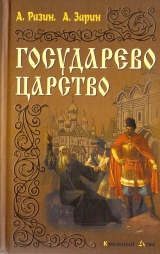
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
После многих известий с дороги ксёндз Шамота, духовник царской невесты, от 9 апреля писал ксёндзу Помаскому, что весь поезд благополучно переправился через русскую границу недалеко от городка Красного в Смоленской области. На границе русские вельможи встретили Марину Юрьевну с истинно царскими почестями. Когда королевский духовник рассказывал об этом пану Бучинскому, тот благосклонно кивал в знак одобрения и говорил:
– Хорошо! Значит, всё в порядке! Всё так и должно быть. Янек распорядится всегда правильно.
Через несколько дней ксёндз Помаский сообщил, что поезд в городе Красном был встречен знатнейшим русским боярином, князем Василием Михайловичем Мосальским, и дядей царя, Михаилом Александровичем Нагим, со многими боярами. По всем сёлам и городам будущую царицу встречали священники с крестами и святой водой и народ – с хлебом-солью. Тысячи хлопов выгонялись ежедневно, чтобы чистить и сглаживать дорогу, мостить мосты и укреплять плотины.
– Хорошо! – говорил на это маршалок. – Мой Ян уже знает, как распорядиться. Всё в порядке! Так и должно быть.
От 19 апреля писал ксёндз Шамота, что на этот день пришлась Пасха по русскому календарю. Путешественники достигли Вязьмы. Воевода поехал скорее, а дочь со всем поездом осталась ещё в дороге.
Выслушав это известие, пан Бучинский одобрительно кивнул и сказал:
– Хорошо! Пусть воевода встретит царскую невесту. Мой Ян всё обдумал и знает, как распорядиться.
От 25 апреля жена воеводы получила письмо от самого Мнишка из Москвы. Он уведомлял, что остался очень доволен встречей, приготовленной ему царём Димитрием Иоанновичем. Весь путь до дворца уставлен был в два ряда стрельцами в парадных кафтанах; построено было несколько триумфальных арок; у дворца установлены были в два ряда дворяне и дети боярские и тут же рота милых земляков под начальством пана Домарацкого. Далее воевода описывал парадный приём у царя, его пышный, весь из жемчуга и драгоценных камней наряд, описывал трон и всё, что его окружало.
«Сын моего маршалка, Ян Бучинский, человек очень важный в Москве. Порадуй этим старика... Здешний обычай требует, чтобы целовать царскую руку. Сначала я, потом мой брат, мой сын и князь Константин Вишневецкий были допущены к руке...»
Добрая пани Мнишек потребовала к себе маршалка, пригласила его сесть и велела своему секретарю ещё раз прочитать письмо вслух. Пан Бучинский, выслушав его с добродушной и снисходительной улыбкой, сказал:
– Хорошо. Пусть только воевода во всём слушается моего Яна. Он уже знает, как распорядиться и устроить всё к лучшему.
От 2 мая ксёндз Шамота писал с негодованием, что Марина была весьма торжественно встречена, но привезена прямо в Кремль, в русский Вознесенский монастырь, где жила мать Димитрия, будущая свекровь её.
«Много настойчивого, непрерывного, упорного и продолжительного труда придётся нам положить, чтобы переделать это. Но покамест пришлось согласиться и видеть, хотя и с сокрушением сердечным, католическую девицу в православном монастыре».
Старый маршалок снисходительно улыбался на всё это и говорил:
– Ничего! Это так надо. Мой Ян знает, как надо устроить...
Через неделю после того прискакал в Самбор особый гонец Пшепендовский. Вручил по письму пани Мнишек, старому маршалку и ксёндзу Помаскому, перекусил, выпил и, переменив лошадей, поскакал дальше в Краков – с депешей королю. Письма были от 9 мая. Уведомляли, что накануне, восьмого числа, Марина была коронована. Патриарх возложил на неё с обычными церемониями корону и цепь Мономаха. После этого все, находившиеся в храме, поздравляли царицу. Затем отслужена была обедня, царь и царица приобщились Святых Тайн, и тотчас по окончании обедни совершилось брачное венчание. Узнав все подробности торжеств, пан Бучинский нашёл, что Ян распорядился хорошо, как всегда. Когда ксёндз Помаский сетовал, что царицу попы заставили приобщиться Святых Тайн по русскому обряду, прикладываться к образам, старый маршалок, снисходительно улыбаясь, говорил:
– Будьте спокойны! Значит, так и надо, если Ян так устроил.
Прошла ещё одна неделя. Откуда-то взялся слух, что в Москве неладно. Ксёндз Помаский услышал об этом от жидовки, торговавшей рыбой. Жидовка рассказывала, что на девятый день после свадьбы царя Димитрия убили, а поляков всех перерезали. Ксёндз по опыту знал, что подобные слухи, взявшиеся неизвестно откуда, опережающие самых быстрых гонцов, подтверждаются иногда в величайшей точности. Озабоченный и напуганный, ксёндз пошёл к маршалку и рассказал ему, что слышал.
Пан Бучинский, выслушав новое известие, очень благосклонно сказал было ставшее уже привычным:
– Хорошо. Мой Янек уже знает... – но тут спохватился, как будто проснулся, и вскричал: – Как? Что? Всех наших избили? Что такое говорит пан ксёндз?..
И полнейшее спокойствие бедного старика исчезло, уступив место крайнему испугу. Он начал с того, что послал за паном Пшепендовским, только что вернувшимся из Кракова и ожидавшим писем в Москву. Не успевший отдохнуть от быстрой скачки и дальней дороги, шляхтич явился на зов и с обычной своей важностью взялся разуверять маршалка:
– Я оставил Москву девятого числа, – говорил он, деловито прохаживаясь перед паном Бучинским. – Оставил среди блестящих торжеств. Весь город ликовал. В Кремле готовился большой пир. Все знатнейшие бояре – Мстиславские, Шуйские, Нагие, Басмановы, Телятевские, Кашины, Морозовы, Щербатовы, Салтыковы, Голицыны – съезжались во дворец с поздравлениями. Все эти важные люди с покорностью и с бесчисленными поклонами давали дорогу нашим: воеводе Сендомирскому, князю Вишневецкому, Стадницким и Тарлам. Никогда я не поверю, будто какое-нибудь несчастье могло случиться с нашими и с нашим царём... Да и что может случиться? Панна Марина не только супруга московского царя, она сама – коронованная московская царица, коронованная и помазанная миром царица – заметьте это – прежде, нежели совершился обряд бракосочетания!.. В случае смерти царя она всё-таки останется царицей и, разумеется, не даст в обиду своих... А эту жидовку, что распускает глупые слухи, надо бы, знаете, по-московски, или как делывал царь Борис: выколоть ей один глаз да вырезать язык. Поверьте, перестанет рассказывать нелепицы...
Маршалок, поверив пану Пшепендовскому, успокоился и отпустил его. Но тотчас же им опять овладело беспокойство. Мало ли перемен могло произойти с тех пор, как шляхтич оставил Москву?.. С его отъезда прошло много времени. Бучинский опять послал за Пшепендовским и велел ему как можно скорее взять лошадей и скакать, очертя голову, во Львов, прямо в иезуитскую коллегию. Там разузнать всё обстоятельно, зайти также в православный Онуфриевский братский монастырь, поговорить с монахами и, не отдыхая, спешить обратно.
– Расстояние – всего десять немецких миль, или семьдесят вёрст. Успеешь завтра перед вечером вернуться. Живее, живее, мой дорогой. Чтобы через четверть часа тебя уже не было в Самборе...
– Поверьте, достопочтенный пан маршалок! – начал было пан Пшепендовский, собиравшийся хорошенько выспаться. – Никакой опасности нет...
– Чтобы духу твоего здесь не было! – вскричал пан Бучинский и сердито топнул ногой.
Спустя полчаса пароконная телега с паном Пшепендовским, подпрыгивая на мосту через овраг, ехала уже во Львов за справками, и шляхетный гонец начал клевать носом.
Весь этот день пан Бучинский не мог успокоиться: раза три он заходил к ксёндзу Помаскому, но ничего не узнавал нового. Два раза присылала за ним пани Мнишек, до которой через девичью тоже дошли смутные страшные слухи, конечно, с прибавлениями. Но бедный старик не мог сообщить ничего утешительного. В этот день он постарел на десять лет, осунулся, робко посматривал по сторонам и всё к чему-то прислушивался, как будто и его собирались убить коварные московские люди. Ночью несколько раз выходил он на крыльцо и слушал, не стучит ли телега Львовского гонца, хотя по расчёту времени тот едва мог успеть доехать до Львова. Но ясная, майская, тёплая ночь торжественно молчала, и старый маршалок стоял долго, вслушиваясь в тишину.
Едва только начался новый день, как Бучинский стал с нетерпением дожидаться вечера: ходил из угла в угол, бродил, как неприкаянный, по двору, ходил и за Самбор по львовской дороге, навстречу своему гонцу, и возвращался в тупом отчаянии со всеми признаками сильного утомления. Но не отдохнув и пяти минут, он опять вскакивал и посылал кого-нибудь из дворовых на колокольню костёла караулить приближение Пшепендовского или приказывал ехать ему навстречу и торопить... Пани Мнишек несколько раз присылала строжайший приказ, чтобы гонец, не теряя ни минуты, явился тотчас по прибытии из Львова к ней с докладом ...
День, жаркий и сухой, тянулся с ужасающей медлительностью. В начале ночи пан Бучинский, истомлённый беготнёй и смертельным беспокойством, выйдя на крыльцо послушать, не едет ли гонец, сел на ступеньке, приклонил голову к перилам и крепко заснул.
Его пробуждение было ужасно...
Люди стоят на крыльце с фонарями. Пан Пшепендовский с одной стороны, а ксёндз Помаский с другой поддерживают под руки какое-то страшное подобие бывшего царского секретаря, красавца Яна. Поднимаясь на пятую ступеньку, бедняга запыхался так, как будто вбежал на высокую гору. Он приостановился, закашлялся, тупо посматривая на свечу в фонаре, и яркая кровавая полоса показалась у него на губах и на красивой бородке. Бедный старик застонал, как в тяжёлом сне, вскочил и едва не упал с крыльца. Ян узнал отца, горько улыбнулся ему, хотел что-то сказать, но опять закашлялся. Двое слуг подхватили его, внесли в спальню маршалка и уложили в постель. Больной, сжимая руку отца в своей исхудалой и запылённой руке, тотчас впал в забытье. Отец едва узнавал милые, дорогие черты, обезображенные болезнью; некоторое время смотрел на них, потом оставил сына и перешёл в свой кабинет, где пан Пшепендовский собирался рассказывать ксёндзу, как и что было в Москве. Но рот его был наполнен закуской, так что он мог только показать маршалку на свои губы и как-то промычал, что он два дня не ел. Маршалок опять прошёл к сыну, постоял возле него, снова вернулся в кабинет, потом в очередной раз наведался к больному и наконец услышал повествование пана Пшепендовского:
– В иезуитской коллегии всё уже известно, и мне всё рассказали. Выхожу от иезуитов и прямо иду на постоялый двор, чтобы взять свежих лошадей, а там пан Бучинский: сидит в телеге и торопит лошадей. На нём лица не было, и я с трудом его узнал. Сел с ним и поехал. Но очень скоро ехать было нельзя, потому что больной, видимо, слабел, а тряская дорога жестоко утомляла его. Однако рассказал он мне всё, что видел.
Я готов вам пересказать, только меня жажда мучит ужасная...
– Что он видел – это вздор! – вскричал маршалок. – А чем он болен? Что он – ранен, что ли? Да говори ты, дьявол!..
В это время ксёндз Помаский, подойдя к шкафу, налил из огромной бутыли вина и подал его гонцу.
– Ну вот прекрасно! – сказал пан Пшепендовский. – Это он расшибся: выпрыгнул из окна вслед за Димитрием и разбил себе грудь. Это ничего, это пройдёт. Не беспокойтесь! Я уж ручаюсь вам, что пройдёт... А дело было вот как... Димитрий был ужасно самонадеян и доверчив. Ему не раз говорили, что готовится против него какой-то заговор, только он ничего не желал слушать. А потом, когда наших наехало слишком много, разумеется, вооружённых, то москвичи стали гневаться и роптать. Пиры и веселье после свадьбы продолжались целую неделю: вся Москва пировала. Но пан Бучинский замечал уже, что много является и угрюмых, и недовольных лиц. Особенно, кажется, сердились они на польскую музыку, игравшую возле соборов. Как бы там ни было, только семнадцатого мая, в субботу, рано поутру, раздался во всех московских церквях набат. Пан Бучинский услышал и проснулся. Также проснулся и Басманов, царский любимец. Они собрались будить царя; но тот сам вышел и послал Басманова узнать, в чём там дело. А бешеная толпа с оружием уже окружала дворец. Басманов высунулся в окно. Ему закричали: «Отдай нам своего Гришку Отрепьева!» В карауле оставались только тридцать алебардщиков, так что нельзя было и помышлять о надёжной защите. Пришлось спасаться. Басманов попробовал уговорить толпу, но его тотчас убили. Тогда пан Бучинский по разным переходам проводил царя подальше, в такую комнату, откуда видны были стрельцы, стоявшие на страже. Легко было выпрыгнуть в окно на леса, приставленные к стенам для иллюминации, и по ним спуститься в другую сторону от толпы. Димитрий прыгнул, но сорвался с лесов, упал на мостовую, разбил себе голову, вывихнул ногу и потерял сознание. Пан Бучинский тоже спрыгнул, тоже разбил себе грудь, но сгоряча вскочил и побежал звать стрельцов на помощь. Возвращается, а Димитрия уже нашли, отнесли и положили на фундамент разрушенного Борисова дворца, и более десяти тысяч народу окружали его. Ни пробиться к царю, ни заставить себя выслушать не было никакой возможности. Среди шума толпы едва послышался ружейный выстрел. Потом опять что-то кричали, и через час, покрытый ранами, обезображенный труп народ уже тащил по земле, привязав к ногам верёвку, из Кремля на Красную площадь. Там поместили его на маленький столик, положили возле него волынку, а в рот воткнули дудку. Эта насмешка означала, что его считают скоморохом. Под столом на земле лежал также обезображенный труп Басманова... В то же время по всей Москве шла жесточайшая резня поляков. Сколько их было избито, сказать трудно; но воевода остался жив. Его посадили в тюрьму вместе с дочерью. Отцы иезуиты тоже уцелели. Когда народ вломился в ворота занимаемого ими дома, они сняли со стен московские образа, приложили их себе к груди и выступили против мужиков. У последних, конечно, опустились руки. Посланники Олесницкий и Гонсевский тоже уцелели. Посольского двора москвичи вовсе не трогали и пропускали всякого, кто называл себя посольским человеком. Из придворных дам многие спаслись...
В это время в соседней комнате послышался страшный стон и потом раздался крик по-русски:
– Ради Бога! Спасите же своего царя!..
Больной в то же время проснулся и опять закашлял.
Маршалок и ксёндз Помаский бросились к Яну. Несколько знакомый с нехитрой медицинской наукой того времени, ксёндз отлично успел пособить больному. Понемногу Ян успокоился и снова заснул на высоко подложенных подушках, почти в сидячем положении. Гонец воспользовался этим временем, чтобы ещё несколько подкрепить свои силы колбасами, и так как дорога к шкафу была ему уже знакома, то он поспешил налить себе ещё стакан вина.
– Как же успел уехать мой Ян из этого ада? – спросил маршалок, выходя на цыпочках от сына.
– У него уже готов был пакет на имя польского короля и грамота для гонца. Издали простившись со своим бывшим царём и другом, он отправился в Ямскую слободу, взял лошадей и поскакал сюда под именем гонца. Его умение чисто говорить по-русски, его бородка, а в особенности страх московских людей перед всякой грамотой с печатью помогли государеву секретарю благополучно выбраться из города и, не встречая нигде задержки, мчаться день и ночь без отдыха. Ну и устал он, конечно, и исхудал. Только вы не бойтесь, это у него сейчас пройдёт. Выспится хорошенько и проснётся здоровый. В этом я вам ручаюсь!.. А Пшепендовский, заверяю вас, Панове, кое-что понимает...
К полудню Ян проснулся. Он чувствовал, что боль в груди почти совсем прошла, кашель его не очень мучил. Но одышка всё не покидала его, и крайняя слабость как будто приковывала его к подушке. Глаза его как только открылись, прямо остановились на ксёндзе Помаском, шёпотом читавшем молитвы.
– А где отец? – спросил больной.
– Здесь, здесь, мой любимый Янек! – отозвался маршалок, сжимая руку сына. – Как же ты себя чувствуешь, мой мальчик?
– Уже гораздо лучше! Я как будто отдохнул... Долго я спал? Скажи. Полдня? Правда?
– Полдня, мой милый! И как же я счастлив, что ты успел ускользнуть из этого ада.
– Да, это было похоже на ад! – согласился Ян. – Возмутившаяся чернь, терзающая труп своего благодетеля... это хуже сатанинской оргии. А причина всему этому – наша вопиющая бестолковость. Наехали, шумят, скачут по улицам, стреляют из ружей, похваляются, затевают ссоры и храбро защищаются пистолетами, саблями и копьями от безоружных мужиков. Народ и разозлился – добрый, кроткий, терпеливый, великодушный народ, выносивший безропотно даже жестокости Ивана Грозного...
– Не очень-то кроток, видно, этот народ! – заметил довольно едко ксёндз. – Решился на такое страшное злодеяние!..
– Вздор! – бросил Ян, с трудом переводя дух. – Народ был обманут. Шуйский уверил народ, будто поляки хотят извести царя. Народ бросился его защищать. Но слепая, тёмная толпа сама не знает, чего хочет, и, собравшись кучей, слушается какого-нибудь десятка подстрекателей. И этого десятка не сыскал бы Шуйский, если бы только знали меру и захотели с любовью, а не с нахальством и насилием обратиться к русским людям. Ну и не надо! Сами погубили своё дело, и сколько сотен человек заплатили жизнью за то, что вот эти слишком торопились торжествовать...
– Кто – вот эти? – спросил старик с испугом, опасаясь, что сын его опять начинает бредить.
– Иезуиты! – ответил Ян, показывая глазами на ксёндза. – Вздумали целый народ разом обратить в свою веру, перемудрили, нажужжали Димитрию в уши, сбили его с прямого пути и погубили своё же собственное дело и многие сотни своих соотечественников... а сами под конец спрятались за московские образа... Безмозглые...
Он дышал всё труднее, говорил всё с большими перерывами, и глаза его понемногу закрывались.
– Сын мой! – подал голос ксёндз Помаский. – Наступает минута, важнейшая для каждого из нас...
– Отец!.. – крикнул изо всей силы больной.
– Что, мой милый, моё сокровище?
– Уведи ксёндза! – сказал громко Ян каким-то неестественным голосом.
– Но милый друг! Наступает минута, важнейшая...
– Дай мне спокойно умереть! – простонал опять больной.
Старик вызвал ксёндза в другую комнату, чтобы несколько успокоить волнение сына, и тотчас опять вернулся к нему.
– Помнишь, отец, – заговорил Ян слабеющим голосом, – помнишь, ты спрашивал меня, какой я веры, и не кальвинист ли я?.. Знаю, что наступает важнейшая минута... Утешь же меня... Но не пугайся... и не бойся ты на этот раз иезуита... Пошли... знаешь за кем?.. Проси... отца Герасима!..
Через час отец Герасим с запасными Дарами торопливо, но с достоинством вошёл в комнату умирающего. Проходя через кабинет, в котором сидел ксёндз Помаский, до самого появления священника не знавший, что за ним послан экипаж, отец Герасим скромно потупил взор и прошептал:
– Да воскреснет Бог и да расточатся врази его!..
Долгое время ксёндз не мог прийти в себя от изумления. Но потом, когда в соседней комнате шёпот исповеди закончился и послышалась ясно и торжественно произносимая напутственная молитва, он вскочил, нахлобучил шляпу и, скорыми шагами идя к своему дому, проговорил:
– Какое же это, однако, скверное предзнаменование...
Ян, или Иван, Бучинский умер спокойно, напутствуемый молитвами отца Герасима. По его просьбе священник долго после того служил панихиды, поминая рабов Божиих Димитрия и Ивана...
Воевода сендомирский более двух лет просидел в московском плену, а его дочь ещё восемь лет содействовала смутам в московской земле.
Кто был самозванец? Этого история не знает...
Андрей Ефимович Зарин
ДВОЕВЛАСТИЕ

Часть первая
БОЖИЙ СУД
IСкоморохи
 нязь Теряев-Распояхин едва женился, сейчас же отстроил усадьбу в своей любимой вотчине под Коломной. Быстрая речка омывала её с задней стороны, на которой раскинулся огромный сад. Передней стороной усадьба выходила на проезжую дорогу и казалась маленьким острогом, так высок и плотен был частокол, так массивны были ворота со сторожевой башенкой. В неспокойное время строился князь – в то время, когда поляков и хищные войска самозванца сменили придорожные разбойники, когда грабёж и убийство творились и на проезжей дороге, и на городских улицах, и в самих домах. Нередко по службе царской князь Теряев отлучался из дома на долгое время и, дорожа покоем жены и своего маленького сына, выстроил прочные хоромы.
нязь Теряев-Распояхин едва женился, сейчас же отстроил усадьбу в своей любимой вотчине под Коломной. Быстрая речка омывала её с задней стороны, на которой раскинулся огромный сад. Передней стороной усадьба выходила на проезжую дорогу и казалась маленьким острогом, так высок и плотен был частокол, так массивны были ворота со сторожевой башенкой. В неспокойное время строился князь – в то время, когда поляков и хищные войска самозванца сменили придорожные разбойники, когда грабёж и убийство творились и на проезжей дороге, и на городских улицах, и в самих домах. Нередко по службе царской князь Теряев отлучался из дома на долгое время и, дорожа покоем жены и своего маленького сына, выстроил прочные хоромы.
Тотчас за воротами был ещё огород, а за ним уже шёл широкий двор с мощёной дорогой к теремному крыльцу. По сторонам были разбросаны служилые избы для охранной челяди, во главе которой стоял любимец князя и княгини, Антон. Дальше за ними размещались строения бани, конюшни, кладовок, погребов, повалушек,[2]2
Повалуша – летняя спальня.
[Закрыть] а терем в два этажа с башенной пристройкой, крепкими дубовыми стенами, толстой дверью, тяжёлыми ставнями стоял посреди крепких избушек, как богатырь во главе своей рати, и князь, выстроив его, с довольством бахвалился:
– Сам пан Лисовский наедет, так и от него со своими людьми отобьюсь.
В лето 7128-го по счислению того времени, а по нашему – в 1619 году, в жаркий полдень 11-го июня молодая княгиня Анна Ивановна вышла на заднее крыльцо терема посидеть на крылечке, подышать чистым воздухом и полюбоваться своим сыном – семилетним богатырём, который резвился на заднем дворе с сенными девками.
Крылечко было широко и просторно. Молодая княгиня сидела на верхней ступеньке на толстом ковре; подле неё стоял жбанчик холодного кваса, и она наслаждалась тихим покоем счастливой женщины.
Молода она и красива, даже дородной стала, и не намилуется с ней князь, когда дома. Думала ли она, внучка бедного мельника, в такой почёт попасть? Чего Господь не делает! И она с умилением обвела кругом взглядом. Разгорелся её Миша, распарился, чёрные волосёнки, подстриженные кружком, сбились на лоб и завесили его сверкающие радостью и весельем глазки. Молодые, здоровые девки с весёлым смехом гоняются с ним, играя в горелки, и летает он, соколом гоняясь за ними. Огромная радость для матери любоваться своим первенцем.
Для полного счастья молодой княгине не хватало только её любимого мужа. Великое дело совершалось для всей Руси в это время; радость наполняла сердца всех, любящих своего царя. Из тяжкого польского плена возвращался Филарет Никитич, великий подвижник за свою родину, отец царствующего Михаила. Вся Русь делила радость своего царя, первого из Дома Романовых, и князь Терентий Петрович был отозван ради того случая в Москву. Любил его царь Михаил за его воинскую удаль, за смелые речи и решительный нрав. Любя, пожаловал он его в окольничьи и скучал без него, несмотря на то, что сильные братья Салтыковы всячески очернить его старались.
Мягкий царь Михаил, хотя и склонялся под волею своей матери и её приспешников Салтыковых, а всё же не мог не ценить того, кто, не щадя живота своего, от молодой жены и сына-малютки ходил имать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою[3]3
...ходил имать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою... – т. е. Марину Мнишек с Иваном Заруцким и атамана Михаила Баловню.
[Закрыть], и всяких других разбойников, никогда не отказываясь от ратного дела.
Чувствуя вражду против себя царских клевретов, князь Теряев много раз говорил жене:
– Перейдём жить в Москву, там я палаты выстрою!
Но княгиня каждый раз отказывалась.
– Не привыкла я к городской жизни, князь, – говорила она, – не неволь меня. Люблю я простой обычай, да и сам знаешь, мне ли, глупой, угнаться за боярынями. Слышь, они и брови чернят, и щёки сурмят, и лицо белят. Где мне тягаться с ними? Только посмех всем будет!
И князь покорялся ей, находя в её словах немало правды, и таким образом делил время между Москвою и Коломною.
Плотно покушала княгиня за обедом, сластей наелась, и теперь её брала измора; то и дело прикладывалась она к жбанчику, чтобы освежиться. Но глаза уже начали слипаться, и княгиня поднялась, тяжело вздыхая. Вдруг до её слуха донеслись звуки волынки и резкое бряцанье накр[4]4
Накры – ударный музыкальный инструмент типа парных литавр.
[Закрыть]. Анна Ивановна приостановилась и окликнула одну из девушек:
– Матрёша, сбегай до ворот! Глянь, никак потешные шумят.
Девушка стрелою помчалась на передний двор и через минуту вернулась, весело крича:
– Скоморохи идут!
Княгиня улыбнулась. Сон на время оставил её.
Девушка подбежала к крыльцу и, едва переводя дыхание, быстро заговорила:
– И уж что за занятные. Почитай, полтора десятка будет. Медведя ведут с козою, а у других сопелки, домры, накры. Один с куклами, а другой с гудками. Старый-старый!.. Повели позвать.
– Повели позвать, княгинюшка! – смело заголосили сбившиеся в кучу девушки, а Миша, вбежав на крыльцо, обнял колена матери и запросил тоже:
– Повели, матушка! Золотце, прикажи!
И самой княгине хотелось развлечься. Она улыбнулась и кивнула головою.
– Ин быть по-твоему! – сказала она, гладя чёрную головку Миши, и приказала той же Матрёше:
– Вели им к нам сюда идти!
Матрёша вспрыгнула козою и скрылась за зданиями.
Княгиня снова опустилась на верхнюю ступеньку крылечка, маленький Миша сел и прижался к её коленам, а девушки столпились у крыльца. Через несколько минут послышались шум шагов, осторожный говор, бряцание цепи, и из-за угла терема вышла толпа скоморохов. Они подошли ближе, остановились в почтительном отдалении – и земно поклонились княгине.
– Встаньте, встаньте, прохожие люди! – ласково сказала княгиня.
Скоморохи встали и выпрямились, держа в руках войлочные колпаки и гречишники.[5]5
Гречишник – валяная войлочная шляпа.
[Закрыть]
Их было человек двенадцать, и они казались шайкою разбойников – так дерзок и лукав был их внешний вид. Впереди всех стоял поводырь с медведем. Огромный, с рыжей бородою, с одним глазом и чёрной дырою на месте другого, в сермяге и с босыми ногами, он производил отталкивающее впечатление. Рядом с ним, держа в поводу козу, стоял маленький паренёк в пестрядинной рубахе, с лицом, изъеденным оспою, с жидкими волосёнками на остроконечной голове; его раскосые глаза бегали во все стороны, а тонкие, бескровные губы растягивались до самых ушей. За ним стоял чудашник – высокий, слепой старик с угрюмым лицом, и рядом с ним мальчик, державший гудок старика. А дальше стояла толпа рыжих, чёрных, белых оборванцев с беспечными лицами и наглыми взглядами.
– Куда путь держите? – ласково спросила княгиня.
Рыжий поводырь тряхнул кудрями и ответил:
– На Москву, государыня-матушка, слышь, там на три дня от царя веселие заказано…
– Так, так, – сказала княгиня, – к нашему царю-батюшке его батюшка ворочается.
– Дозволь потешить! – проговорил тот же поводырь.
– Что же, потешьте! Чем тешить будете?
– А что повелишь нам, смердам. Есть у нас и гудошник – песню споёт, есть и куклы потешные, и медведь наученный, и коза-егоза, и плясуны, и сказочники. Что повелишь, государыня?
Девушки умоляюще взглянули на княгиню, и она, сразу поняв их желания, сказала:
– Ну, кажите всё по ряду!
Рыжий великан поклонился и дёрнул медведя за цепь. Тот зарычал и поднялся на задние лапы, девушки с визгом сжались, как испуганное стадо. Миша прижался к коленам матери, да и сама княгиня побледнела, услышав страшный рёв.
– Ну, ну, Мишук, поворачивайся! – грубым голосом заговорил косой поводырь. – Покажи на потеху честным людям для смеху, как лях кобенится, на красну девку зарится!
– А ты, коза-дереза, пляши для веселия, как смерд с похмелия! – загнусил его товарищ, дёргая козу за рога.
В это время загремел деревянный барабан, зазвенели накры (род теперешних тарелок), затрубил рожок, и началось представление. Коза с усилием поднялась на задние ноги и завертелась на месте, а медведь, рыча, поджал передние лапы, словно в бока, и, откинув голову, стал важно ходить взад и вперёд.
Лицо княгини озарилось улыбкою, девушки, поджав руками животы и перегибаясь, звонко смеялись.
– А покажи теперь, как этот лях до лесу утекает, – продолжал поводырь.
Медведь стал на четвереньки, жалобно замычал и поспешно побежал под ноги своему хозяину, а коза то опускалась на передние ноги, то вновь поднимала их и опять вертелась. Показал медведь, как девки горох воруют и как баба в кабак идёт похваляется и, из кабака выйдя, по земле валяется.
Потом его сменили плясуны. Четыре парня под музыку затеяли пляску.
Подробного описания тогдашней скоморошьей пляски до нас не дошло, но, по словам Олеария, срамота этих плясок была неописуема. И с ним можно согласиться, судя по тому рисунку, который он сделал, изобразив одну из «фигур» двух пляшущих скоморохов. Современный писатель не решается описать этот рисунок, но в тогдашнее время понятия о приличном и неприличном были иные, и теремные девушки без всякого зазора потешались скоморошьим плясом.
После плясунов выступил мужичонка с куклами. Он надел на себя нечто вроде кринолина, потом вздёрнул его выше головы и образовал таким образом некоторое подобие ширмы, из-за которой стал показывать кукол, говоря за них прибаутками (некоторое подобие современного Петрушки).
Девушки покатывались со смеха, Миша не отрываясь смотрел на кукол загоревшимся взором, и княгиня милостиво улыбалась скоморохам…
А потом выступил гудошник и, перебирая струны гудка, запел заунывную длинную песню о том, как Шуйские погубили славного Скопина[6]6
...как Шуйские погубили славного Скопина... – говорили, что князя М. В. Скопина-Шуйского отравила его тётка, Екатерина Скуратова-Шуйская.
[Закрыть], как пришёл он на пир и жена его дяди подносила ему чару зелена вина, как замутилась голова его с того зелья, что было подсыпано в вино, и как привезли его умирающего домой, где горьким плачем и воплями встретила его тело молодая жена.
Затуманились все, слушая заунывный, гнусливый речитатив под скорбное гудение струн, и по белому лицу княгини скатилась слеза. Но скоро грусть, навеянная песней, сменилась истомою, и княгиня поднялась с крылечка.
– Ну, люди добрые, потешьте девушек, – приветливо сказала она, – а я пойду.
Она хотела уйти, но вдруг приостановилась.
– Дуня, – сказала она, краснея, – принеси ломоть хлеба, да посоливши.
Девушка побежала, а поводырь, быстро сообразив в чём дело, дёрнул медведя и подвёл его к самому крыльцу.
– Вещун он у меня, – вкрадчиво сказал он.
Дуня принесла ломоть. Княгиня боязливо подала медведю хлеб, и тот, взяв его, глухо замычал от удовольствия.
– Замычал, замычал! – закричали девушки.
– С князинькой! – нагло сказал поводырь, низко кланяясь.
Княгиня вспыхнула, как маков цвет, и сказала, обращаясь к пожилой девушке:
– Мишу наверх отведёшь, немного погодя, а их Степанычу накормить вели, да пиво пусть выставит! – и она вперевалку пошла в покои, где было полутемно и прохладно.
– Ну что вам, девушки, любо? – совершенно меняя тон, спросил рыжий. – Сплясать, что ли?
– А хоть спляшите, а там опять кукол, – бойко отозвалась Матрёша.
Пожилая девушка села подле Миши и ласково обняла его. В это время Миша вдруг вскрикнул. Ему показалось, что слепой старик стал зрячий и пристально смотрит на него.
– Что ты, родимый? – встревожилась девушка, но Миша уже оправился и смотрел на скомороший пляс, а в это время слепой гудошник под грохот нестройной музыки сказал рыжему:
– Как его ты возьмёшь, Злоба? Ишь сколько девок вокруг. Какой вой подымут!







