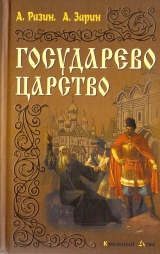
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
IV
 конце февраля 1605 года, когда варшавский сейм завершился, воевода, всё ещё больной и обложенный подушками, возвратился в Самбор. Люди достали его из кареты вместе с пуховиком и бережно отнесли в кабинет. Жестокая подагра мучила старика – так, что он даже похудел. От болезни, а также от неприятных известий он был не в духе, и когда маршалок двора явился к нему за приказаниями, воевода прогнал его. Не так легко было отделаться от королевского духовника, который явился со своей цветущей улыбкой на благообразном лице и, поздравляя Мнишка с возвращением, изъявил сожаление, что он не был на сейме.
конце февраля 1605 года, когда варшавский сейм завершился, воевода, всё ещё больной и обложенный подушками, возвратился в Самбор. Люди достали его из кареты вместе с пуховиком и бережно отнесли в кабинет. Жестокая подагра мучила старика – так, что он даже похудел. От болезни, а также от неприятных известий он был не в духе, и когда маршалок двора явился к нему за приказаниями, воевода прогнал его. Не так легко было отделаться от королевского духовника, который явился со своей цветущей улыбкой на благообразном лице и, поздравляя Мнишка с возвращением, изъявил сожаление, что он не был на сейме.
– Не до сейма мне теперь, любезный пан ксёндз-благодетель! – ответил воевода и как-то захлебнулся и сморщился от боли в закутанных ногах. – Обе мои болезни – и подагра, и этот самозванец – расстроили меня так, что на белый свет бы не глядел.
Ксёндз Помаский не конфузился от такого неласкового приёма, когда ему нужно было поговорить и кое-что выспросить. Поэтому он тотчас принял озабоченный вид, занялся болезнью воеводы и дал ему несколько очень полезных советов. Потом он перешёл к разговору о царевиче и спросил:
– Отчего же, ясносиятельный пан воевода, с такой строгостью и так немилостиво говорите вы о нашем царевиче?
– Какой он царевич? – вспылил вдруг воевода. – Он не царевич, а вор и самозванец. Только опозорил меня на всю Польшу на старости лет да ввёл в неоплатные долги. Мальчишка! Дрянь! И ещё осмелился претендовать на брак с моей дочерью!..
– Что же такое случилось, любезный пан воевода? Что произошло?
– А вы разве не слыхали? Всего на один день остановился я отдохнуть во Львове и там узнал всю его глупость. Без нас он ушёл к Севску. Недалеко от этого города есть какая-то деревенька, называемая Добрыничи. Там стояло шестьдесят тысяч московского войска. Что же вы думаете? Он вздумал напасть! Сказано было этому чурбану, что не следует искать сражения, а напротив, надо осторожно заводить сношения с московским войском и понемногу склонять его на свою сторону. Нет, не послушал. Со своей сволочью полез в битву, и так как поляков оставалось у него очень мало, то и был разбит. Говорят, что он потерял семь или восемь тысяч человек и едва не попался в плен. Туда бы ему и дорога – молокососу! Однако раненый конь вынес его из свалки, и он успел уйти в Рыльск, а оттуда в Путивль. Остальные поляки покидают его и возвращаются на родину. Понятное дело, что он теперь пропадёт, как малый карась в пруде, населённом крупными щуками.
– Мне кажется, – возразил ксёндз с добродушной улыбкой, – что если он ушёл и с ним ушли два или три добрые советника, то далеко ещё нельзя считать дело потерянным. Пан воевода знает очень хорошо, что если от большого пожара останется только одна маленькая искорка, то ветерок, посланный Провидением, или осторожное дуновение, производимое искусным человеком, может оживить эту искорку и вновь разжечь большое пламя. Не следует только терять надежды...
– Нечего терять, когда всё и так потеряно! – отвечал воевода и опять весь болезненно сморщился и застонал от боли.
– Ничего не потеряно, когда есть ещё искра. Я просил бы только ясносиятельного пана воеводу обратить внимание вот на какое обстоятельство: московские военачальники потеряли всякую меру в наказании Северской области за то, что она почти вся признала Димитрия своим царём. Они не хотят, кажется, оставить в живых никого: рубят на части и расстреливают не только мужчин, но и всех без разбора – женщин и даже детей. Московских людей они считали изменниками. Пусть так. Они истребляют и поляков, попавших им в плен, и не считают их военнопленными под тем предлогом, что между Польшей и Московским государством не было объявлено войны. Как вы думаете, не возбуждают эти жестокости негодования?.. Не обратит ли это всех к нашему царевичу – доброму, великодушному и просвещённому?.. У нас есть положительные известия, что во всех церквях Московского государства по приказанию Патриарха проклинают Гришку Отрепьева, который будто бы назвался Димитрием. Но точно так же и мы знаем, что народ слушает сии проклятия равнодушно: «Пусть проклинают Гришку! От этого царевичу ничего не делается! Царевич наш – истинный Димитрий, а никакой не Гришка!..» Вот что говорят в народе. Царь Борис нигде не показывается, сидит у себя во дворце и советуется с разными знахарями и колдуньями. Всё это такие добрые знаки, что мы не имеем ни малейшего права приходить в отчаяние или унывать.
Однако все доводы ксёндза Помаского не успокаивали воеводу. Он глубоко ошибся в своих расчётах. Он рассчитывал к новому году торжественно вступить в Москву. Од наделал долгов в надежде, что Димитрий, вступив на престол, их заплатит. Он уже с некоторыми из своих знакомых говорил о Москве с большой уверенностью и звал их туда к себе погостить. Вынужденный вернуться ни с чем, кроме своей злой подагры, он был глубоко уязвлён в своём самолюбии и жестоко негодовал на Димитрия, а заодно и на королевского духовника – за то, что он поощрял его в признании царевича.
После двухчасовой беседы ксёндз Помаский ушёл, не успокоив больного и раздражённого воеводу, который несколько времени оставался один, тщетно пробуя заснуть. Потом он потребовал к себе старшую дочь.
В кабинет вошла Марина. Она была небольшого роста, с очень красивыми чертами лица, с тонкими губами и несколько узким подбородком. В чёрных глазах её виделись ум и сила. Она опустилась на колени возле кресла воеводы и почтительно поцеловала отцу руку.
– Нездоровится тебе, мой ойче любимый! – сказала она, с участием смотря ему в глаза. – Растревожил тебя этот поход.
– Не болезнь меня мучит, дитя моё! – ответил воевода угрюмо. – А тревожит моя собственная глупость! Поверил я мальчишке, пройдохе, обманщику, самозванцу и обещал ему тебя. Наделал шума на всю Польшу, на всю Европу, признав его царевичем... Вот что меня сокрушает! Просто убивает меня мысль, что ты, моя Марина, звалась наречённой невестой какого-то беглого дьячка Гришки... Прости меня, дитя моё! Но я мечтал о троне для тебя!.. На старости лет попался я, старый воробей, в грубую, топорную ловушку: вот что меня съедает... Отказал князю Корецкому, богатейшему после Вишневецких из украинских землевладельцев... И погубил тебя!
– Прости меня, отец! – сказала кротко, но твёрдо Марина. – Прости, что я с тобой не согласна. Ты вовсе не погубил меня. Димитрий – я вполне в это верю – достигнет престола. И всё, о чём ты для меня мечтал, сбудется. Ведь ещё далеко не всё потеряно. Царевич...
– Какой он царевич! Не говори ты мне этого! Не произноси ты при мне никогда этого слова, которое так резко, так жестоко напоминает мне, что я оказался в дураках!.. И забудь ты думать об этом самозванце!
– Я готова исполнить твою волю, отец. Но мне хотелось бы, чтобы ты несколько справедливее взглянул на это дело. Правда, войско его было разбито при Добрыничах и потеряло восемь с половиной тысяч человек. Но кто же из полководцев никогда не терпел поражения? Наши должны были скрыться в Путивль. Но за то к Димитрию тотчас же присоединились Елец, Орёл, Царёв-Борисов, Оскол и Воронеж. Ведь это почти вся Южная Русь, то есть лучшая половина Московского государства...
– Откуда ты это знаешь? – спросил гневно воевода. – Ты больше меня знаешь об этом проклятом деле...
– Я знаю это от королевского духовника, – отвечала кротко Марина. – Ксёндз Помаский постоянно сообщает нам о ходе дел в обозе, а сегодня после разговора с тобой он получил свежие новости и был так добр, что пришёл нам рассказать. По-видимому, дела совсем не так дурны. Из Борисова войска и люди переходят к ца... к нам толпами, и народ выражает истинно московскую преданность к... своему новому повелителю.
Воевода крепко призадумался. Он видел очень ясно, что Димитрий или отыскан, или изобретён ксёндзами и находится под горячим их покровительством. Но вот всё же вопросы: изобретён или отыскан? самозванец или царский сын?.. Самая возможность таких вопросов уже сердила воеводу, и в великом негодовании он запретил и дочери, и всем своим домашним говорить при нём о московских делах. И молчаливый, гневный воевода несколько дней никого не принимал и медленно поправлялся от своей мучительной болезни.
Так прошёл весь март, прошла половина апреля. Приехал старик Фирлей; несколько дней гостил в Самборе Тарло; но не было ни праздников, ни торжественных обедов, и музыканты упражнялись в своём искусстве где-то далеко от замка.
В середине апреля королевское местечко Самбор было странно оживлено. Прибыло из Путивля от царевича Димитрия, признанного князя Северской земли, посольство и остановилось в поле близ местечка, разбив две большие палатки. Посольство ехало в Краков, но по пути должно было остановиться в Самборе, чтобы вручить сендомирскому воеводе письмо от царевича. Посланником был князь Иван Андреевич Татев, а при нём – посол от города Путивля и всех городов и уездов Северской земли, от духовных и от мирских всякого звания людей выборный Сулеша-Булгаков. Не теряя времени на отдых, они прямо отправились в церковь и пригласили отца Герасима отслужить молебен. После службы князь Татев вручил священнику очень значительный для бедной самборской церкви вклад, пятьдесят золотых ефимков, со строгим наказом за всякой обедней молиться о здравии и многолетии царевича и великого князя Северской земли Димитрия Иоанновича. Послы посоветовались с отцом Герасимом, как им увидаться с воеводой, и решили послать в замок потребовать к себе маршалка пана Бучинского. Это поручение охотно принял на себя поповский сын Яков. Послы отправились отдыхать, а священник поспешил к супруге.
– Благодарение Господу! – обратился он к попадье. – Царевич наш остаётся верен православию! Именитые послы прибыли от него, коренные русские люди, князь Татев, черниговский воевода, и Сулеша-Булгаков, от всей земли выборный человек. Не забыл царевич наших молитв и благословения убогой самборской церкви: прислал вклад, да истинно царский... Смотри-ка, женщина!
И торжествующий отец Герасим положил на стол внушительный кожаный кошелёк. Пока бедная попадья любовалась золотыми монетами, о существовании которых она знала исключительно по слухам, священник не переставал говорить:
– Прежде всего новую кровлю на церковь сделаем. Теперь не запретит мне воевода возить лес, когда я могу его купить. Пошлём также вклад львовскому братству, чтобы оно пособило немного благолепию нашего храма... Да, неисповедимы пути Господни! Северская земля поддалась царевичу вся и присягнула ему. И видно, правду тогда говорил Антон, что народ там настоящий русский, как у нас. Воевода Татев тоже ведь воевода, как наш, здешний, и молится, и говорит вовсе по-русски. Его товарищ – тоже. Из слуг посольства ни одного нет татарина, и стояли они в храме Господнем так же благочестиво, как наши бедные хлопы... И ведь сначала я было ошибся. Меня спрашивают, как бы увидать воеводу? Я и говорю, чтобы в замке они спросили сначала маршалка двору, он и доложит. Как вскинет на меня глазами князь Татев! Насупился так грозно да и говорит: «Что? Посол царевича всея Руси будет ждать на дворе, пока холоп, какой-нибудь воевода сендомирский, вздумает выйти ему навстречу? Не гонец я какой-нибудь, а моего государя почтенный посол... Видно, крепко вас притиснули здешние поляки, и забыли вы, что такое царевич и царь всея Руси!..» Послали нашего Якова потребовать к себе маршалка, пана Бучинского. То-то удивится горделивый маршалок, старая обезьяна, как Яша передаст ему приказ явиться!..
В самом деле, однако, пан Бучинский нисколько не удивился. Только что послы остановились близ королевского местечка и начали раскидывать свои палатки, вертлявый жидок успел расспросить польскую прислугу, узнал, в чём дело, и бегом, через весь городок бросился к маршалку. Длинная хламида его и кудрявые пейсики развевались, как паруса и флаги; он бежал, разбрызгивая грязь своими тонкими босыми ногами, и, едва дыша от продолжительного бега, заскочил в кабинет маршалка.
– Чтоб тебя все дьяволы взяли! – вскрикнул испуганный пан Бучинский, хватаясь за бич, обыкновенно лежавший возле него на столе. – Что надо?
– Ясносиятельный пан маршалок! – залепетал жид скороговоркой, едва переводя дух. – Беда случилась! Такая беда, что и рассказать нельзя. Такого счастливого случая никогда не случалось. Вижу, что приехали, и пошёл посмотреть, кто приехал и зачем приехал. Может быть, торговые люди приехали, а может быть, неприятели приехали и хотят грабить Самбор, а у меня жена и девять ртов детей... Важные такие приехали... один высокий с московской бородой, а другой поменьше, и тоже – с московской бородой.
– Говори, собачья кровь, в чём дело! – закричал маршалок и замахнулся бичом на бедного усердного жида, который тотчас прискакнул на одном месте и замахал руками.
– В ту же минуту всё расскажу! Всё, всё расскажу, ясносиятельный пан маршалок-благодетель... Послы приехали от московского царя Димитрия, что лакеем служил у сиятельного князя Вишневецкого. Послы такие важные, что сохрани меня Бог! Один такой высокий, и борода чёрная с проседью, а другой поменьше и потолще; этот, должно быть, важнее, и тоже с бородой. К пану воеводе приехали от московского царя, и дальше поедут к самому королю, в Краков поедут – к королю самому...
Пан Бучинский подробно расспросил жида, потом пригласил ксёндза Помаского и переговорил с ним, потом ксёндз переговорил с самим воеводой, и решено было – не принимать послов под предлогом тяжкой его болезни. Это было выгоднейшее решение. Король, напуганный последним сеймом, принуждённый выслушать множество упрёков, был сердит на Мнишка: надо было как-то постараться возвратить себе его благоволение. А так как неизвестно было, примет ли король посольство Димитрия, то всего благоразумнее было бы подождать, что скажет король, и тогда уж распорядиться по его примеру. Это решение было уже принято, когда к маршалку пришёл Яков и застал у него королевского духовника, возвратившегося от воеводы. Ксёндз Помаский очень вежливо выпроводил Якова, объявив ему, что воевода опасно болен, принять посольства не может, но за получением письма отправит своего маршалка двору, если согласятся на это господа послы. Необыкновенно ласков был ксёндз: потрепал Якова по плечу, спросил его о здоровье отца Герасима и вообще держал себя так мило, как будто между православными и католиками никогда не было споров и недомолвок. Но молодой человек не поддался на эти ласки. Хорошо проученный своими Львовскими стычками с католиками, он понял только, что или православию готовится какой-нибудь новый удар, или что дела царевича идут необыкновенно хорошо, и потому ксёндзы находят выгодным на некоторое время приостановить свои враждебные действия против людей, исповедующих «хлопскую» веру.
Послы отдали письмо царевича маршалку, приехавшему к их палаткам верхом в самом парадном из своих шитых золотом кунтушей, в сопровождении двоих герольдов и десятка всадников надворной кавалерии, и в тот же день уехали в Краков.
Не далее как недели через три после этого, в начале мая, то же самое посольство на обратном пути из Кракова должно было проезжать через Самбор. Накануне воевода выслал навстречу посольству свою парадную карету, и в замке сделаны были блестящие приготовления для торжественного приёма. Дело в том, что в этот промежуток времени получено было известие о скоропостижной смерти царя Бориса и, стало быть, о резком и выгодном повороте в судьбе царевича. Король несколько дней продержал посланников в Кракове и не хотел их принимать, но лишь пришло известие о кончине московского царя, в тот же день принял их, обласкал и отпустил с обещанием дружбы. Только что узнал об этом воевода Мнишек, как его здоровье мигом и самым чудесным образом поправилось. Пан Бучинский тотчас был потребован в кабинет и получил десяток распоряжений: отправить навстречу посольству карету; приготовить надворную кавалерию; заказать пышный обед с обычной музыкой; переговорить с православным священником; убрать с особой пышностью комнаты для ночлега послов... и ещё множество мелких распоряжений. Ксёндз Помаский вызвался сам переговорить с отцом Герасимом. Ничему не удивлявшийся маршалок охотно уступил ему это щекотливое поручение, а сам занялся более простыми и привычными ему делами.
Пользуясь настроением прекрасного весеннего утра и ясной погодой, королевский духовник, одевшись в самое простое, довольно поношенное платье, быстро прошёл по местечку, но, не доходя до церковного огорода, замедлил шаг и, как будто прогуливаясь, стал заглядывать через низенький плетень на гряды, на отцветшие черешни и сливы и на высокого, худощавого человека, усердно копавшего землю. Ксёндз остановился, устроил на своём благообразном, полном, чисто выбритом лице самую простодушную улыбку и довольно долго любовался неутомимым работником. Тот, наконец, разогнулся и, одной рукой опираясь на лопату, рукавом рубахи отёр свой потный лоб и ясным взором окинул деревья, церковную крышу, на которой возились плотники, и пустынную улицу. Невольно глаза его остановились на полненькой фигуре ксёндза в шляпе с широкими полями.
– Да будет восхваляем Иисус Христос! – сказал ксёндз по-русски, слегка приподнимая шляпу.
– Аминь! – отвечал священник и, пребывая в недоумении от такого приветствия со стороны своего религиозного противника, снова взялся за лопату и ловко вогнал её в мягкую землю.
– Бог на помощь достопочтенному отцу Герасиму! – продолжал королевский духовник необычайно ласковым голосом.
– Благодарствую! – кивнул священник и вслед за тем прибавил для себя: «Чего же понадобилось этому латинскому отступнику? Какую ещё беду пророчит православию это небывалое заискивание?..»
– Приятно видеть, что почтенный отец поучает своих прихожан не только словом, но и примером! – сказал опять ксёндз, не легко оставлявший раз установленный план действий.
Тут у отца Герасима мелькнула мысль – беседой с ксёндзом отвоевать что-нибудь в пользу истины. Перестав работать, но не оставляя лопаты, он отвечал:
– Тружусь, потому что наша Православная церковь терпит гонения. Другой – умственный – труд был бы, конечно, много полезнее для моей паствы; но мы так угнетены, что без каждодневного труда на земле пришлось бы погибнуть от голода. Иезуитские притеснения я имею в виду...
– Теперь всё должно для вас перемениться, – прервал его королевский духовник. – Царевич Димитрий, а теперь, вероятно, царь всея Руси, не оставит вашего прихода без покровительства...
– Как царь? Что такое? – поразился священник.
– Я рад, достопочтенный отец Герасим, что прежде всех сообщаю вам эту благоприятную новость. Нынче в ночь получено письмо от царевича. Царь Борис скоропостижно скончался ещё тринадцатого апреля. В Москве провозглашён государем сын его Феодор, а войско, посланное против Димитрия, присягнуло ему – вместе с начальником своим Петром Басмановым. Теперь уже не может быть сомнения в успешном исходе нашего дела...
– То-то и есть, что нашего, почтенный ксёндз! – усмехнулся священник. – То-то и худо, что вы, господа латиняне, царевича стараетесь тоже сделать своим, когда он ни на волос не может быть вашим. Уния – дело невозможное. Как вода и огонь, латинство и православие не вынесут никакой унии, никакого единения, и либо вода просохнет, либо огонь должен погаснуть. Брестская затея придумана заклятыми врагами.
– Позвольте, достопочтенный отец Герасим! Я очень рад потолковать с вами о наших религиозных недоразумениях, но только в другое время. Сегодня перед вечером мы ждём из Кракова на ужин и ночлег князя Татева, посланника московского царя. Как вы думаете, не полезно ли будет встретить посольство с крестом на краковской дороге, подобно тому, как вы так ловко проводили царевича крестом, когда он выезжал отсюда в Глиняны. Если это у вас не водится, то не придумаете ли вы вообще какого-нибудь религиозного удовольствия? Мы очень рады были бы вам в этом случае содействовать...
Несколько мгновений отец Герасим молча смотрел своими ясными, умными глазами в маленькие, хитро прищуренные глазки ксёндза и, наконец, сказал:
– О, иезуитская предусмотрительность! Узнаю тебя!.. Почтенному ксёндзу нужно угостить московских людей во всех отношениях. Надо, чтобы московские люди не опасались Польши и латинства, чтобы им мерещилось, будто православие в нашем бедном краю не только терпимо, но даже допускается на задний двор воеводского замка. Это очень искусно придумано. Только я, к несчастью, не могу удовлетворить желанию почтенного ксёндза, потому что наша церковь не допускает никаких религиозных удовольствий или... развлечений... не помню, как это вы назвали. Впрочем, если послам это будет угодно, я могу отслужить всенощную в покоях, для них предназначенных. Но для этого нужно мне предварительно освятить замок, и достопочтенный ксёндз меня очень обяжет, если испросит на это разрешение воеводы...
– Напрасно, напрасно, достопочтенный отец Герасим вносит раздражение в нашу дружескую беседу! – молвил с кротким упрёком королевский духовник. – Если мы желаем доставить нашим гостям возможные материальные и духовные удобства, то не имеем при этом ни малейшей задней мысли, кроме одного простого гостеприимства...
– Верю, верю вполне, достопочтенный ксёндз. Немного больше года тому назад, на третий день после приезда царевича в Самбор, я хотел пособить вам в устройстве для этого гостя великого духовного удобства, и здешние овраг и мост хорошо помнят, чем это закончилось...
Ксёндз Помаский почему-то очень рассердился за это напоминание и вовсе не дружелюбно расстался с отцом Герасимом.
– Погоди же, бородатый еретик! – говорил он себе под нос, уходя. – Я тебе устрою такой овраг, из которого ты и не вылезешь, несмотря на всех твоих московских заступников!..
Во время торжественного приёма князя Татева королевского духовника не было в замке. Он сидел дома, заготовляя большое послание ксёндзам Черниковскому и Савицкому.
После отъезда князя Татева в Самборе началась опять прежняя весёлая жизнь – с той только разницей, что ежели общество было не так многолюдно, как в прошлом году, зато оно было отборнее. Ближние и дальние родственники Мнишка видели, что счастье оборачивается в его сторону, и съезжались, чтобы поздравлять его, льстить ему, есть его вкусные обеды и пить столетнее венгерское вино. Пан Бучинский даже помолодел: для его сына кончились военные тревоги, и наступила золотая пора гражданской деятельности. Известия, одни приятнее других, очень часто теперь приходили в Самбор. Сначала царевич писал из Орла, потом из Тулы. Из писем видно было, что наследник Бориса, Феодор, несчастным образом кончил жизнь. Черниковский уведомлял ксёндза Помаского, каким образом отделались от молодого царя Феодора. Двадцатого июня отправлен был из Москвы особенный гонец с извещением, что сего числа благополучно совершён уже не царевичем, а царём Димитрием въезд в столичный город Москву. Ксёндз Савицкий описывал ксёндзу Помаскому, как Димитрий, увидев Кремль, снял шапку, перекрестился и громко воскликнул: «Господи Боже! Благодарю Тебя! Ты сохранил мне жизнь и сподобил увидеть град отцов моих и мой народ возлюбленный!». По щекам его текли слёзы. Весь народ с ним плакал. Колокольный звон со всех церквей раздавался оглушительный. Одно только вышло не совсем удачно: возле Кремля, на площади, называемой лобным местом, собралось бесчисленное множество московского духовенства с хоругвями, с образами и с крестами. Раздалось церковное пение... «Но на беду наш Запорский, человек усердный не по разуму, велел нашим музыкантам играть. Я сам видел, какие гримасы по этому поводу делали московские люди: эти дикари не привыкли смешивать духовную музыку с военной».
От 18 июля уведомляли, что в Москву приехала царица-инокиня Марфа, мать Димитрия. Царь выехал встречать её за город, и вся Москва повалила за ним. Царица-мать ехала в карете. Димитрий подъехал к ней верхом. Карета остановилась. Царь соскочил с лошади и бросился к карете. Марфа открыла полу занавеса, закрывавшего бок кареты; сын бросился в её объятия; оба зарыдали и крепко обнялись. Так они пробыли с четверть часа перед множеством народа. Потом карета двинулась, но царь не сел на лошадь, а шёл пешком подле кареты несколько вёрст... «Боже, Боже наш! – восклицали москвичи. – Как дивно и неизречённо Господь Бог устрояет судьбу человеческую!» Редкий не плакал от умиления, и никто уже не сомневался в том, что Димитрий – истинный царевич.
От 30 июля уведомляли о торжественном венчании Димитрия на царство. Иезуиты особенно подробно описывали, как по окончании обряда царь, окружённый боярами, по устланному пути ходил в Архангельский собор и поклонялся там гробам отцов и праотцев своих.
В конце августа получили в Самборе уведомление от Черниковского и Савицкого, что наконец, после многих колебаний со стороны царя, глубоко преданного католичеству, но не желавшего раздражать своих бояр, они устроили алтарь в одной из запасных зал в Кремле и совершили там первое от Создания мира римско-католическое в Москве богослужение. Патеры усердно поздравляли с этим событием всех своих единоверцев, пророчили близкое торжество латинства в Московском государстве, «для чего не достаёт только, – прибавляли они, – царицы-католички». Извещали в то же время, что уже делаются приготовления для отправления посольства в Самбор за наречённой невестой царя, чтобы везти её в Москву.
Самбор был необыкновенно оживлён. Воевода принимал много гостей, но нередко уезжал к королю в Краков. Он чувствовал, что крупная азартная игра, которую года за полтора перед тем он затеял, обещает скорый выигрыш: его земляки понимали, что он в скором времени сделается тестем московского царя, и число приверженцев его партии быстро возрастало. Он приготовил, между прочим, особый церемониал для обручения своей дочери, когда приедет заранее возвещённый для этой цели посол; король обещал принять в церемонии участие. Поэтому в середине октября, когда из Львова прискакал в Самбор пан Пшепендовский, экстренный гонец воеводы, возвестить, что посол московского царя остановился во Львове на днёвку и через три дня будет в Самборе, воевода с дочерью и со всем семейством сел в приготовленные экипажи и уехал в Краков. Только пан Бучинский получил приказание как можно пышнее принять посла, поместить его в покоях, которые занимал в прошедшем году царевич, угостить получше и с почётом проводить в дальнейший путь – по направлению к королевской резиденции.
Маршалок двора был известный мастер устраивать встречи, и царский посланник, дьяк Афанасий Власьев, не мог не остаться доволен. Многочисленная свита его за ужином перепилась, но к утру, когда посланник собрался ехать в православный храм, почти все были готовы сопровождать его. Поезд был блистательный. Послу подали парадную карету воеводы... и никогда ещё перед бедной, хотя и основательно подновлённой, церковью местечка Самбор не останавливались такие важные и нарядные богомольцы. Вслед за послом торжественной поступью вошли в церковь почти сорок московских дворян и человек пятьдесят их прислуги. Богослужение было торжественное. Отец Герасим с пламенным усердием молился за царя всея Руси Димитрия Иоанновича и с умилением смотрел на молитву своих случайных прихожан. После обедни посланник передал священнику богатый царский вклад в церковь и пригласил его к себе обедать.
– Попотчую, чем Бог послал, – говорил он с важностью. – Вчера на ночь накормили меня какой-то польской дрянью, а ныне я велел своим поварам приготовить наш обед – по-московски... А этот молодец, сынишко твой, что ли? Весь в тебя! И ростом такой, и брови так же насупил. Пусть и он придёт, потрапезует с моими дворянами – на людей поглядит...
Обед по тогдашнему московскому обычаю продолжался часа три. Отец Герасим и сын его Яков, далеко не избалованные роскошным столом, с удовольствием вкушали жирный без соли обед, к концу которого половина обедавших была навеселе, а некоторые – так совсем пьяны. Посол заметил, что отец Герасим очень мало пьёт. Поэтому он велел налить вина в большую серебряную кружку, подал ему и пригласил выпить.
– Благодарю почтенного посла! – ответил со спокойным достоинством отец Герасим. – У меня положено никогда не пить более одной рюмки, и я уже выпил свою меру за здравие государя.
– Ну полно, батька! Пей, когда велят!..
– Ещё раз благодарю почтеннейшего посла! – отказался священник и, привстав с места, поклонился.
– Уж как я не люблю этого, когда со мной спорят! Пей, говорят тебе, не то худо будет!..
– Я не могу больше пить, и больше пить не буду!
– Эй, человек! – вскричал раздосадованный посол. – Вылей попу эту кружку на голову!.. Что, будешь пить?
Священник с удивлением взглянул на посла и, приняв эту грубую выходку за неудачную шутку, опять выпить отказался.
– Не хочешь? Ну так вольному воля... Человек! Делай, что велено!..
Тотчас проворный слуга схватил кружку и опрокинул её над головой отца Герасима. Вино хлынуло широкой струёй и потекло по седым волосам священника. В то же мгновение поповский сын, с остроконечным столовым ножом в руке, в два прыжка очутился возле отца, с силою бешенства оттолкнул слугу, взял отца за руку и потащил его к дверям.
– Стой! Держи его! Лови! – закричал посол.
Несколько дворян и слуг бросились к поповичу, но принуждены были расступиться перед взмахами его ножа. Яков с отцом благополучно выбрались на парадный двор, миновали костёл, молча и быстро прошли по площади и вошли к себе, не повстречавшись с попадьёй. Она в это время где-то в кладовой занималась солением на зиму грибов.
Молча снял отец Герасим намоченную одежду, молча надел ветхий подрясник и, подойдя к сыну, угрюмо смотревшему в окно, слегка тронул его за плечо.
– Ну что, Яша? – сказал отец, стараясь взять шутливый тон. – Попали мы с тобой в передрягу! И правду говорит псалмопевец: «Блажен муж, иже не иде в совет нечестивых...» Да полно, сынок! Не хмурься! Это было для нас полезным указанием...
Яков снял со своего плеча отцовскую руку и нежно поцеловал её.
– Да, указание полезное и страшное, – молвил он печально. – Мы едва унесли ноги. В этом ли, по-твоему, заключается указание?
– Я думал несколько иначе! – ответил священник. – Мы давно знаем, давно слыхали, что в Московском государстве нравы суровые, почти дикие. Мы увидели подтверждение этому. Мы убедились, что в московской земле образованные люди крайне нужны, что этой стране пора проснуться, и слава тому, кто первый решится отдать свои силы на борьбу с тьмой, с варварством, с невежеством, с дикостью...







