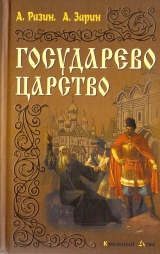
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Между тем Марфа, забывшись, продолжала:
– Ты! Ополячился там, наголодался и сюда, к нам, смуту принёс. Никогда не знали мы печали да горя, а что теперь? В разорённую землю вошли мы и целили её, а ты что сделал? Всяк ропщет, всякому не под силу твоё державие. С воза берёшь, с лотка берёшь, с сохи, с водопоя; на правежах люди весь день по всей земле стонут, а лихие целовальники с твоего патриаршего благословения народ спаивают, ярыжек по Руси разводят…
– Молчи! – гневно сказал патриарх.
– И царь не радостен! – продолжала гневно Марфа. – А таков ли был он? По церквам не ездит, народу не кажется, верных слуг разогнал.
– Крамольников, воров, – перебил её патриарх и пылко сказал: – А что до дел государственных, то не твоему уму судить про это! Не унижения царя, а величия хочу я, не гибели Руси, а прославления!
Царь сидел, закрыв лицо руками.
– И вот зазвала вас я за словом моим! – вдруг обернула разговор Марфа в сторону. – Слуг ты разогнал ради девки Хлоповой…
Царь нервно вздрогнул.
– Говорят, хочешь царицей её сделать, а я говорю теперь тебе: прокляну! – Она, вытянув руку, прошипела эти слова. – Супротивница она мне, супостатка, девка негодная. И даю зарок тебе, сын: нет на сей брак моего благословения. Умру, из могилы запрет налагаю.
– Матушка! – падая в ноги, взмолился царь.
– Прокляну! Прокляну! – твердила Марфа.
Филарет недвижно стоял и, чувствуя своё бессилие пред материнской властью, только нервно сжимал в руках посох.
Царь сотрясался от горького плача. Марфа грозно стояла над ним. Наконец он смирился. Тяжело вздохнув, он выпрямился и кротко сказал:
– Прости, матушка! Не пойду против запрета твоего!
Лицо Марфы осветилось улыбкой, она кинула взгляд на патриарха, и в этом взгляде было торжество упоенного тщеславия. Потом она нежно наклонилась к сыну.
– Желанный мой, не от худа говорила тебе это, а добра желаючи! Тебе ли, солнцу красному, не найти красавицы в своём царстве!
Уныл и печален возвратился царь в свои покои. Снова на миг прорвавшиеся тучи сдвинулись грозной завесой, и уже не видел он сквозь них никакого просвета.
Вначале страх смерти от руки подосланных поляками убийц, потом голод и разорение государства, разбойники и воры, поляки и шведы. У самых ворот московских бились с ляхами!.. И снова оскудение казны и тяжкая тревога… и дом без радости, и сердце без отрады, без близкого друга, грозен отец, грозна матушка.
– Господи, ты – моя охрана, моё прибежище и зашита, мой покой и отрада! – и, заливаясь слезами, упал царь пред своей образницей и бился лбом об пол, печалясь о своей горькой, сиротливой доле.
А на другой день царский гонец спешил в Нижний Новгород и вёз грамоту боярину Шереметеву и князю Теряеву; в той грамоте велено было передать Хлоповым, что Марью Хлопову взять за себя царь не изволит, а самим им – боярину и князю – после того немешкотно ворочаться в Москву.
XIПризнание с дыбы
 ереметев и Теряев быстро исполнили царское повеление и поспешили обратно в Москву.
ереметев и Теряев быстро исполнили царское повеление и поспешили обратно в Москву.
Царь принял Шереметева с глазу на глаз и долго расспрашивал его о всякой подробности: и как была одета Марья Ивановна, и какие слова говорила, и была ли лицом радостна, а потом много ли печалилась; и боярин по чистому сердцу отвечал ему на все вопросы. Здорова она была совершенно, красой расцвела ещё больше, краснелась много, когда ей допрос чинили, а велика ли кручина её была, того не видел он, боярин. Больно ему стало за её девичью честь, и он Ивану Хлопову царское слово передал.
Михаил Фёдорович закрыл лицо руками и долго сидел так не двигаясь, а потом вздохнул и сказал:
– Матушка зарок с меня взяла. На всё Божья воля! Всё же спасибо тебе, Фёдор Иванович! Передай спасибо и князю Теряеву, скажи, что в окольничьи его жалую!
Со смущённым сердцем вернулся домой боярин и тотчас послал гонца к князю Теряеву, находившемуся в своей усадьбе.
Через день прискакал князь бить челом царю.
Михаил Фёдорович встретил его ласково.
– Люб ты мне, – сказал он, – люб и батюшке моему, а нас сторонишься. До сих пор в Москве дома не поставишь, гостем живёшь!
– С завтра строиться, государь, начну!
– Ну вот, так и лучше будет. А там в нашу думу садись!
Князь низко поклонился.
Давно не было на душе у князя такой радости.
– Эх, князь, князь! – сказал ему Шереметев. – А уж как бы всем было легко и радостно под державием царя нашего, ежели бы он крошечку побольше царём был!
Князь, не понявши, воззрился на боярина.
– Да как же! Суди сам! Поначалу, когда я у всех дел стоял, что было? Надумаешь доброе, всем на пользу, глядь, мать царя-батюшки вступится, братаны Салтыковы посул возьмут и всё дело испортят. Разве такой мир мы с Сигизмундом, королём польским, заключили бы? Разве так со шведами расстались бы? А дома что?.. Я в делах был не властен, почитай, всё матушка царя решала, а у неё за спиной всеми купленные братья Салтыковы. – Боярин глубоко перевёл дух. – Вернулся патриарх, взял бразды в руки и, пожалуй, того хуже стало. Положим, порядок словно бы и есть, а беды да лютости пуще. Теперь, смотри, с кого поборов не берут? А крестьян и совсем к земле прикрепили. Слышишь, Годунов, может, из-за того Юрьева дня сгинул, а патриарх его ещё пуще закрепил. Смотри, что ни день, на правеже по десяти, по двадцати человек вопят. Везде пристава с налогами ездят, а монастырское добро пальцем ни-ни! Множится оно, а народ вопит. Так-то, князь! А царь наш добр и милостив, тих, что агнец, прост, что ребёнок, и словно за это всё ему поперечь! Надобны, князь, царю прямые люди.
– Я за него всей жизнью, – пылко ответил князь.
В горницу вошёл дворецкий.
– Что тебе?
– Да вот за князем Терентием Петровичем засыл.
– От кого?
– От боярина Колтовского!
Теряев быстро встал и вышел в сени, оттуда на крыльцо. У низа стоял стрелец. Увидев князя, он низко поклонился ему.
– Будь здоров, князь, на многие годы! Боярин Яков Васильевич заказал кланяться тебе да сказать, что вор тот, Федька Беспалый, у него в застенке сегодня с утра! Не соизволишь ли заглянуть!
– Благодари боярина на доброй вести! – взволнованно сказал князь. – Я сейчас буду! Да и тебе спасибо! Лови!
Князь кинул стрельцу из кошеля, что висел у пояса, толстый ефимок[45]45
Ефимок – русское название серебряного талера.
[Закрыть] и крикнул дворецкому:
– Коня мне!
Полчаса спустя Теряев снова был в знаменитом Зачатьевском монастыре и, сидя с боярином Колтовским в избе, с нетерпением расспрашивал его о Федьке. Боярин опять прихлёбывал из сулеи, на этот раз вино аликантское, опять заедал его добрым куском буженины и объяснял всё по порядку.
– Ишь ведь горячка ты, князь! Сейчас что сказал? Да ведь я же Федьки, этого вора, ещё и не допрашивал вовсе; как обещал тебе, так и сделал. Чини сам допрос, а меня потом каким ни на есть добром отблагодаришь. Слышь, ты ныне при царе близок.
– Снял-то ты Федьку откуда? – спросил князь.
– Да вот поди! Людишки-то мои везде толкаются, опять и средства тут у нас разные есть. Потянули это мы как-то одного скоморошника, а он и укажи: в Ярославле, дескать, теперь Федька этот, там рапату держать собирается. Ну, там его взяли и сюда. Что ж, пойдём, поспрошаем?
Боярин поднялся и кивнул князю. Тот пошёл за ним.
Они перешли грязный двор и вошли в застенок.
Обстановка и убранство внутри сарая были те же, что и в рязанском застенке, только сарай был побольше, да заплечных мастеров число тоже больше. Мастера стояли у нехитрых снарядов, приказный дьяк сидел за столом.
Боярин Колтовский перекрестился на образа, пролез за стол, указал место князю и сказал дьяку:
– Князь Теряев вместо меня допрос чинить будет, а ты пиши, да в случае что – указывай!
Дьяк поклонился князю и снова сел, готовя бумагу и перья. Его изрытое оспой, широкое лицо с огромным синим носом и крошечными глазками, с жиденькой бородёнкой и толстыми губами приняло омерзительно подобострастное выражение. Он прокашлялся и сказал мастерам:
– Федьку, по прозванию Беспалый!
Один из мастеров скрылся. Князь нетерпеливо повернулся на месте. Минуты ожидания показались ему часами. Наконец послышалось бряцание цепей, скрипнула дверь, и в сарай ввели Федьку.
Он был жалок, опутанный цепями; невыразимый ужас искажал черты его лица. Войдя, он упал на колени и завыл:
– Пресветлые бояре, кому что худо я сделал! Разорили тут меня посадские да ярыжки, ушёл я в Ярославль, от греха подальше, и там поймали меня сыщики и сюда уволокли. По дороге поносили и заушали,[46]46
Били по щекам.
[Закрыть] в яму бросили, а чем я, сиротинушка, пови…
– Молчи, смерд! – закричал на него вдруг князь, – ты – Федька Беспалый? Отвечай!
– Я, бояр… – начал Федька, но, взглянув на князя, побелел, как бумага, и не мог окончить слово.
– Знаешь, кто я? – грозно спросил Теряев.
Федька собрался с духом.
– Как не знать мне тебя, князь Терентий Петрович! Когда я с вотчины князя Огренева в Калугу вору оброк возил, ты там при князе Трубецком немалый человек был. В Калуге в ту пору всякий русский…
– Молчи, пёс! Знаешь – и ладно! Ответствуй теперь, для чего, по чьему наговору или по собственной злобе или корысти ради моего сына ты наказал скоморохам скрасть, а потом заточил его?
Федька сделал изумлённое лицо.
– Смилуйся, государь! – завыл он. – Никогда я твоего сына в очи не видел, ведом не ведал.
– Брешешь, пёс! Говори по правде!
– Дыбу! – коротко сказал дьяк, кивая палачам.
Федьку вмиг подхватили под руки, в минуту сняли с него цепи, ещё минута – и уши присутствующих поразил раздирающий душу крик.
Трудно сказать, взяли ли мы с Запада (через Польшу) всю целиком систему допросов с «пристрастием» и весь инвентарь дьявольского арсенала или дошли до него сами, только печать нашей самобытности несомненно лежала и тут. Известно, что от татар мы взяли только кнут да правёж, но ко времени описываемой нами эпохи у нас был так полон застеночный обиход, что впору любой испанской инквизиции. Правда, всё у нас было проще: вместо знаменитой «железной девы», которая резала жертву на сотни кусков, оставляя живым сердце, у нас имелись две доски, утыканные остриями. Жертву клали на одну доску, прикрывали другой, и для верности на неё ложился заплечный мастер. Вместо не менее знаменитой механической груши, разрывавшей рот, у нас забивали напросто кляп с расклиньем, вместо обруча надевали на голову простую бечёвку и закручивали, пока у пытаемого не вылезали глаза; ну а клещи, смола и сера, уголья и вода практиковались у нас с тем же успехом, хотя и без знаменитых сапог. Рубили у нас головы, четвертовали, колесовали, жгли и, в дополнение, сажали на кол и зарывали в землю. Несомненно, всё это осталось в наследие от Ивана Грозного добрым началом нашей культурности.
Федьку подтянули на дыбу, дюжий мастер повис у него на ногах, и руки, хрястнув в предплечиях, мигом вывернулись и вытянулись, как канаты. Другой мастер сорвал с Федьки рубаху и замахнулся длинником.
– Спустите! – тихо приказал дьяк.
Верёвку ослабили. Федька упал на пол. Мастер плеснул ему в лицо водой из ковша.
– Скажешь? – коротко спросил Федьку дьяк, когда тот очнулся.
– Ох, батюшки мои, скажу! Ох, светики мои, всё скажу! – простонал Федька. – Всё скажу!
– Знал, что мой сын? – глухо спросил Теряев.
– Ох, знал! Знал, государик мой!
– Сам скоморохам наказывал?
– Ой, нет! Просто привели, я и признал… да!
– Сына-то? Что ты брешешь? – не утерпел боярин.
– Подтяни! – сказал дьяк.
Блок заскрипел.
– Ой, не надо! Ой, милые, не надо!
– Ты так говори, стоя! – с усмешкой пояснил дьяк.
Федьку поставили на ноги и слегка приподняли его руки; одно движение мастера, и он уже висел бы над полом.
Федька стал давать показания.
Приезжала к нему баба-колотовка из Рязани, Матрёна Максутова, прозвищем Огневая. Была она красавицей, ныне ведовством занимается. И привезла она ему наказ от воеводы рязанского, Семена Антоновича Шолохова, чтобы он извёл щенков князя Теряева; а за каждого получила сорок рублёв, а в задаток полсорока. Бил он, Федька, с ней по рукам, а потом послал в княжью вотчину скоморохов, сговорившись на десяти рублях. Привели князя-мальчика к нему как раз накануне въезда патриарха в Москву от плена польского; он спрятал ребёнка, но на другой день рапату разбили, сожгли, и мальчика он бросил. Только это ему и ведомо!
Князь Теряев сидел, сжавши голову руками, и, казалось, ничего не слышал. Признание Федьки изумило его и совершенно сбило с толку. Боярин Шолохов, воевода рязанский… Был он в думе на Москве, потом был послан на воеводство… Вот и всё. Не было ни ссор, никакой зацепы. С чего ему?
– Что Матрёна тебе говорила, для чего воеводе моё сиротство нужно? – наконец спросил князь Федьку.
– Не сказывала, светик мой, не сказывала. Ой, не тяните! Как пред Богом говорю, не знаю!
Князь махнул рукою и встал. Колтовский вышел за ним.
– Ну, вот, князь, и дознались! Теперь ищи со своего ворога…
– Все мне вороги!
– Что ты? Кто все?
– Воевода этот, Матрёна, Федька, скоморохи… Всех изживу!
Боярин усмехнулся.
– Ну, Федьку я на себя возьму. Поспрошаем его насчёт казны, а там и на виселицу! Этого воеводу с Матрёшкою, может, ты и сам доймёшь, ну, а скоморох… – боярин развёл руками, – много их больно, князюшка!
– Травить псами у себя на вотчине приказал, а сам бью их!
– Не перебить всех! – засмеялся боярин и сказал: – Однако не помяни лихом. Здравствуй, князь, а я пойду по Федькину душу казны искать! – и, хрипло засмеявшись, он пошёл в застенок.
Князь вскочил на коня и поехал в дом Шереметева.
Пылкий князь рвал и метал в нетерпении, горя местью к воеводе рязанскому. На другой же день, ни свет, ни заря, поехал он во дворец, чтобы бить челом царю, и вдруг узнал, что царь с матушкой своей поехал к Троице, а оттуда на Угрешь на богомолье. А там столь же неожиданно для всех поехали бирючи[47]47
Бирюч – глашатай, объявляющий волю царя.
[Закрыть] клич кликать, девиц на царские смотрины собирать. Потянулись вереницею по Москве возки, колымаги, забегали царские слуги, размещая всех. Приехал царь, начались смотрины, не до того царю было.
Кинулся князь Теряев к патриарху, тот принял его ласково, но ответил:
– Бей челом царю на том, чтобы он выдал тебе воеводу рязанского головою, а я в стороне. У меня дела государские.
А тем временем дочь боярина князя Владимира Тимофеевича Долгорукова, княжну Марию Владимировну, на верх взяли и царской невестой нарекли.
Не медлил царь, и скоро была назначена свадьба.
Поскакал бы на Рязань князь Теряев и с глазу на глаз переведался бы с воеводою, если бы не удержали его Шереметев да жена. Для исхода своей тревоги взялся он за постройку и стал выводить палаты на Москве-реке, недалеко от Немецкой слободы. Из слободы вызвались помогать ему чертёжник да кровельщик, и действительно на удивление всем строились пышные хоромы князя. В три этажа выводил немчин терем, а за ним смыкалась церковь маленькая, а там летник да бани, да службы, да клети, да кладовки, да подклети. Наконец садовник, тоже из Немецкой слободы, наметил богатый сад с прудом и фонтаном.
Строилась церковка и в вотчине, и, не будь этих строек, умер бы с досады князь Теряев. Только и отвёл он душу в том, что длинную отповедь в Рязань своему другу Терехову послал, моля его в то же время ни своей бабе о том не говорить, ни воеводе словом не намекнуть.
«А коли можешь окольностью правду допытать, в кую стать он чёрную злобу на меня имеет, то допытай и, допытавши, отпиши. А я царю бить челом буду, чтобы выдал он мне пса смердного, и ужо правду с дыбы дознаю!».
19-го сентября 1624 года праздновалась свадьба царя Михаила с Марией Долгоруковой. Пышная была свадьба. Весь народ московский своей радостью принимал в ней участие.
Царь был светел и радостен, как Божий день. Молодая невеста сияла царственной красотою, и патриарх со слезами умиления на глазах соединил их руки.
Великое ликование было по всей Москве. Царь приказал выкатить народу две сотни бочек мёда и триста пива, и, в то время как пировал сам в терему, народ пил на площади, гулял и оглашал воздух радостными криками.
В четыре ряда были поставлены во дворце столы, каждый на двести человек, а вверху стоял на особом возвышении под балдахином малый стол, за которым сидели царь с венчанной царицей и патриарх.
Когда пир дошёл до половины и был дан роздых, во время которого гостям разносили вина барц, аликантское и венгерское, молодая царица встала, поклонилась гостям и вышла из покоев.
Пир продолжался. Время от времени стольники подходили то к одному, то к другому боярину и, поднося ему кубок с вином или блюдо с кушаньем, говорили:
– Великий государь, царь Михаил Фёдорович, жалует тебя, боярин, чашею вина или блюдом.
Боярин вставал и кланялся царю. Вставали все и кланялись отмеченному, а он в возврат кланялся каждому особняком.
Стольник возвращался на место, кланялся царю и говорил:
– Великий государь, боярин бьёт тебе челом на твоей милости.
Потом пир продолжался.
Царь особенно жаловал князя Теряева то чашею, то блюдом, а к концу пира подозвал его к себе и стал милостиво говорить с ним.
– Ну, как хоромы твои, князь Терентий?
– Подымаются, государь!
– То-то, стройся, чтобы ко мне ближе быть. Люб ты мне, князь, ещё с того времени люб, как со мной на соколиную охоту езжал, спускать кречетов учил.
Князь поклонился.
– А теперь на радостях я тебя порадовать охоч. Слышал, ты всё сбирался челом мне бить, да мне-то всё недосуг был. Сказывай теперь, в чём твоя просьба!
– Великий государь, на обидчика своего бью челом тебе! – и князь опустился на колени.
– Что ты, князь Терентий, вставай скорее! Говори, кто тебя чем забидел, мы тут думой рассудим! – и царь шумливо показал на всех присутствующих.
Князь поднялся и начал рассказ про свою обиду с того момента, как узнал о пропаже сына. Рассказал про страдания жены, про свои мучения, про напрасные розыски, потом про немцев, про то, как сына нашёл, и наконец про допрос Федьки Беспалого и его оговор.
– Что я сделал тому боярину, не ведаю; почему он за меня такое зло замыслил, не удумаю. Прошу, государь, об одном тебя: не прости ты моему супротивнику. Отдай его мне, чтобы я про него правду дознал! – и князь снова повалился царю в ноги.
– Великое злодейство! – сказал, содрогаясь, царь. – Ну да не тужи! Выдам я его тебе головою: сам правду доведаешь. Приди завтра утром, при тебе указ припечатаю! А теперь выпей чашу во здравие!
Пир снова пошёл своим чередом.
Далеко за полночь пошли гости по домам. Шереметев дорогою сказал Теряеву:
– Отличил тебя нынче государь против всех! Держись теперь верху ближе; выведешь хоромы и сейчас княгиню перевози!
– Теперь правды дознаюсь! – не слушая его, сказал князь, и его лицо осветилось злобной радостью.
На другой день, сейчас же после заутрени, Теряев явился во дворец бить снова челом царю на вчерашнем посуле.
Странное смятенье поразило его в покоях. В сенях князь Черкасский озабоченно говорил о чём-то с Иваном Никитичем, дядей царя. С царицыной половины спешно вышел князь Владимир Долгоруков.
– Ну, что? – обратился к нему Иван Никитич.
Князь скорбно качнул головою.
– В аптекарский приказ послали.
Князь Теряев подошёл к ним и поздоровался.
– Или что случилось? – спросил он тревожно. Князь Черкасский кивнул.
– Царице занедужилось. Как с пира ушла, а в ночь худо ей стало, а теперь кричит.
Все в унынии смолкли.
Дворецкий вышел и сказал:
– Государь князя Теряева пред очи зовёт!
Князь вышел и через минуту бил челом своему царю. Вчерашняя радость сошла с лица Михаила и сменилась скорбною тенью.
– Встань! – сказал он князю. – Жалую тебя к руке моей!
Теряев порывисто поцеловал царскую руку.
– Вот то, о чём просил ты. Подай, Онуфрий!
Дьяк спешно подал царю два свитка, скреплённых царской печатью.
– Тут, – сказал царь, – наказ, чтобы того воеводу сменить, а на место его друга твоего Терехова-Багреева, а тут, – он взял другой свиток, – наказ, чтобы шёл к тебе Шолохов с повинной головою.
Князь повалился в ноги и крепко стукнулся лбом об пол.
– А ты, Онуфрий, – продолжал царь, обращаясь к дьяку, – немешкотно это с гонцом пошли да ещё наказ боярину Терехову изготовь, дабы всё описью принял: и казну, и хлеб, и зелье,[48]48
Порох. (Примеч. авт.).
[Закрыть] и свинец, и весь наряд!
Дьяк поклонился.
XIIНежданный гром
 оярин Терехов-Багреев ходил сам не свой, получив послание от своего друга, князя Теряева.
оярин Терехов-Багреев ходил сам не свой, получив послание от своего друга, князя Теряева.
«Что это! – думал он. – И ума не приложу к такому окаянству. Для чего боярин Семён Антонович такое скаредное дело замыслил? Ни в дружбе-то они оба не были, и делить ничего не делили. Поди ж ты! Оплёл воеводу этот Федька поганец, и всё! Пишет вот князь: „Допытайся!“ Когда ж это я в жмурки играл? Ишь, тоже, допытчика нашёл!..»
Вконец измучился со своею тайною добрый боярин. Ольга Степановна стала приставать к нему.
– Свет Пётр Васильевич, да поведай ты мне: или горе какое, или чёрная немощь напала на тебя! Глянь, сокол мой, Савелий наш извёлся, на тебя глядючи. Что Савелий! Маремьяниха и та, слепая, твоё горе чует. Кажется, всё у нас есть, полная чаша. Олюша растёт на радость, да и жених отыскался. А ты?..
– Уйди! – угрюмо отмахивался от жены боярин. – Не бабьего ума дело – кручина моя, вот что! Умственное дело.
– Так ты бы дьяка Егора Егоровича покликал.
– Ахти! – всплеснул руками боярин. – Ну, и что ты лотошишь такое! Дьяк! У дьяка душа продажная, а тут тайна!
– Ну, Семена Андреевича. Он – друг тебе, брат названный и думать горазд!
Лицо боярина просветлело. Он закивал головою.
– Вот что дело, то дело! Добрая ты жена, Ольга моя, свет Степановна! Вели-ка, чтобы Савелий спосылал кого за Сенюшкой. Кланяется, мол, боярин и по делу просит!
В тот же вечер, распивая черемховый мёд и заедая оладьями, боярин Терехов долго беседовал с другом своим Андреевым.
– А главное, теперь и в толк не возьму, – жаловался боярин, – как мне вести себя с воеводою. Держать хлеб-соль или откачнуться. Прямить ли ему?
Андреев погладил бороду.
– Нет, Петя, сохраним всё в тайности и за всем примечать будем. Словно и грамоты ты не получал, а я уж знаю, как дело повести.
Боярину стало словно легче. После того он не раз делил хлеб-соль с воеводою, и мысли о послании князя отошли у него в сторону.
В те поры был добрый обычай время от времени, скуки ради, пиры устраивать, и на тех пирах добрый хозяин дарил гостей кого чашей, кого блюдом, кого шапкою, а гости, опохмелясь, слали от себя доброму хозяину подарки, отдариваясь. Для корыстных воевод царских этот обычай обратился в большую пользу им. Как оскудеет казна воеводская, сейчас он пир устраивать начинал. Созывал он на пир гостей, людей торговых, купцов проезжих и дарил их скудно, а на другой день ждал от них добрых подарков, и плохо было тому, кто не угождал воеводскому оку корыстному.
Созвал гостей и воевода Семён Антонович Шолохов. Для приличия бил он челом и боярину Терехову, и Андрееву, и многим другим именитым в городе людям. И съехались гости на пир со своими холопами.
Огромная горница была уставлена столами с местами человек на двести; в голове стола сели воевода, губной староста, Андреев и боярин Терехов. Далее сели именитые купцы, ещё далее гости именитые, чьё отчество на «вич» писали, а затем уже там, где место нашлось, простые гости да посадские из толстосумов.
Воевода захлопал в ладоши, и пир начался. Слуги внесли на огромных блюдах жареных гусей и индеек. Воевода встал, низко поклонился гостям и просил откушать.
– Ешь, Ефимович, во здравие, – с усмешкою сказал рыжебородый купец соседу, – завтра расплачиваться будем.
– В этом году третий раз пирую, грехи наши тяжкие! – вздохнул Ефимович.
Тем временем вверху стола воевода беседовал со своими соседями. Недавно вернувшийся из Москвы дворянин Стрижов передавал московские новости.
– Батюшка-то патриарх, – сказал он, – всё по-своему повернул. Поднял это суд да допрос о Хлоповой…
– О царской невесте-то, что сослали? Расскажи, Аким Сергеевич, всё по ряду! – запросили гости.
Стрижов откашлялся, погладил бороду и начал рассказывать по порядку о следствии, о посыле в Нижний Новгород, о суде над Салтыковыми.
Тем временем слуги обносили гостей супами, несли щи, лапшу куриную, несли уху и рассольник, каждому по вкусу.
– Ишь ведь, – вставил своё слово боярин Терехов, – как нашему другу Тереше подвезло: вверх идёт!
– Это кто? – спросил Стрижов.
– Да князь Теряев-Распояхин!
На лице Стрижова выразилось почтение.
– Важная особа! – сказал он. – Царь при мне его в окольничьи пожаловал, всякое отличие ему идёт.
Андреев взглянул на воеводу и заметил, как его жирное лицо покраснело. Он ткнул боярина Терехова в бок и сказал:
– Да, кроме милостей, и счастье ему! Слышь, сына-то у него скоморохи скрали, а теперь…
– Что! Или ещё родился? – хрипло спросил воевода.
– Нет! Сыскал князь сына-то!
– Врёшь! – не своим голосом проговорил воевода, причём его лицо посинело, а жилы на короткой шее вздулись.
– Зачем врать! Пёс врёт! – ответил Андреев. – Да ещё поймал князь главного татя, Федьку какого-то Беспалого, пытал его, тот с дыбы ему доказывал!
– Мёду! – едва слышно прохрипел воевода, быстро отстёгивая запонку на вороте рубахи.
Даже гости испугались вида воеводы и повставали с мест.
Однако Шолохов оправился и грубо сказал:
– Чего повылезли? Чай, ещё и не в полпире! Эй, медов!
Слуги торопливо забегали, разнося меды, томлёные и варёные, малиновый, черемховый, яблочный, смородинный и прочих ягод.
Началось питье. Воевода, видимо, оправился и торопил гостей пить.
– Пей, душа меру знает! – выкрикивал он время от времени.
После питья началась снова еда. Понесли жирный курник, оладьи, варенухи, бараньи почки, одно за другим, все тяжёлые блюда, от которых немцу давно был бы карачун. Наконец наступило время попойки. Слуги убрали всё со стола, и поставив пред каждым гостем чашу или стопку, или кубок, начали разносить мёд и вина.
Воевода встал и громко сказал:
– Во здравие и долголетие великих государей наших, царя Михаила Фёдоровича и родителя его, преславного святого патриарха всея Руси Филарета Никитича!
После этого он выпил до дна свою чару и опрокинул её над своею головою.
– Во здравие и долголетие! – подхватили гости и всяк проделал то же.
После этого началось пьянство. Стали поочерёдно пить за воеводу, за губного старосту, за стрелецкого голову, за боярина Терехова, за Стрижова, за прочих дворян, а там за каждого гостя по особому.
– Пей, собачий сын! – орал то на одного, то на другого пьяный воевода. – Не то за ворот вылью!
Гости пили поневоле.
Стало темнеть. В горницу внесли пучки восковых свечей. Пьяный крик и смех смешались в общий гул, как вдруг дворецкий подбежал к воеводе и что-то зашептал ему.
Воевода словно протрезвился, гости стихли.
– Ко мне гонец царский! – громко сказал воевода. – Кличь его сюда, встречай хлебом-солью! – и он торопливо встал и, шатаясь, пошёл к дверям.
В дверях показался посыльный дворянин Ознобишин. Воевода опустился на колени и стукнул лбом в пол.
– Воеводе боярину Семёну Антоновичу Шолохову грамота от государей! – громко сказал гонец.
– Мне, милостивец, мне! – ответил воевода. – Пирование у нас было малое. Не обессудь!
Гонец подал две грамоты воеводе. Тот обернул руку полою кафтана, принял грамоты и благоговейно поцеловал царскую и патриаршую печати.
– Може, на случай здесь есть и боярин Пётр Васильевич Терехов-Багреев? – спросил гонец.
– Здесь, здесь! – ответили протрезвившиеся гости.
– Здесь я, батюшка! – отозвался Терехов и встал.
– И до тебя грамота от государей, – сказал гонец, протягивая свиток, после чего сбросил с себя торжественный тон и просто сказал: – Ну, потчуй!
Воевода встрепенулся.
– Откушай за здоровье государей! – сказал он, беря с подноса, что держал уже наготове дворецкий, тяжёлый кубок, – а кубком не обессудь на подарочке!
– Здравия и долголетия! – ответил Ознобишин и махом осушил кубок.
– Сюда, сюда, гость честной! – суетясь повёл гонца воевода в красный угол. – Здесь тебе место. Чем потчевать?
Гонец как-то лукаво усмехнулся и ответил:
– Грамотки бы прочёл сначала!
– Читай!.. Читай! – загудели гости.
Воевода и сам торопился узнать содержание грамот и теперь растерянно искал глазами своего дьяка, но на пустом месте, где прежде сидел дьяк, торчали только его здоровенные, железом подкованные сапоги, сам же он уж мирно храпел под столом.
– Свинье подобен! – со злобным отчаянием сказал воевода.
Андреев поднялся и сказал:
– Давай, что ли, боярин, я прочту!
– Прочти, прочти, светик, – обрадовался воевода, протягивая Андрееву свитки.
Последний взял их и, поцеловав печати, осторожно развязал шнуры и распустил один из свитков. Кругом всё стихло.
Андреев откашлялся и стал читать:
«Воеводе рязанскому, боярину Семёну Шолохову. Бил челом на тебя нам, государям, наш окольничий, боярин князь Терентий Теряев-Распояхин на том, что ты в умысле злом и лукавом заказал Матрёшке Максутовой, бабе подлой, скрасть его сына Михаила».
– Господи помилуй! – пронеслось промеж гостей.
Воевода стоял, держась за край стола, и смотрел на Андреева безумным, недвижным взором. Его шея вздулась, лицо посинело. Он судорожно рвал на вороте рубаху.
«А та баба подлая сие дело скаредное, – продолжал читать Андреев, – поведала Федьке, прозвищем Беспалому, что в приказе обо всём с дыбы покаялся. И мы, государи, сие челобитие князя приняли и на том порешили: чтобы ты, боярин, сие дело скаредное учинивши, шёл с повинною до князя, коему выдаём тебя головою!» А подписи, – закончил Андреев, – «Божьею милостью великий государь царь и великий князь Михаил Фёдорович и многих государств господарь и обладатель». А другая: «Смиренный кир Филарет Никитич, Божьею милостью великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея Руси самодержца, по плотскому рождению, отец, волею Божьей по духовному чину пастырь и учитель и по духу отец, святейший патриарх московский и всея Руси».
Андреев замолчал. Наступила гробовая тишина.
Воевода тяжело перевёл дух и прохрипел:
– Читай другую!
Андреев развернул.
«Боярину Семёну Антоновичу Шолохову. Приказываем мы, государи, сняться с воеводства рязанского и все дела свои, и росписи, и весь обиход и наряд воеводский, зелье, казну, свинец, хлеб и пушкарский обиход сдать по росписи боярину Терехову-Багрееву, кому воеводство править и нам прямить!».
– Жжёт! – не своим голосом крикнул воевода и гневно упал на стол.
– Дурно ему! Воды! Знахаря! – закричали смутившиеся гости.
– На воеводстве тебя, Петя! – сказал Андреев, подходя к Терехову-Багрееву.
Боярин с ужасом замахал руками.
– Господи, страсти какие! – прошептал он.
Тем временем воеводу слуги унесли в опочивальню. Гости стали расходиться, низко кланяясь новому воеводе.
Вдруг к последнему подошёл дворецкий.
– Боярин просит тебя к себе!
Терехов быстро поднялся, несмотря на свою тучность, и поспешил к бывшему воеводе.
Тот лежал, как гора, на широкой постели и тяжело храпел. Из свесившейся руки в глиняный таз текла чёрная кровь, ловко выпущенная татарином-знахарем. Увидев Терехова, он глазами подозвал его к себе и зашептал:







