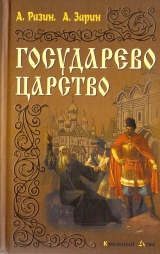
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
«Бог милосердный по своему произволению покрывал нас от изменника Бориса Годунова, хотевшего нас предать злой смерти, не восхотел исполнить злокозненного его замысла, укрыл меня, прирождённого вашего государя, своей невидимой рукой и много лет хранил меня в судьбах своих; и я, царевич Димитрий, теперь приспел в мужество и иду с Божьей помощью на прародителей моих, на Московское государство и на все государства Российского царствия. Вспомните наше прирождение, православную христианскую истинную веру и крестное целование, на чём вы целовали крест отцу нашему блаженной памяти царю и великому князю Ивану Васильевичу всея России и нам, детям его – хотеть во всём добра; отложитесь ныне от изменника Бориса Годунова к нам, и вперёд уже служите, прямите и добра хотите нам, государю своему прирождённому, как отцу нашему, блаженные памяти государю царю великому князю Ивану Васильевичу всея Руси; а я стану вас жаловать по своему царскому милосердному обычаю, и буду вас свыше в чести держать, ибо мы хотим учинить всё православное христианство в тишине и покое и в благоденственном житии».
По целым дням иногда сидел Бучинский, переписывая эти грамоты в великом множестве экземпляров. В Самборе было известно, что царь Борис принял все меры, чтобы не допускать таких грамот в своё государство, и что многие перехватываются полицейскими агентами для отправления к царю. Поэтому приходилось заготавливать их очень много, рассчитывая, что только десятая их часть попадёт в руки московских людей. Для пересылки их употреблялись всевозможные средства: укладывали их в кипы товаров, вкладывали в мешки с хлебом; а хлеба доставлялось тогда много в Московское государство по случаю бывшего неурожая. Борисовы люди жестоко преследовали эти грамоты и их распространителей, и тем упорнее люди везде шёпотом толковали, что царевич жив и идёт занять престол своих прародителей. Боясь преследований, множество народу бежало в Польшу, и в Самборе то и дело московские люди просили разрешения ударить челом царевичу и звать его в Москву.
Так однажды, уже в конце августа, было большое представление в угольном павильоне самборского дворца. Из рязанской земли Ивашка Кашин с товарищем, из Москвы торговый гость Андрюшка Сокольников с троими беглецами, из Суздаля Ивашка Просовиков дворянского рода, из Ярославля Кирюшка Охотин, бежавший из московского застенка, всего человек пятнадцать ожидали выхода царевича. Позади этой маленькой толпы, у стены, с видом недоверчивого любопытства, скромно держался сын самборского православного священника Яков Зубрицкий. Он недавно окончил курс во львовском братском училище, собирался поступить на должность учителя в Перемышле, а между тем работал при отце. Весть о царевиче всея Руси давно достигла скромного жилища священника, отца Герасима, но смиренный служитель алтаря один раз только попробовал проникнуть в гордый самборский замок, и попытка эта не удалась. Священник потом всё ожидал, что православный царевич посетит его бедную церковь, хоть раз отслушает обедню и помолится вместе со своими единоверцами по православному обряду. Но царевич, похоже, и не вспоминал о русской церкви, не приходил он молиться со своими единоверцами, и отец Герасим впадал в сомнение, и в глубине души своей говорил, что он, конечно, человек не русской царской крови. После весьма долгого ожидания он послал, наконец, сына Якова посмотреть – что это за царевич...
Димитрий вошёл в сопровождении своего секретаря и бессменного Корелы. Приезжие поклонились в землю и не поднимались, пока царевич не ободрил их ласковым словом. Он каждого расспрашивал, откуда тот приехал, чем занимался на родине, оставил ли дома семью, собирается ли домой и когда...
– Где уже домой, отец ты наш милостивый! – отвечал на расспросы Кирюшка. – Разве есть дорога домой тому, кто твоей милости челом бил? По косточкам разоймут того, кто царскому твоему господарству поклонился, либо на кол посадят. Лиходеи твои, Борисовы люди, как псы, рыщут и хватают людей, и мучениям предают всякого, кто только слово молвит про твоё здоровье: языки вырывают, уши режут, исполосавши спину кнутом. А уж если кто здесь побывал, так Борисовы люди изведут лютой казнью не только его, но и всех его родственников до седьмого колена. Нет, отец наш! За тобой разве, так ещё можно думать о родине, а без тебя – камень на шею да в воду. Другого пути нет.
– Изождались мы тебя, отец наш пресветлый! – прибавил, низко кланяясь, торговый гость. – Скучают по тебе людишки твои, и ты бы к нам в Москву, на свою дедину и отчину, шёл, не мешкая. Вся земля тебе ударит челом с радостью.
– Собираюсь, собираюсь, друзья мои! – отвечал Димитрий ласково и добродушно. – И теперь уже недалеко то время, как, Бог даст, ступлю на родимую русскую землю.
– Земля-то пущай и здесь родимая русская земля, – возразил рязанец Ивашка. – Шли мы путём-дорогой, так вплоть до здешнего места не видали крестьянина без православного креста и без нашего русского языка, и говорят христиане, что ещё дальше, на целую неделю пути, хватит русской веры и русского языка, а там уж пойдёт сплошь поляк и немец. Придёт время, весь крестьянский народ поклонится тебе, царю белому; только теперь бы идти тебе на родительский престол, на Москву. Приспела самая пора!
«Дело возможное! – подумал Бучинский. – Пожалуй, что поклонятся, потому что хлопы как-то напряжённо нас ненавидят, особенно после глупых попыток моих милых учителей, отцов иезуитов, которые раздражили народ, насильно навязывая присоединение к латинскому догмату. Да, хлопы в имении польского короля зовут московского царевича своим, я слышал это не раз. Об этом стоило бы подумать польским вельможам, как и мы, московские вельможи, будем думать о том же, только с другой стороны. Недаром московский великий князь зовёт себя царём всея Руси...»
– А ты, друг, откуда? – спросил Димитрий, подойдя к Якову Зубрицкому и ласково положив ему руку на плечо.
– Я здешний, ваше царское высочество! – ответил Яков. – Я сын здешнего православного священника.
– Вот как? – удивился царевич. – Значит, здесь есть православная церковь? Это хорошо!..
– Весь здешний край со времени равноапостольного князя Владимира православный, и, несмотря на гонения латинян, несмотря на отступничество собственных своих иерархов, подписавших унию, навеки останется верным исповеданию своих предков – истинной вере.
– Да?.. Ну, это хорошо! – отвечал Димитрий, несколько смешавшись. – И большой тут приход? Я непременно, при первом же случае, побываю у вас, то есть в нашей церкви.
После этих слов царевич ласково, но несколько торопливее обыкновенного отпустил своих земляков и принялся с Яном Бучинским и Корелой обсуждать в подробностях способы поскорее вступить в московскую землю. Корела говорил, что царевича ожидают по крайней мере восемь тысяч казаков. Бучинский объяснял, что у него записано более тысячи двухсот добрых воинов, что этого числа совершенно достаточно, так как нужен скорее конвой, чем войско, для вступления в Московское государство, которое поголовно признает права царевича на престол. Он прибавлял, что надо бы торопиться, потому что всякое промедление даёт Борису возможность собраться с силами и придумать какую-нибудь каверзу. Решили, что сегодня же царевич настоятельно поговорит с воеводой и станет его торопить.
Так и сделалось. После блистательного бала царевич ушёл на половину воеводы и далеко за полночь беседовал с ним и с ксёндзом Помаским. С большим количеством полудружественных, полупочтительных поклонов воевода проводил царевича из своего кабинета через приёмную, где чутко дремавший Корела медленно поднялся со своего места.
– Прошу ваше царское высочество ещё неделю или десять дней срока, – говорил Мнишек. – Не далее как в первых числах сентября мы выедем из ненавистного вам Самбора в Глиняны, к войску, и будем продолжать поход безостановочно. Таким образом, ранее конца нынешнего года вы вступите в свою столицу.
– Благодарю вас, искренне благодарю! – отвечал Димитрий. – Благодарю за вашу дружбу и скорый, наконец, поход!
– Я просил бы ваше царское высочество не благодарить и вспомнить, что я здесь действую столько же из преданности вам, сколько из любви к своей дочери, наречённой невесте вашей: ведь вслед за вами она вступит на престол...
Царевич ещё раз поблагодарил его и в сопровождении Корелы вышел в опустевший танцевальный зал. Оттуда надо было пройти коридором, потом большой столовой, и дальше через три комнаты войти в сени, принадлежащие к павильону царевича. Была ясная, тёплая, светлая лунная ночь. По хорошо знакомым комнатам и переходам царевич шёл весело, разговаривая с атаманом. Он радовался, что скоро наступит желанная развязка и он в состоянии будет по-царски вознаградить Мнишка за его гостеприимство и громадные расходы. Корела бесцеремонно зевал, находя, что когда время придёт рубиться, то он будет исполнять своё дело как следует. Они вступали уже в последнюю перед сенями комнату. В ней послышался едва уловимый и необычный шорох. У Корелы в один миг пропала сонливость: с тем удивительным чутьём, какое нередко развивается у боевых казаков, он прямо бросился в тёмный, не освещённый луной угол комнаты, и в то же время на него кинулся человек с ножом в руке. Как ни ловок был казак, но его положение оказалось слишком невыгодно: он весь предстал в лунном свете, тогда как его противник скрывался в тени. Жестокая царапина ножом по лицу досталась атаману, но ещё более жестокий удар его могучего кулака повалил злодея на пол. Всё это случилось в одно мгновение, так что когда царевич подбежал к своему телохранителю, тот уже насел на своего противника и схватил его обеими руками за горло.
– Говори, разбойник, что ты за человек? – рычал Корела. – Чего тебе надо?
А тот не мог ещё опомниться от страшного удара по голове и только хрипел под сильными пальцами казака.
На шум прибежал Ян Бучинский, мучительно высиживавший ответ Папе на послание, полученное Димитрием ещё в Кракове, почти пять месяцев тому назад. Секретарь царевича наделал шума, созвал сторожей. Принесли огня. Среди толпы слуг стоял залитый кровью Кирюшка Охотин, поутру в тот же день так усердно приглашавший царевича в Москву; он не был ранен; на него натекла кровь из довольно глубокой, длинной раны, сделанной его ножом на лице Корелы. Под крепкой стражей он был уведён в тюрьму, а казак пошёл в покои царевича обмывать свою рану. Бучинский охотно помогал ему в этом.
– Экий разбойник! Как полоснул! – говорил атаман, смотрясь в серебряное зеркало, которое держал Бучинский, и поливая себе лицо водой. – Вон, по лбу стреканул, бровь совсем рассёк и по щеке проехал!.. Тьфу! И во рту кровь! Э, да это он щёку-то просадил насквозь да промеж зубов воткнулся. Чуть было глаз не задел, разбойник! А? Право, разбойник...
В это время Бучинский любовался простодушным лицом атамана. Корела был не красавчик, и это была уже третья отметина на его загорелом лице.
– А где ты достал себе вот эту полосу? – спросил Бучинский, указывая на белёсый шрам с другой стороны лица.
– Этот-то? Это мне турка в Трапезуйте полоснул... Плавали мы туда погулять. Ну и, как водится, подрались маленько.
– А эта полоса откуда?
– Это – перекопская. Как решето меня искололи в тот раз татары и оставили замертво. Много наших добрых казаков тогда полегло... Пойти, однако, землицы достать тут из-под груши.
Но царевич не дал ему идти за землёй и аккуратно залепил ему раны приготовленным между тем пластырем. Через полчаса Корела храпел уже поперёк опочивальни царевича, постлав на полу узенький ковёр.
– Я надеюсь, что с такими людьми можно будет дело сделать! – заметил Бучинский, оставшийся на эту ночь в комнате царевича. – Совершил подвиг, был на волосок от смерти – и уже спит, как младенец, который кашки поел.
На другой день стало известно, что в то же позднее время был схвачен и товарищ Кирюшки Охотина, седлавший двух лошадей, как видно, готовясь к бегству в случае удачи или неудачи покушения. Рано поутру злоумышленники были подвергнуты жесточайшей пытке. И здесь мы должны оговориться... Пусть читатели наши не считают за это Мнишка и его маршалка какими-то чудовищами. В те суровые времена, несколько веков тому назад, самые жестокие пытки были весьма простым, обыденным делом и употреблялись так же часто, как в наше время арест. Предполагалось, что обвиняемый человек в мучениях пытки скажет всю правду о своих намерениях и непременно назовёт единомышленников. Преступники показали, что они подосланы Борисом, чтобы убить Гришку Отрепьева, именующего себя царевичем; за это им обещано прощение всех старых преступлений и большое денежное жалованье. Такое важное преступление, как покушение на жизнь царевича, требовало примерного и быстрого суда и наказания.
На этот случай танцевальный зал переменил свой вид и обратился в судебную палату. В одном конце зала поставили высокий балдахин, а под ним, на возвышении в три ступени, – большое бархатное кресло. Впереди приготовлен был аналой с крестом и евангелием; направо стол для подсудка и секретаря; налево – скамья для подсудимых; прямо – скамья свидетелей. На некотором расстоянии расставили три или четыре ряда стульев для дам и почётнейших гостей, а за ними оставили большое пространство для публики попроще. Торжественный суд, на котором Мнишек представлял особу короля, как владельца Самбора, и в то же время пользовался своими воеводскими правами, был большой редкостью. Поэтому танцевальный зал быстро переполнился зрителями: вся дворовая челядь, отряд надворных воинов, множество жителей местечка Самбора, шляхтичей, их жён, жидов, жидовок наполняли танцевальный зал. Осторожный, вежливый шёпот толпы слышался глухим гулом. Возле отворенных окон толпились те, которые не могли протиснуться в зал, и напрасно старались взглянуть хотя бы на приготовления к суду. Пышно разряженные дамы, а за ними десятка три блестящих кавалеров вошли в особую дверь и заняли приготовленные стулья. Потом вошёл сам воевода в белом бархатном кунтуше, обшитом соболем. Грудь его покрывали несколько широких золотых цепей. На голове белая шапка была украшена великолепным павлиньим пером, приколотым огромной пряжкой из драгоценных камней. Для украшения головных уборов павлиньи перья использовались одними Мнишками, и то потому, что три павлиньих пера составляли их герб... Гости встали со своих мест. Мужчины сняли шапки. Воевода, никому не кланяясь, вошёл в сопровождении своего маршалка и двух его помощников и прямо направился к балдахину. Маршалок, в одеждах, расшитых золотом, поместился позади кресла. Заседание суда началось. Стража ввела измученных преступников. Секретарь начал читать наскоро составленный обвинительный акт. Потом позвали свидетелей. Сначала вошёл Димитрий, и воевода почувствовал особенное удовольствие, когда московский царевич, стоя перед ним, сидящим высоко, давал свои показания. Потом вошёл Корела с заклеенным свежим пластырем лицом. Он говорил уже с трудом вследствие начавшегося в щеке воспаления и только кивал или отрицательно качал головой на вопросу подсудка и воеводы. Преступники сознались в намерении убить Гришку Отрепьева, именующего себя московским царевичем Димитрием. Они старались оправдать себя тем, что их ввёл в заблуждение Семён Годунов, уверявший, будто в Самборе живёт не истинный царевич, а самозванец, и что если бы они знали, на кого поднимают руку, то никогда не решились бы на подобное злодеяние. Суд решил, и воевода громко провозгласил, что преступники должны быть подвергнуты смертной казни чрез повешение, на торговой площади королевского местечка Самбора, а на приготовление к смерти милостиво даруются им четыре часа. Суд был кончен. Осуждённые на смерть невольно взглянули на небо, и глаза их увидели потолок, роскошно расписанный букетами, арабесками, гербами, амурами и музыкальными инструментами. Потом они взглянули на публику, и глаза их встретили блистающих нарядами дам и вежливых кавалеров, пожимавших руки царевичу и поздравлявших его со счастливым избавлением от опасности. А потом суровая стража повела их, истерзанных и измученных, в тюрьму, для последней беседы с отцом Герасимом.
Четырёхчасовой срок для приготовления к смерти был рассчитан таким образом, чтобы гости, желающие видеть исполнение приговора, успели спокойно пообедать. И в самом деле, в назначенное для казни время торговая площадь была очень оживлена и блистала самыми роскошными костюмами; причём последние оказались гораздо ближе к виселицам, нежели сермяги и жидовские пейсики.
III
 бop войска назначен был под Глинянами, верстах в ста тридцати от Самбора, ближе к Волыни. Иначе невозможно было распорядиться, потому что если бы весь отряд жил между тем в Самборе, то его пришлось бы содержать совсем иначе, нежели в лагере. Туда-то мало-помалу отправлял пан Бучинский походные возы для самого воеводы, для царевича и для своего ненаглядного сына. С особенным вниманием готовились возы для Мнишка. Сначала из королевских запасов послано было венгерское в бочках. После того отправилась телега с воеводской палаткой и кое-какой мебелью для неё. Потом – особый воз с одеждами воеводы и с оружием. Затем отправлены были возы с палатками для прислуги, с походной кухней и с посудой для обеда на сто человек гостей и ещё множество всякой всячины, так что багаж только одного воеводы составлял порядочный обоз. Этим обозом заведовал и каждый воз осматривал внимательно недавно принятый Мнишком на службу Болеслав Оржеховский, сын знаменитого в своё время ксёндза-каноника Оржеховского, который прежде других польских ксёндзов нарушил правило латинской Церкви, воспрещающей своим священникам радости и счастье семейной жизни. Этот умный и энергичный ксёндз женился и произвёл своим дерзким поступком целую бурю в обществе польского духовенства. Сын его был уже далеко не первой молодости, когда, заслышав о смелом предприятии Мнишка, явился к воеводе и предложил свои услуги. Мнишек назначил его управляющим своего обоза и многочисленной походной прислуги, таким же маршалком в походе, каким Бучинский оставался в Самборе.
бop войска назначен был под Глинянами, верстах в ста тридцати от Самбора, ближе к Волыни. Иначе невозможно было распорядиться, потому что если бы весь отряд жил между тем в Самборе, то его пришлось бы содержать совсем иначе, нежели в лагере. Туда-то мало-помалу отправлял пан Бучинский походные возы для самого воеводы, для царевича и для своего ненаглядного сына. С особенным вниманием готовились возы для Мнишка. Сначала из королевских запасов послано было венгерское в бочках. После того отправилась телега с воеводской палаткой и кое-какой мебелью для неё. Потом – особый воз с одеждами воеводы и с оружием. Затем отправлены были возы с палатками для прислуги, с походной кухней и с посудой для обеда на сто человек гостей и ещё множество всякой всячины, так что багаж только одного воеводы составлял порядочный обоз. Этим обозом заведовал и каждый воз осматривал внимательно недавно принятый Мнишком на службу Болеслав Оржеховский, сын знаменитого в своё время ксёндза-каноника Оржеховского, который прежде других польских ксёндзов нарушил правило латинской Церкви, воспрещающей своим священникам радости и счастье семейной жизни. Этот умный и энергичный ксёндз женился и произвёл своим дерзким поступком целую бурю в обществе польского духовенства. Сын его был уже далеко не первой молодости, когда, заслышав о смелом предприятии Мнишка, явился к воеводе и предложил свои услуги. Мнишек назначил его управляющим своего обоза и многочисленной походной прислуги, таким же маршалком в походе, каким Бучинский оставался в Самборе.
Не только со вниманием, но с любовью пан Бучинский составлял воз для сына. Старику хотелось, чтобы у Яна всё необходимое было под рукой: и бельё, и платье, и запасное оружие, и провизия, и бочонок венгерского, и письменные принадлежности, и чтобы всё это было как можно разумнее и как можно надёжней уложено. Но когда в лагерь под Глиняны отправлен был такой воз с самым благонадёжным хлопом, старику стало казаться, что несколько лишних окороков ровно ничему не помешают, и хоть Ян будет жить в одной палатке с Димитрием, однако запасная палатка, хоть и не такая большая и пышная, но зато необыкновенно прочная, может сильно пригодиться. К тому же Яну предстоял поход в холодную страну: зима могла его застигнуть ещё на пути к Москве, и потому несколько меховых одеял будут очень полезны. Понемногу образовался ещё воз – с другим благонадёжным хлопом, и неизвестно, на каком количестве возов остановился бы заботливый отец, если бы воевода не заказал ему на завтра прощальный пир и бал, с тем чтобы на другой день с восходом солнца выехать в Глиняны.
Среди последнего бала Бучинский вызвал сына к себе. Там, в кабинете старика, похожем на кладовую, сидел с распоротым седлом на коленях поджарый седельник.
– Ну, слушай, сын мой любимый! – сказал старик с некоторой торжественностью. – Кроме моего благословения, вот тебе в дорогу мешочек. Для тебя одного, для тебя я всю жизнь копил и откладывал. В дороге это пригодится, а если всё пойдёт так счастливо, что не пригодится, – то тем и лучше! Возьми ты это. Здесь все венгерские червонцы. Своими руками засыпь их в седло и присмотри, как зашьётся. Нарочно я тебя позвал, чтобы ты своими глазами видел. А то когда понадобится достать, то не будешь знать, с которой стороны взяться. В черенке на поясе особо станешь держать то, что должно быть под рукой, на расход, а в кошельке никогда не держи золота. Будешь расплачиваться мелочью, серебром; так нехорошо, если злой человек увидит вдруг золото. Мало ли что злому человеку взбредёт на ум, когда увидит он золото. Побудь ты здесь, а я пойду покамест в зал посмотреть кое-что.
И молодой человек принялся укладывать необходимейший из всех дорожных запасов. А старик весь вечер толковал с Болеславом Оржеховским, поручая сына его вниманию и с тонкостью намекая, что Ян, в качестве первого министра царя московского, сумеет его достойным образом возблагодарить.
– Знаешь, пан-благодетель, – говорил старик Оржеховскому, не обращая никакого внимания на танцующую толпу и озабоченный одной только мыслью о любимом сыне, – поход, война, это дело трудное! Бог знает, что может случиться, как могут вдруг повернуться дела! Да что я толкую пану? Пан десять раз воевал и совершал походы. Рана может случиться, какая-нибудь лёгкая, пустая рана. Только присмотри за больным – и в два дня всё прошло; а брось его так, без призору, без дружеской руки, – и разболится рана, и на весь век он калека, а, пожалуй, и ещё хуже что-нибудь приключится... Будь ты для него, пан-благодетель, этой спасительной дружеской рукой! – продолжал Бучинский, и слёзы слышны были в его дрожащем голосе. – И пан Бог тебя не забудет, и я здесь буду молиться каждый день за сына и за его великодушного избавителя.
– Уже не раз я обещал пану-благодетелю, – отвечал Оржеховский, – что на чужбине Ян будет иметь во мне надёжного друга, как же, как и я надеюсь на его дружбу. Я же не мог не полюбить его всем сердцем – это такая благородная, самоотверженная натура.
– О, пан-благодетель ещё мало знает Яна! – возразил с наивной радостью старик и принялся осторожно выхвалять своего сына, подтверждая свои слова даже анекдотами из детских лет Яна. – Но в том-то и дело, что он меры не знает, и уж если отдастся какому делу, то отдастся весь – беззаветно... А поход такое трудное дело... Там глубокая река, тёмная ночь, там пули эти, сабли, там засада... а мой Ян и не знает ещё, что такое военная осторожность... Так если бы пан-благодетель был так милостив, чтобы научил его на первых-то порах...
– Я уже обещал пану, – повторил было Оржеховский, начинавший терять терпение.
Но старик подхватил торопливо и бойко, но слезливо:
– Только на самых первых порах, я говорю, потому что мальчик глуп.
– Видели, как пан воевода кивнул? Это он меня зовёт или вас? – спросил Оржеховский и пошёл через весь зал, и, подойдя к воеводе, почтительно склонился, выслушивая его приказания.
Но едва Оржеховский освобождался, как бедный озабоченный старик опять начинал ему толковать о предстоящем походе, о тёмной ночи, о глубокой реке, о вражьей пуле, о раненой лошади, которая может занести человека Бог знает куда... К счастью, роскошный прощальный ужин потребовал всех забот пана Бучинского, иначе Оржеховский и до завтра не отделался бы от него.
Наутро всё было в такой готовности к отъезду, что воевода, вышедший с Димитрием на крыльцо, увидел осёдланных уже лошадей, а свой маленький отряд провожатых из надворной кавалерии уже верхами. Молодцевато вскочил старый, толстый воевода на лошадь, милостиво допустив к руке своего маршалка, и, указывая на зарю, пылавшую в полнеба прямо перед ними, сказал Димитрию:
– Царевич! Ваша заря поднимается!..
– В добрый час! – отвечал Димитрий. – Вы зажгли эту зарю, пан воевода, и если солнце взойдёт, то оно вам одним будет обязано своим светом.
Весь отряд тронулся шагом навстречу заре, обогнув громадный, угрюмый костёл, и по широкой тополёвой аллее въехал в местечко Самбор. Там, близ торговой площади, на паперти приземистой, полусгнившей деревянной церкви стоял священник в бедном полном облачении и вокруг – несколько сотен человек русских крестьян из ближайших деревень Самборской экономии. Только лишь отряд показался из-за угла, как народ повалился на колени.
– В добрый час, царевич, наш батюшка! – кричали сотни голосов. – Отец, помилуй нас, твоих людей! Счастливый путь!..
Священник, широко благословляя пространство по направлению к царевичу, громко сказал:
– Помяни нас, господине, егда приидише в царствие твоё!..
Царевич набожно снял шапку и положил на себя крестное знамение. Отряд в полном молчании проехал дальше, и с первым шагом его за город солнце, со своей ежедневной торжественностью, выкатилось на небо и стало перед глазами путников. Они были немного озадачены простой, но знаменательной и неожиданной сценой, только что виденной ими у маленькой низенькой церкви с провалившейся в двух местах кровлей.
– Да, это страшная сила! – тихо говорил Ян Бучинский. – От самого Сана, вся Галичина, всё Полесье, Чёрная Русь, Волынь, Малая Русь, всё готово подняться по одному слову этого человека, по первому благословению этого дешёвого медного креста в руках несчастного, загнанного попа. Да, бедные люди, ваш царь помянет вас, когда будет в Москве, за это я вам ручаюсь, и пусть польские государственные люди подумают, как сохранить эту часть республики, но оставить её нельзя в таком положении. «Помилуй нас, людей твоих, отец!» Они просят милости своего отца считать себя его людьми. О король Сигизмунд! Тебя никто никогда так не провожает и не встречает... Страшна, громадна сила русского царя, но зато же как велики и обязанности!.. И я буду считать себя вполне счастливым, если сделаюсь одним горячим, сильным лучом этого всесогревающего солнца. Но я и теперь уже ему брат...
Молодой человек телом и душой отдался опасному предприятию Димитрия, и мечтал о славе, о величии, о том количестве добра, которое он в состоянии будет сделать для нового своего отечества; о том, как при содействии своего царственного друга он разольёт по всей московской земле свет просвещения и, может быть, поможет осуществлению тех двух слов, которые в титуле московского царя не соответствуют действительности, так как «всея Руси» большая половина была под властью гордых, недоступных панов и ненавистных иезуитов.
А старик Бучинский, проводив глазами сына, обернулся и медленно побрёл в свою комнату. Все окна самборского дворца блестели ему навстречу красным отражением зари. Несколько жидов со своими счетами уже кланялись ему почти до земли... Ничего не замечал старик, ушёл к себе, и целый день его никто не видел.
Медленно тянулось время в опустевшем Самборе. Невеста царевича, будущая царица московская, Марина Юрьевна, скучала; её мачеха занялась своими младшими детьми и тоже скучала; ксёндз Помаский уехал на несколько дней в Краков; старый маршалок двора понемногу привёл в порядок запущенные летом дела, и его неутомимой энергии некуда было деваться. День медленно проходил за днём и тихо погружался в вечность. Старик поджидал только возвращения того отряда надворной кавалерии, который составлял почётный конвой Мнишка и царевича. Этот отряд считался на королевской службе и потому не мог быть употреблён по частному делу, каким считалось дело Димитрия. Польша была в мире с царём Борисом; король не имел права нарушить этот мир без согласия сейма польской республики и, по совету папского нунция, не мог сделать для Димитрия ничего иного, как только смотреть сквозь пальцы на содействие, какое оказывалось ему частными лицами. Если бы в Московское царство вступил хотя бы небольшой отряд, находящийся на королевской службе, то это втянуло бы в войну с Московией всю польскую республику. Мнишек знал это очень хорошо, знал также, что многие сенаторы и сам коронный гетман Замойский резко порицали всякое вмешательство в дело Димитрия и считали его самозванцем, и поневоле должен был отпустить свой конвой из-под Глинян накануне того дня, как начнётся поход.
В самом деле, недели через две надворная кавалерия вернулась, и начальник её, пан Юлиан Камоцкий, получил от маршалка приглашение на ужин. Во время отсутствия воеводы его маршалок имел довольно большое значение, и потому пан Камоцкий, впрочем и себя считавший немаловажной особой, охотно принял это приглашение.
Юлиан Камоцкий был опытный, храбрый воин. Он начал службу за двадцать четыре года перед тем, при короле Стефане Батории, участвовал в осаде Пскова и Великих Лук, дрался под Торопцом. После того он сражался против гетмана Косинского, совершил множество других походов и, наконец, жестоко был изранен при взятии Замойским уже в 1602 году эстонской крепости Белого Камня, или Вейсенштейна. В награду за службу и раны он получил спокойное местечко начальника надворной кавалерии в Самборе. Он считал себя великим знатоком военного дела и без пощады бранил все чужие распоряжения, в которых уже не имел возможности принять прямого участия сам. Проводив воеводу в Глиняны, он вернулся недовольным, почти сердитым, так что когда старый маршалок за ужином стал его расспрашивать о том, что делалось в Глинянах, он сначала отвечал неохотно. Под конец, однако же, венгерское винцо развязало ему язык.
– Поход! Гм... хорош поход! Насмешка над походом, а не поход! – ворчал он, сведя брови. – Сбежалось слишком три тысячи всякой сволочи, которая зовётся казаками, и думают воевать...
– Чем же это, мой пан любезный, казаки не войско? – возразил довольно нерешительно и даже с замиранием сердца пан Бучинский. – Воевать они умеют, и не раз задавали трудную работу даже нашему королевскому войску...
– Воевать? Казаки-то воевать? – горячился Камоцкий. – Да знает ли пан, что такое казаки? Есть у нас украйны – края за пределами регулярного населения, пограничные с татарами. Туда скрываются разные беглые рабы, висельники, сорвавшиеся с верёвок, каторжники, ещё не успевшие сбросить цепи, разбойники с больших дорог. Весь этот хлам скапливается по украйнам, кое-как пашет там землю и беспрестанно дерётся с разбойниками-татарами. Это всё никуда не годные головорезы, и нужен опытный предводитель, чтобы сделать из этой ватаги войско; тут нужен человек бывалый, железная рука, чтобы подтянуть эту сволочь, а не придворный человек, не сенатор, не подагрик.
– Но ведь есть же там и регулярное войско?
– О нём я не говорю ничего, если б только оно побольше показало смысла в избрании полковников. Собрался рыцарский круг, съехались молодцы верхами, и разом выкрикнули гетманом здешнего воеводу, как будто он когда-нибудь водил в атаку хоть одну какую-нибудь хоругвь. Потом разделились на полки: ну, это, положим, так водится. Что же вы думаете? Слышу, один полк, четыреста человек, выбирает Адама Дворжицкого, мальчишку, который сбежал у нас в эстонском походе. Другой полк выбирает кого? Станислава Гоголинского, пьяницу горчайшего, и к нему отходит тысяча четыреста человек. Третий выбирает Адама Жулицкого, который ещё при покойном короле Стефане был полковником и давно выжил из ума. У него восемьсот человек. Передовую стражу, двести казаков, отдали Неборскому. Ну, этот выбор я хвалю, потому что Неборский мне крестник, а под Белым Камнем сам старик Замойский его расцеловал. На другой же день после выборов являются к своему царевичу русские хлопы и, по обычаю своему, бьют челом, жалуются, что его жолнеры их обижают, разоряют, грабят, убивают... На что же это похоже? В неприятельской стране, положим, что это так и должно быть, это правило войны; а дома-то у себя, в пределах республики!.. Это уже самое постыдное дело! Отыскали виновных. Мы, говорят, не королевское, а вольное войско. Хорошо оправдание! А этот баба Гоголинский только прикрикнул на них, вместо того, чтобы взыскать хорошенько, и отпустил. Попробуй-ка они это сделать в моём полку! Да я заставил бы их звёзды считать с первого дерева!.. Право, у казаков больше порядка. Наш Корела у них атаманом, и молодец, сейчас видно, что пожил между порядочными людьми: как приехал, так и принял начальство над этой сволочью без разговоров, никого не спрашивая. И весь этот разношёрстный народ, по большей части никогда его не видавший, сразу признал его своим начальником...







