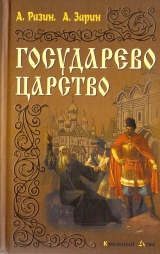
Текст книги "Государево царство"
Автор книги: Андрей Зарин
Соавторы: Алексей Разин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Ну уж хитрец! – заметила с укоризной попадья. – Эх ты, поп ты мой, простота! Где тебе на хитрости пускаться! Ты хоть три года сиди, а никакой хитрости не придумаешь!.. Молись ты лучше, чтобы Господь Бог сохранил нашего царевича на пути истины!..
– Подожди, не мешай, женщина! Молиться я буду денно и нощно, однако не помешает и маленькая хитрость. Вот что надо. Завтра день воскресный. После ранней обедни возьму образа, хоругви и приду на замковый двор... Нет, шутишь! Крестного хода нашего не спрячешь! Нельзя будет сказать за царевича, будто ему некогда. Выйдет и помолится, и будет моим прихожанином и духовным сыном... Так ли, жена? Так ли, Яша?
– Ох, до смерти боюсь я такой хитрости! – сказала тоскливо попадья. – Ты слышал, что в Луцке было, в Вильне, во Львове? Ксёндзы своих семинаристов выпускают, как собак... Виленских братчиков избили, четверых пришлось хоронить на другой день... Ох, не делай этого, батюшка! До смерти боюсь!
– Ну а ты что скажешь, Яша? – спросил священник сына.
– Во Львове у нас последняя драка была в Крещение, – отвечал Яков. – У нас по старожитному счёту наступило Крещение, а у них давно прошло, и в этот день в иезуитской коллегии пана Мнишка было ученье. Водосвятие совершилось благополучно, и весь крестный ход возвращался в Онуфриевский братский монастырь. Какой-то семинарист мимоходом ударил одного из братчиков – сапожного цеха голову, будто так, шутя, по-школьнически. Братчик не стерпел, дал ему лёгонького подзатыльника. Мальчишка взвыл, точно с него кожу снимают. Тотчас же из-за угла – как в засаде сидела – накинулась на нас вся коллегия, с палками, с кулаками, а в кулаках-то камни. Мы тоже не подставляли шеи, и началась свалка... До самого экзамена у меня синяки были на лице, а один товарищ, Бондарченко, так до сих пор кровью кашляет. Они это делают, точно. Завтра, если уж так, нам бы только на замковый двор войти всем ходом благополучно, а там мы сразу станем под защиту самого царевича... Что же они тогда сделают? Если он даже и поддельный, то и тогда ему нельзя будет позволить надругаться над святыней. Кто же ему поверит после этого?..
Назавтра отец Герасим решил привести в исполнение придуманную хитрость. После ранней обедни высокие ветхие хоругви медленно двигались по самборской торговой площади. Народ, большей частью православный, набожно расступался перед крестным ходом. Евреи сторонились и, помня старинные уроки, за которые нередко платили своими рёбрами, снимали свои засаленные ермолки. Вот процессия вышла к оврагу: оставалось только спуститься, перейти мост, подняться к костёлу, обогнуть его и вступить в замковый двор. В это время ксёндз Помаский заканчивал свою фанатическую проповедь. Он вчера видел в замке поповского сына, и хотя ничего не знал о приготовлявшемся крестном ходе, однако подозревал, что энергичный отец Герасим предпримет что-нибудь для завоевания себе царевича Димитрия. Волнуемый ненавистью и ожиданием того, на что решится ненавистный поп, он сказал пламенную проповедь против «еретиков», как обыкновенно называли православных все его современники-католики. Он говорил, что они богоотступники, что они пренебрегают заповедью Божьей о едином стаде и едином пастыре, что они отказались от предложенного им в Бресте единения с апостольским римским престолом и, коснея в еретических своих заблуждениях, вполне заслуживают строжайшей кары в сей жизни и в будущей. Кончая свою проповедь, он заслышал тонкий звон небольшого колокола православной церкви, и красноречие его ещё более воспламенилось. Но когда со своей высокой кафедры он приметил вдали, за оврагом, движение хоругвей, то разразился громами и провозглашал чуть не крестовый поход против еретиков – чуть не поголовное их истребление.
Слушатели его принадлежали к мелкой шляхетной челяди королевского замка. Дурные страсти необразованных людей, подогретые фанатическим красноречием ксёндза, готовы были вспыхнуть. Выходя из костёла, толпа увидела спускавшуюся на мост процессию и кинулась ей навстречу. Ксёндз Помаский в опустевшем костёле торопливо опять взобрался на кафедру и наблюдал за последствиями своего красноречия. Столкновение произошло на мосту, перекинутом через овраг. Через открытое окно он слышал крики, вопли, ругательства. Перила сломались. Несколько человек полетели в овраг. Хоругви остановились, стали колебаться, потом опустились в толпу... Ксёндз с удовольствием потирал руки, благосклонно улыбался и, медленно сходя с кафедры, говорил шёпотом:
– Вот, любезный поп! Не следовало тебе даже пытаться пробить стену своей безрогой головой... Ты должен бы сообразить, что ничего таким образом не приобретёшь, кроме шишек на лбу... Надеюсь, что этот маленький урок послужит тебе на пользу и направит тебя с глупым стадом твоим на путь унии...
К несчастью, эта свалка на мосту – случай невыдуманный. Подобные сцены насилия повторялись чрезвычайно часто в семнадцатом столетии, особенно в первой его половине, когда иезуиты, одолевшие кальвинизм и лютеранство в польских областях, нацелились одолеть и православие. Для этого придумана была уния. Но когда отступничество четверых епископов не произвело желаемого действия, и миряне, вместо того чтобы слепо идти по следам своих архиереев, поговаривали о том, чтобы свергнуть их с епископских кафедр, ксёндзы стали действовать в частности на каждый приход. И мелкими притеснениями, и выражением пренебрежения, и обещаниями выгод, и серьёзными оскорблениями, и даже физическими действиями выжимали они из священников и из прихожан согласие на унию. К чести русских людей надо заметить, что даже до нынешнего дня среди униатского населения остаются ещё несколько приходов, верных чистому православию. Эта верность обошлась им дорого – обошлась непрерывными притеснениями, гонениями, а иногда и мученичеством в продолжение нескольких веков...
С великим трудом, и то благодаря усердию своих прихожан, отец Герасим собрал и привёл в порядок разные церковные принадлежности, пострадавшие во время столкновения, и потом прибавил к своему сочинению несколько страниц, проникнутых самым пламенным красноречием и не раз облитых слезами. Попадья плакала не меньше своего простодушного мужа, но геройски скрывала от него свои слёзы и нередко прибегала к хитростям, чтобы отвлечь его от рукописи, которая всегда приводила его в крайнее раздражение.
– Отец Герасим! – говорила она тогда. – Посмотри-ка, что такое мне в глаз попало!
И отец Герасим оставлял свою рукопись и заботливо принимался рассматривать ясный глаз попадьи.
О несчастном происшествии на мосту никогда не говорили, избегая огорчить друг друга тягостным воспоминанием. О царевиче тоже не было речи. На него смотрели, как на отступника, видали его иногда издали в блестящей кавалькаде дам и панов, замечали, что он свободен, удивлялись, как он не вспомнил до сих пор о святом храме. И сильно горевали. Но впоследствии, когда в Самборе появился Корела и стали стекаться русские люди из московского царства, чтобы ударить челом царевичу, не было уже возможности избегать разговора о нём. Суздальский дворянин Иван Просовиков прежде всех отыскал православную церковь и, после обедни, просил отца Герасима отслужить молебен о здравии царевича Димитрия. Без всяких возражений священник исполнил благочестивое желание суздальца и радушно принял его потом в своей убогой хате.
– Приход, видно, у тебя, отец Герасим, не богатый! – молвил Просовиков после первых приветствий и лобызаний.
– Тяжёлые времена пришли, – отвечал священник, – особенно после брестского беззакония! А с тех пор пошли эти королевские универсалы об унии и довели нас до последней крайности. Из мелкой шляхты прежде были у нас православные, но с той поры все понемногу отстали и отошли в унию. Остались только мужички безответные, да и те разорены жидами и экономами; а тут ещё, не далее пяти лет тому назад, прошли татары: наслал Господь за грехи наши! И дошли мы до того, что нечем кровлю на Божьем храме поправить, вина не на что купить к служению...
– А что царевич? Неужели он не поусердствует здешней православной святыне?
– Признаюсь тебе, добрый человек: как прошёл слух о приезде царевича, я было возложил на него большие надежды. Но горько ошибся. И что подумать – не знаю. Приехал он в пятницу к обеду. Ждал его в субботу – не был. Подумал я, что он не знает о нашей церкви, и придумал на воскресенье маленькую хитрость: с образами и с хоругвями пошёл на замковый двор... Но ксёндзы догадливы – не допустили меня. Произошло даже насилие, о котором я вспомнить не могу без горького раскаяния. С тех пор я стараюсь вовсе не думать о царевиче, который должен бы быть православным и не поддаваться ксёндзам.
Просовиков подробно расспросил о житье-бытье царевича в Самборе, и в его окончательном суждении сказалась московская привычка к хитрости под видом покорности.
– Унывать пока нечего! – сказал он. – Видно, поляки не дают ему шевелиться. Нужды нет, что он скачет вместе с ними верхом, на охоте летит впереди всех: видно, что его крепко притиснули. Но только это, по-моему, не беда. Дай срок, пусть только они отпустят его на Москву, так там он будет не тот. Видно, так пришло, что надо полячков потешить. Поверь ты мне, отец Герасим, что совсем не то пойдёт, как, Бог даст, он окажется на Москве. Да, по правде сказать, на Москве и нельзя быть царю не благочестивому, как не приставить латинской головы к православному телу... И царевич это знает не хуже меня, конечно, и не станет этого пробовать: такая голова не прирастёт, а с плеч покатится...
– Дай то Господи! – набожно перекрестился отец Герасим. – У нас вся надежда на московского православного царя всея Руси...
Мало-помалу московские люди, очарованные ласковостью и обходительностью царевича, уверили отца Герасима, что он истинный Димитрий и что лишь ревнивое оберегание со стороны поляков мешает ему предаться обычному у русских царей благочестию. И вновь ежедневно стали возноситься в убогой самборской церкви тёплые молитвы о здравии царевича Димитрия.
В конце августа, перед самым походом, отец Герасим был неприятным образом удивлён неожиданной просьбой сына. После тяжкого трудового дня священник сидел за ужином с женой и с Яковом. Молодой человек сообщал собранные слухи о том, что под Глинянами набралось уже много войска и что воевода скоро выступит в поход. С большим увлечением Яков говорил о бурной боевой жизни, которая предстоит сподвижникам царевича, о победе, о славе, о торжественном вступлении в Москву и закончил просьбой:
– Знаешь что, отец! Отпусти ты меня с царевичем!..
Попадья тут всплеснула руками и вскрикнула:
– Батюшки! Рехнулся мальчик-то! И что ты его слушаешь, отец?..
Отец Герасим в самом деле слушал своего сына и смотрел на него с любовью, с участием, но на устах у него отразился кроткий, снисходительный упрёк.
– Да, мой бедный Яша! – сказал он с обычным своим сочувствием. – Понимаю я твой порыв, так понимаю, что и я ушёл бы с тобой вслед за царевичем.
– Батюшки! И старик рехнулся! – прошептала попадья, со страхом смотря в ясные глаза супруга.
– Правда твоя! – продолжил отец Герасим. – Ужасно тяжела наша жизнь, страшно бедна она радостями. Непрестанную ведём мы борьбу, в тысячу раз тяжелее той войны, на которую тебя тянет. Там весёлая, беззаботная жизнь в походе, в лагере, а потом, как грянет битва – это один бурный и страстный порыв, это опьянение, очень увлекательное, это праздник молодой крови, что бурлит, кипит, клокочет и готова пролиться. И что за нужда, если прольётся? Не думается об этом за недосугом, и мчишься в крови и в пыли, и наскочишь на пулю или на пику или с ужасным торжеством потопчешь, истребишь врага, и страшный порыв окончится сладким сознанием славы. Понятно мне всё это. Я испытал эту войну во время далёкой моей молодости и, бывало, топтал и рубил турок и татар. Но наша нынешняя война, которую Провидению угодно было на нас возложить, в тысячу раз тягостнее. Наша борьба не имеет страстных порывов, не ведёт к славе и не даёт ни минуты сладкого покоя или отдыха, и мы даже не смеем желать смерти. Все наши бойцы за свободу и чистоту нашей веры наперечёт. На нашу твёрдость опираются тысячи православных душ, которые без нас, пожалуй, ослабеют, впадут в уныние и поддадутся врагу. Без порывов, без увлечения, без страсти мы ведём свою ежеминутную борьбу. Подобно доброму, но измученному коню, мы тянем свой воз в гору, а горе этой конца нет, и потому нет отдыха. Только вражьи силы то там, то здесь подложат камень под колесо, а чтобы перевалить через него, надо сильнее прежнего напрячь усталую, разбитую грудь. Или вражьи силы спокойно, неторопливо, обдуманно, рассчитанно вставят бревно в колёса: и не катятся эти колёса, и труднее прежнего становится тянуть сказанный воз... А гора впереди всё растёт вверх, становится всё круче... И перестань только бедный истомлённый конь тянуть непосильную тяжесть: покатится она назад, вниз, в пропасть, и с конём своим вместе. Не легка подобная борьба, но, к счастью, не безнадёжна. Ибо, не будь такой надежды, какие силы устояли бы в этой борьбе? Какой гигант не сломился бы под этим ужасным гнетом? И надеемся мы, что придёт белый царь, не сегодня, не завтра, а может быть, при внуках, при правнуках наших внучат, придёт и могучей рукой притиснет эту гордую польскую гору, и сравняет её, и выкинет иезуитские брёвна из наших колёс, и покатится наш воз по ровному и гладкому пути. Но когда ещё это будет?.. Страшна, безустанна и малославна наша борьба, и как бы я хотел за тебя, милый мой сын, променять её на ту борьбу, которая в тысячу раз легче, где есть и страстный порыв, и отдых, и слава, – нужды нет, что там же есть и смертельная опасность... Она есть и в борьбе и безо всякой борьбы. Но...
Отец Герасим задумался, поникнув головой. Попадья и Яков покорно ожидали продолжения его речи.
– Но из любви к своему детищу, – продолжал задумчиво священник, – я боюсь поступить несправедливо. Во-первых, все мы наперечёт, и не затем львовское братство вскормило тебя духовной пищей, чтобы ты промотал свою бесценную жизнь в своё удовольствие. За благодеяние братства ты должен заплатить именно той службой, на которую оно тебя готовило. Во-вторых, подумал ли ты вот о чём: воевать-то придётся против своих кровных/братьев, русских православных людей. Царь Борис есть законный царь всея Руси, есть помазанник Божий – и против него придётся воевать... Я и не придумаю, как же это будет?.. Ныне часто приходится видеть нам людей из Московского царства: точь-в-точь тот же самый народ, что и наш, и язык тот же, только немного иной говор, и благочестие наше... Ну, как бы ты стал биться против наших, например, мужиков из Грабицы, что ли, или из Сосновца? Рука не поднимется, да и не благословлю я тебя на такое никогда. Царь Борис, говорят, достиг московского престола злодеянием. Но если царевич здесь, жив и здоров, то значит злодеяния никакого не было. А намерение его пусть судит Господь Бог! И как я ни думаю, как ни тянет меня самого освободить тебя от нашей горемычной жизни, нет, никак не решусь благословить тебя на поход...
– И не благословляй, отец! – обрадовалась попадья. – Ты прибавь ещё, что царевич-то ваш ни разу в церкви не был, так кому же сын-то наш будет служить? Может быть, какому-нибудь униатскому отродью? Отщепенцу?.. И кстати это будет: сын самборского священника Герасима Зубрицкого вдруг... на униатской службе и служит униатскому делу! Не дай Бог и дожить до такого срама! Нет, пусть-ка его лучше дома сидит да помогает тебе, пока что...
– Видишь ли, матушка! – отвечал Яков. – Я об этом думал. Со всеми пришлыми московскими людьми я толковал, о многом их расспросил. Выходит, что у них народ ждёт не дождётся прихода нашего царевича, а царь Борис им всем становится невыносимо тяжёл: ежедневно на московских площадях происходят мучительные казни, страшнее, чем при Иване, и народ ожидает Димитрия, как Мессию. Конечно, царевич это знает, и поляки знают. Придёт он, всеми желанный, и Московское царство падёт к его ногам, и развенчанный Борис смешается с прахом. Но вот в чём дело: что за люди окружают здесь царевича? Что за народ денно и нощно гудит ему в уши об отступничестве? И не раз я думал, что кто обережёт Димитрия от иезуитских советов, тот спасёт или его, или само православие. Одно из двух должно случиться: или народ не потерпит отступничества своего царя и погубит его, или народ своего царя послушается, и тогда погибнет святая православная вера... И нередко я думал, что этот сберегатель Димитрия станет истинным ангелом-хранителем и его, и всея Руси. У царевича есть верный телохранитель, казак Корела; но душа царевича никем не охраняется. Тут нужен человек просвещённый светом науки и истинного христианского учения, человек, испытанный в риторике и в диалектике. Я не говорю, что лучше всех гожусь на это дело; но я учился не худо, а на безрыбье и рак – рыба; да к тому же усердие к делу и преданность составляют половину успеха. Разве не так?
– Мысль добрая и полезная! – кивнул отец Герасим. – Но, милый друг, боюсь я, что ты не совладаешь с иезуитами. А если только они приметят хоть маленькое начало успеха... то разве они задумаются над вопросом, как от тебя отделаться? Задушат где-нибудь ночью на улице, а на похоронах твоих будут плакать притворными иезуитскими слезами. Попробуй сначала тут, в Самборе, приблизиться к царевичу. Если преуспеешь в этом, хоть малой долей, то я благословлю тебя на подвиг, а может быть, и на мученичество в иезуитских когтях.
– Здесь к нему и не подойдёшь! – покачал головой Яков. – Здесь его прячут за тремя замками! Савицкий, Черниковский и наш королевский духовник не отходят от него. На войне, в походе, совсем иное будет дело: там он будет ценить своих, русских людей, да и случаев подходящих немало представится.
– Верно!.. – прервал его отец. – Но остаётся другое, поистине неодолимое препятствие: «Нет власти, аще не от Бога!». И тут придётся воевать против помазанника Божия, венчанного царя всея Руси Бориса. С этим-то как быть? На это как я тебя благословлю?.. И не придумаю.
Отец Герасим решил: подождать вестей о том, как пойдёт дело царевича. И если точно московский народ везде станет признавать его своим законным царём, если не польётся кровь православная, то Яков отправится к Димитрию на службу, так как учёные люди тому будут нужны... а покамест – проводить царевича с почётом и с благословением православного русского креста.
В низших слоях самборского населения тоже получались известия о походе, хотя и не так часто, и не так полно, как в замке. Известия поступали совершенно достоверные и прямо от очевидцев. Прислуга при обозе состояла из местных православных хлопов. Мало-помалу они возвращались домой, сначала с почётным конвоем из-под Глинян, потом из-под Киева, и наконец, в последних числах января 1605 года вернулся из Московщины весь обоз самого воеводы. Хлопы, как водится, подробно рассказывали отцу Герасиму всё, что видели и слышали, и их неискусная повесть всё больше и больше оживляла надежды молодого поповского сына, который всё порывался к царевичу.
Воеводский обоз от дальнего похода жестоко потерпел: телеги были переломаны и кое-как починены; лошади весьма походили на скелетов, а некоторые заменили новыми; венгерского вина привезено гораздо меньше, чем было отправлено; зато между вещами воеводы явилось несколько драгоценных собольих шуб московского покроя. Двое холопов дорогой сбежали, двое умерли; все остальные пришли голодные, босые, оборванные, так что жалко было на них смотреть. Из их рассказов, однако, выходило, что дела у царевича идут вполне удачно.
– Как переправились мы через Днепр, – говорил один из погонщиков, высокий, широкоплечий детина, – пошла уже московская земля. Только ничем она не московская, а такая же, как у нас, настоящая русская земля. И народ, и церкви – всё как есть настоящее русское. Дело было к осени: грязь всюду непролазная! У того увязнет воз, у того колесо соскочит. Намучились мы в ту пору и лошадей много погубили. Подошли к Моравску – Моравск поддался и челом бил. Подступили к Чернигову – и Чернигов поддался. Подступили к Новгороду-Северскому и стали; ни взад, ни вперёд. А тут со всех сторон из разных городов стали подходить люди, приносить присягу: от Курска, от Рыльска, от Белгорода, от Кром, и от многих ещё городов, и все наши настоящие русские люди. Стали подходить и казаки, стало быть, вольные украинские люди, и пушек с собой подвезли. Говорили, что в нашем таборе набралось одних воинов тысяч пятнадцать, не считая нас – обозных людей. Не сдобровать бы Новгороду-Северскому, только стало подходить царское войско. Приходили из войска того люди служить нашему царевичу, так сказывали, что их там тысяч полтораста, то есть по десять человек на нашего одного. Вот хорошо. Стоим мы на горе: весь обоз на горе стоял, поодаль, так нам всё было видно как на ладони. Впереди город, вокруг него наши, а с другой стороны валит московская рать! Видимо-невидимо! Дело было за четыре дня до Рождества: день выдался морозный, и по снегу далеко видно. Ну, думаем, дело совсем плохо! Раздавят, как пить дадут!.. И стали мы собирать и готовить возы, чтобы в случае беды скорее утекать. И ведь как вышло: оттуда напирает московская рать, а отсюда, из города, выскакивают тоже воины и бьют наших. Однако поляки изловчились: шесть конных рот ударили спереди, а казаки ударили слева, и пошла свалка. Московская рать и побежала... После сказывали московские люди, что не охота была им биться-то за царя Бориса, которого они не любят, да биться против царевича, коего ждут не дождутся. Отступили и стали вёрст за пятнадцать. А у нас это всё было известно, потому что из московского войска к нам в обоз то и дело приходили всякие люди и били челом царевичу. Хоронить убитых заставили нас. Считали, считали тела да и счёт потеряли. Насчитали до шести тысяч и зарыли. Православный поп их отпевал, а царевич плакал: да как и не плакать? Все свои ведь русские люди побиты были, и разве десятка полтора немецких наёмников. Хорошо. Стоим мы под городом. Накануне Рождества взбеленились наши поляки, домой собрались. И что такое приключилось, никак не разобрать. Говорят: новый год наступает, до нового года жалованье получено, так подавай за полгода вперёд. И слышать ничего не хотят: давай деньги, не то уйдём в Польшу!..
– Понимаю! – сказал отец Герасим. – Им стало скучно стоять под крепостью и целых полтора месяца не заниматься грабежом русских людей.
– Нет, батюшка, не это! – возразил Яков. – На днях собирается сейм в Варшаве. Так король боится нападок и упрёков в том, что он будто бы ведёт войну без согласия сейма. Недавно были универсалы, запрещающие польским подданным вступать вооружённой рукой в чужое государство.
– Может быть, и то. Ну как же вы жили?
– Постой, отец Герасим! – продолжал рассказчик. – Добром-то не ушли. Подняли шум, крик. Царевич стал их уговаривать: и время то важное, и надо гнаться за московской ратью, и когда придёт пора платить жалованье, так он всё заплатит с лихвой. Не слушают ничего, кричат. Ночью пришёл пан Фредро и какими-то хитростями выпросил у него жалованье вперёд на свою роту. А наутро поднялся такой содом, что беда. Ругают царевича нехорошими словами, а один так уже сорвал с него соболью ферязь. Подскочили московские люди выкупать одежду своего государя. Торговались, кричали и выкупили за триста злотых. Один поляк докричался до того, что говорит: «Ей-ей! Быть тебе на виселице!». Царевич не утерпел да со всего размаха и ударил его кулаком по лицу. Нашумели, набуянили, разошлись и стали собираться в дорогу. А тут вдруг и нам приказ: «Выступать домой!». Сам воевода выехал в карете – больной, в подушках, еле двигается. Болезнь у него какая-то в ногах. Из Киева прямо повернул в Брагин, в имение зятя, князя Вишневецкого, а нам приказано ехать сюда. Вот ездили ни за чем, привезли ничего!..
– Так все поляки и ушли до последнего? – спросил Яков.
– Нет, не все. Осталось человек четыреста, которые попроще, а шляхта ушла вся поголовно. Да не на радость и ушла. Пить нечего, есть нечего. Князь Острожский в Киевском воеводстве завёл такой порядок, что грабить хлопа – не сметь. И беда, что с ними было! Кони поморились, сами поотморозили себе носы, а иные так и вовсе замёрзли...
– Слава, слава Создателю, что поляки оставили православного царевича! – молвил отец Герасим. – Жаль только, что не все... Ане слыхал ты, любезный, вот что: два ксёндза там были, Черниковский и Савицкий. Остались они в лагере или тоже уехали с воеводой?
– Ну, батюшка, до этого мы не доходили. А вот что народ там вовсе, как мы, православный, так это точно заметно. И под Новгородом-Северским в слободе церковь стоит, и народ ходит молиться, а служба всё такая же, как у нас.
– И царевича видал кто в храме? – спросила торопливо попадья.
– А то как же! И в вечерню, и в заутреню, и в обедню – он прежде всех в церкви. И молится так усердно!..
– Слава и благодарение Всевышнему! – воскликнул отец Герасим и сотворил крестное знамение. – Как будто камень с сердца свалился! Ну, посмотрим теперь, господа ксёндзы и иезуиты, одолеют ли теперь ваши врата адовы святую Православную церковь!..







