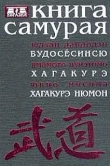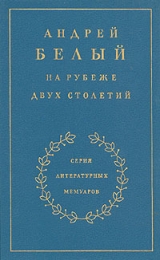
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
Соловьевы же были уныром из быта.
Можно говорить о среднеарифметической квартире, среднеарифметическом слове, среднеарифметической душевности; и – вот среднеарифметическая квартира – на-кур, пыль и чих (а позднее, когда износилась она – клопы, моль, пауки); среднеарифметическое слово – тупое, общее, черствое; озираешь двадцать один год себя в обстании этого слова; и видишь: ни одного сердечного слова (все сердечные слова услышаны в ином месте, и после); среднеарифметическая душевность – бездушие, дыра (душа провалилась); и под флагом служенья абстрактному, даже «научному» идеалу я видел явленья дикарские, напоминающие скальпирование.
Оговариваюсь: говорю о впечатлении от среднеарифметической суммы, которой реальнейше соответствует нечто весомое, твердое, материальное, то есть «быт»; и оно таково: среднебытовой человек в нем не человек; он декомпонирован в абстракцию, веющую над челом человека в виде дымка папиросы и после твердеющую в виде клопиного кресла, человеческой подставки, то есть чего-то ниже стоящего.
Переходишь к личностям и наталкиваешься на яркие, удивительные, благородные, талантливые фигуры, но деформированные, как ноги в мозолях, чудачеством, бессилием, перепугом, рассеянностью и круговою порукою: не колебать устоев.
Но этот быт – часть целого, ведущая в иные квартиры; квартира высококвалифицированного интеллигента в действительности зависит от многих квартир; неспроста моя крестная мать вела (вот только чем?) наш быт: и за нею в бессильном социальном идиотизме плелись интеллигентные семейства, почтительно ее поздравляющие с днем рождения; она – импонировала какою-то силою, неизвестной в нашем дрябло-бессильном быту; и это была сила «Железной пяты»; мое детское впечатление, что она – баба Яга Костяная нога, имело социальные корни: ведь баба Яга едет в ступе: в ступе, а не в костяной ноге – сила Яги; ступа – социальная форма; ступа – буржуазия; и сама крестная мать не ведала, какою «тайной» силою она импонировала; и те, кому импонировала она, не видали, какой «тайной» силе они подчиняются.
Более того: изумительный педагогический талант Поливанова не ведал, о что разбивается он, пленяя мальчишек уроками и все же не сдвигая мальчишек с какого-то устоя, перетиравшего и Поливановскую гимназию в порошок; мальчишки, разбегаясь по домам, являлись из домов «сынками», и только «сынками»; но «папаши» их – не профессора; средняя равнодействующая их – русская интеллигенция, буржуазно-дворянская; в ней растворялось и «профессорское» начало без остатка.
Поливановская гимназия, устраивавшая мне гонения «сынками» папаш, выявила мне более широкий кусок тогдашних устоев. И впечатление от него – вздрог испуга: вспоминаешь отдельных товарищей, отдельных преподавателей; и вспоминаешь быт гимназический со странным вздрогом!
Моя реакция в различных отрезках времени в зависимости от возраста на быт – естественна: реакция на безотрадную эмпирику арбатской квартиры – улет из нее на крыльях лебедя; об этом лебеде рассказывала моя гувернантка, Раиса Ивановна; улет открывает в моей душе эпоху господства сказки; запрет сказок привязывает цепью к квартире: сжимаясь в точку, отдаюсь культу музыки; страдания будней заставляют меня искать страдания.
Позднее услышав о том, что эволюция и прогресс, на гребне которых – мы, мягко и безболезненно пронесут человечество в будущее, я начинаю постигать всю скуку такого будущего и проникаюсь непобедимою нелюбовью к позитивистическому мировоззрению, этому винегрету из научных понятий над фактами науки; отсюда – позднейшая моя борьба за эмансипацию фактов от стабилизации их в механицизме и позитивизме; и отсюда же – ненависть к оппортунизму, которая выражается в определенном росте пессимизма, заставляющего меня из философских систем отобрать систему, проповедующую страдание и отказ от жизни; семиклассиик-шопенгауэрианец переживает картину мира по Шопенгауэру, имея образцом этого мира с детства ему поданный пессимизм, переходящий позднее в анархизм, в трагическое миросозерцание борьбы и героических усилий к созданию ценностей, переживаемых по Ницше; эпоха увлечения Ницше – первый университетский год, совпадающий с началом вырыва из гимназии, которая мной прочитана в лозунге «Мир есть мое представление» (и представление – унылейшее). Моя борьба – борьба с преодолением «ножниц» меж личной моей волей к новому и поданным мне представлением будто бы объективности.
Характерно, что с 1901 года, который считаю в себе началом бурного ухода от «профессорской действительности», с меня слетает вся мне навязанная мрачность; романтика переживанья «зорь» есть вместе с тем и чувство радости освобождения от навязанных детством представлений, и чувство физического оздоровления. Итак, от ужаса – к сказке и музыке, обосновываемым эстетикой ухода от мира страданий; и далее: из укрепленного центра самосознания – врыв в действительность для пересоздания ее (философия героизма); по-новому врыв – от узнания: действительность, тебя терзавшая, сама перетлела в ничто.
Если вы соберете лозунги моих статей эпохи 1903–1910 годов, напечатанные в «Символизме» и в «Арабесках», то вы увидите в них позвоночник моих миросозерцательных усилий, как диалектику пути от пессимизма через трагизм к загаданной в образах новой культуре; диалектика имеет эмпирикой биографию; в ней – основное ядро, характеризующее меня, а не в окраске скобок, внутри которых еще осознаваемые потенции к культуре; окраски разные: мистические, анархические, теологические, социалистические, поданные в тональности символизма, не позволяющего догматически прикалывать устремления эти ни к скобкам, ни к окраскам их.
В университете картина быта расширена в картину бытов; вернее, в картину столкновения бытов.
Во-первых: я вижу профессора, вынесенного за скобки квартиры, это – профессор на кафедре и профессор, научный руководитель (в лаборатории, на семинарии); и этот профессор в среднем выявляет себя бесконечно свободнее, глубже, интереснее, чем у себя на дому и в гостях; пример: Умов, которого я знал в детстве как монумент собственной скуки и которого я увидал с кафедры иным; открывается мне: подлинно ценное в профессоре, как в человеке и как в ученом, в его квартире есть миф, подчас преследуемый «бытом» (отец – такой изящный и ловкий, едва усядется за зеленый стол; и он же, такой косолапый, беспомощный у себя дома); профессор с кафедры лишь выявляет свой бытовой облик, как деформацию, как мозоль.
Быт профессора, так сказать, замозолил; замозоливание имеет место, как только он сойдет с кафедры, попав в кулуары лабораторий, где уже господствуют сплетни, взаимные притеснения, захват столов Марковниковым, показывания кулака Усовым Бредихину; даже на крупных личностях налипает примазь звериного быта, от которой свободен в научном полете он.
Но научный полет еще не действительность, построенная на данных науки и логики; это мне ясно открылось именно в эпоху моего собирания научных фактов и горения научными интересами; от микробиологии, к которой влекло, был отбит двумя «бытовыми» фактами: мелкостью Зографа и отсутствием рабочих мест у гонимого интригой Мензбира; второе мое покушение на научный интерес с изучением орнамента, которым могла бы определиться и вся будущая карьера, ибо в этом интересе увязывались наука с искусством; в нем не было «ножниц», мучительно переживаемых мной; но добрейший Д. Н. Анучин, сказал бы я, с халатностью, не умеющей разглядеть интереса в студенте, упорным отпугиваньем от интересующей темы и пришитием меня к неинтересной мне географии способствовал рождению анекдотика: появления географа-специалиста.
Мне до сих пор стыдно, что я писал сочинение «Об оврагах».
Университет вскрыл неравновесие, уравновешиваемое бытом: что общего между кипучей фигурою Тимирязева и благодушием Сабанеева, Мензбиром и Зографом?
Они встречались, здоровались, жили – все в том же «быте» или в точке пересечения разнородных устремлений, переживаемой косностью непеременного центра; принцип относительности не был сформулирован; время было университетское, стрелка которого двигалась с угла Моховой; унитаризация времен в среднем времени Моховой – унитаризация бытов, в «быте» царской России; мое узнание о том, что такого среднего времени нет, а только кажется, что оно существует, и было пережито в картине иллюзионизма, охватившей в гимназии и ставшей картиной кризиса. С какой-то минуты я понял: давящая меня материальность – не материальна; прочная почва наших квартир – не прочна; и это открылося с потрясающей просто реальностью; я не видел в те годы социально-экономических условий, ведущих к неравновесию; моя грамотность (естественнонаучная, философская, литературная) обогащалась ценою социальной неграмотности, опять-таки поданной бытом, в котором было много высказываний либеральных и политических; но лозунги научной социологии не доходили; Янжул с детства жужжал: «По штатиштичешким данным». Виделись статистические таблицы потребления соли; Янжул был же… фабричным инспектором, а потом и сотрудником Витте;8 а Янжул был… академиком.
Только с конца 1901 года, с начала знакомства с образованным экономистом, зубы проевшим на Марксе, Л. Л. Кобылинским (потом Эллисом) – начинаются социологические интересы; чтению по социологии начинаю отдаваться лишь с 1903 года; в 1904 году я, студент-филолог, голосую за прекращение лекций и превращение университета в революционную трибуну; и с той поры я – левый; сознательность – от теоретических усилий включить в программу чтения социологию, от чтений Меринга, Каутского, Маркса, Бебеля, Зомбарта, Штаммлера и ряда книг, конкретно показующих, в чем научность социализма.
В эпоху же прохождения курса естественных наук социализм видится до крайности упрощенным; и я отвергаю его за сантиментализм и беспочвенность; он мне подан в сплетении с либеральными заскоками Ковалевских, которым цену я знаю; в то время и либералы, и консерваторы заслоняют от меня политический горизонт; от рабочего и крестьянского движения я отрезан бытом, незнанием фактов и неимением времени изучить то, что мне кажется лишь малым участком культуры и от чего с детства я отпуган бубуканьем Янжула:
«По штатиштичешким!»
И потому-то студенческие волнения переживаются мною, как симпатичный, но обреченный на провал утопизм, более того, как нечто, вызванное провокацией; анархический протест против государства и государственной общественности диктует мне невмешательство в то, что – есть иллюзия.
Таким подхожу я к рубежу (к январю 1901 года) с реальным знанием невероятного, небывалого кризиса всей культуры, включающего и будущие войны, и революции, и невиданные строительства, но без точного знания причин, складывающих картину будущего81. Но мои увлечения, заблуждения и правды «сквозь заблуждения» отмечают мне первые месяцы нового века; и потому-то я в теме рубежа отвлекаюсь от них, как осложняющих тему «рубежа», как предваряющих второй отдел моих исканий: символиста в «начале века».
Сказал бы я, что в «начале века» все темы, звучавшие глухо под сурдинкою, прозвучали громко и без сурдинки; а темы, звучавшие в конце века ярко, зазвучали уже под сурдинкою в первых месяцах начала века; в этом смысле рубеж столетий удивительно совпадает с моим биографическим рубежом; до 1901 года – одно; после – другое. Наконец 1901 год есть год моего совершеннолетия, которое опять-таки было мне не «аллегорией», ибо я в нем ощутил свою зрелость и свою свободу от 21-летней порабощенности.
Наконец в 1901 году появился на белом свете Андрей Белый, все более и более вытесняя Бориса Бугаева.
Кстати, в этом псевдониме я неповинен; его придумал Михаил Сергеевич Соловьев, руководствуясь лишь сочетанием звуков, а не аллегориями; я, ломая голову над псевдонимом, предложил мне нравящийся псевдоним «Борис Буревой», а М. С, рассмеявшись, сказал:
– Когда потом псевдоним откроется, то будут каламбурить: «Буревой – Бори вой!»
И придумал мне «Андрея Белого»82.
До 1901 года я еще внешне заключен в быт; мое внебытовое бытие – урыв, бегство украдкой в квартиру Соловьевых; с 1901 года мои заходы к Соловьевым (иногда по три раза в день) перевешивают мою домашнюю жизнь; и я лишь возвращаюсь к «быту», не как жилец в нем.
До 1901 года у Соловьевых я все еще «мальчик Боря»; с 1901 года я – равноправный член «круглого чайного стола».
До 1901 года у меня, кроме Соловьевых, еще нет своих знакомств: встречи с Петровским и с Владимировым – главным образом встречи в университете, беседы в химической чайной, прогулки по Кремлю и сидения на лавочках Александровского сада. С 1901 года начинается быстрый рост моего круга знакомств, – того круга, который определил мне жизнь последующего моего, свободного, литературного семилетия; с Петровским мы тесно связаны постоянными заходами друг к другу; на моем горизонте появляются фигуры, которые становятся ближайшими и друзьями, и сотрудниками: фигура студента Кобылинского, с которым знакомлюсь у Соловьевых, с которым встречаюсь в самообразовательном кружке у Стороженок;83 Кобылинский появляется и у нас в доме с 1904 года; с 1901 года я знакомлюсь с Метнером, чтобы с начала 1902 года вступить с ним в теснейшую дружбу; в 1901 году происходит мое знакомство с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, протягиваются связи со «Скорпионом» (через Брюсова) и с будущим «Мусагетом» (через Метнера); в 1901 году происходит впервые моя яркая встреча с поэзией Блока84, до которой о Блоке у меня смутнейшие представления, что есть какой-то гимназист, Саша, как и мы, пишущий стихи; я более осведомлен о его матери, «Але», переписывающейся с О. М. Соловьевой85. В 1901 году и в университете подбирается «наш» кружок, то есть кружок около Владимирова, меня и Петровского, в скором времени вливающийся в кружок «Аргонавтов». Отбор людей, стиль отбора, уже не по линии естественнонаучных интересов, а по линии будущих литературных исканий; начинается явное начало формирования будущих кружков и выход из подполья вчерашних «подпольщиков».
В теме «рубежа» эти подпольщики иначе окрашены, чем в теме «начала века»; пишущим о «начале века» следует знать это начало в «до начале»; иначе их высказывания о фигурах начала века – писание вилами по воде или разгляд картины без грунта, фона и перспективы. В перспективе понимания нас, как писателей 1900 годов, надо увидеть нас в 1890 годах; в них мы – не то, что принято о нас думать. «Андрей Белый», как «мистик» с трансцензусами в «потустороннее», или – хорошо известная карикатура, есть явление жалкое, то есть показывающее жалкость исторической критики; кто нас не видел в усилиях нашего роста, в учебе, в чтении Милля и в лабораторном чаду, тот не имеет никакого представления о нас и не имеет никакого ключа к пониманию нами написанного.
Не для полемики и не для самооправдания я пишу эту книгу – для правды; марксистская критика должна базироваться на подлинном материале, а не на сочиненном; сочинен средневековый схоласт Белый, соблазняющий Блока мистицизмом; может быть, «схоласт» Белый соблазнен неправильным истолкованием им изученных фактов естествознания; так это – тема двадцатого столетия, а не средних веков; так и надо говорить: Томсон, Оствальд, Эйнштейн вместе с «декадентом» Белым неправильно истолковывают данные науки и проблему имманентности; в этой оговорке – большая дистанция, отделяющая «символиста» начала века, вышедшего из профессорской среды, от двенадцатого столетия. На передержке не получится и правда клеймения.
Правда «рубежа» и поколения «рубежа» ждет исследователей, а задача лиц, принадлежащих к этому поколению, подать материал для суда, пусть сурового, но правдивого.
На этом заканчиваю книгу.
Кучино, 11 апреля 1929 г.
Комментарии
Список условных сокращений
Арабески – Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М., Мусагет, 1911.
ГБЛ – Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ГПБ – Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ИРЛИ – рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).
Материал к биографии – Белый Андрей. Материал к биографии. Автограф. 1923 г. 163 л. – ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3.
Почему я стал символистом – Белый Андрей. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. Ann Arbor, «Ardis», 1982 (Автобиографический очерк, написанный в 1928 г.).
Ракурс к дневнику – Белый Андрей. Ракурс к дневнику (январь 1899 г. – 3 июня 1930 г.). Автограф. 165 л. – ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100.
Символизм – Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., Мусагет, 1910.
Собрание эпических поэм – Белый Андрей. Собрание эпических поэм, кн. 1. «Северная симфония (1-я, героическая)», «Симфония (2-я, драматическая)». М., изд. В. В. Пашуканиса, 1917.
Стихотворения и поэмы – Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья и составление Т. Ю. Хмельницкой. Подготовка текста и примечания Н. Б. Банк и Н. Г. Захаренко; М.-Л., Сов. писатель, 1966 («Библиотека поэта», большая серия).
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).
ЦГИ А М – Центральный Государственный исторический архив г. Москвы (Москва).
Эпопея, I–IV – Белый Андрей. Воспоминания о Блоке. – В кн.: «Эпопея», № 1–4. М. – Берлин, Геликон, 1922–1923.
Воспоминания «На рубеже двух столетий» печатаются по второму прижизненному изданию: Белый Андрей. На рубеже двух столетий. Издание второе. М.-Л., Земля и фабрика, 1931.
К работе над книгой Белый приступил в начале февраля 1929 г. «Вчера сел за „На рубеже двух столетий“», – сообщал он 6 февраля П. Н. Медведеву («Взгляд». Критика. Полемика. Публикации. М., 1988, с. 437). Работа шла быстро и очень напряженно. «Весь месяц сперва правка, а потом переписка первой половины „На рубеже двух столетий“», – записал Белый о своей жизни в феврале 1929 г.; аналогичная запись – о марте 1929 г.: «Весь месяц бешеная работа над „На рубеже двух столетий“». Писатель закончил книгу 11 апреля 1929 г. (Ракурс к дневнику, л. 139); 12 апреля он полушутя писал Р. В. Иванову-Разумнику: «…вышла злая книга „На рубеже двух столетий“, или генезис того, отчего меня в детстве „мамка ушибла“; и я вырос „декадентом“» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 20). Работа над первой частью мемуарного цикла, таким образом, заняла немногим более двух месяцев.
Книга вышла в свет в начале января 1930 г. в акционерном издательстве «Земля и фабрика» («ЗиФ»). Белый предпочел передать рукопись этому московскому издательству, а не Ленинградскому отделению Государственного издательства, по заказу которого была начата работа над книгой; см. письма Белого к П. Н. Медведеву от 23 апреля 1929 г. и 5 марта 1930 г., в которых аргументируется это решение («Взгляд», с. 439–444). Еще до выхода в свет отдельного издания три фрагмента из «На рубеже двух столетий» были опубликованы в журнале «Красная новь» («Апостолы гуманности» – 1929, № 7, с. 141–148; «Кариатиды и парки» – 1929, № 9, с. 107–124; «Тимирязев и Анучин» – 1929, № 10, с. 116–120.) Эта публикация осуществилась по инициативе Ф. Ф. Раскольникова, бывшего тогда редактором «Красной нови»; П. Н. Зайцев сообщал Белому в недатированном письме (середина мая 1929 г.): «Раскольников взял для журнала из „Рубежа“ главы о профессорах (о М. Ковалевском, А. Веселовском, Стороженке и др.) и главу, где Вы даете портрет К. А. Тимирязева. Книга в целом на него произвела большое впечатление, и он отзывается о ней хвалебно, считает ее очень острой, а характеристики блестящими» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 188).
В архиве Андрея Белого сохранился автограф воспоминаний (полный текст), представляющий собой первоначально записанный текст с двумя слоями правки – синхронной написанию (чернилами) и позднейшей (карандашом) (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, 246 л.). Там же хранятся гранки (датированы 4 сентября 1929 г., текст – с начала до конца 1-й главы) с авторской правкой, в основном стилевого характера (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 6, ед. хр. 6, 36 л.). В архиве Государственного издательства «Художественная литература» содержится окончание этих гранок (со 2-й главы до конца) с авторской и редакционной правкой (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5595, 189 л.). Там же хранится верстка первого издания книги (датировка корректуры – 7 октября 1929 г.) – редакционный экземпляр с перенесенной авторской правкой (там же, ед. хр. 5596, 160 л.).
Год спустя после первого издания «ЗиФ» ом было подготовлено и осуществлено второе издание «На рубеже двух столетий». Для него Белый дополнил и исправил ранее опубликованный текст. О характере этой работы можно судить по сохранившемуся экземпляру верстки книги, по которому Белый готовил новое издание (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5597, 310 л.); на титульном листе верстки – запись: «Экземпляр, исправленный автором для второго издания. 12 июня 1930 г. П. Зайцев». Работа над переизданием книги велась по двум направлениям: внесение отдельных дополнений в текст (в основном в авторские подстрочные примечания) и большая стилевая правка, особенно обильная в последней главе (характер правки: замена слов и выражений в основном с целью смыслового уточнения, снятие многочисленных инверсий – например, фраза «Мне „декадентство“ прощалось еще» меняется на: «„Декадентство“ еще мне прощалось», фраза «…вместо химии неорганической в голове пустая дыра завелась бы…» – на: «вместо неорганической химии в голове завелась бы пустая дыра», и т. п.). Некоторые из исправлений, сделанных Белым в этом экземпляре верстки, при новом наборе для второго издания остались незамеченными; в настоящем издании они отражены в тексте. В нем исправлены и многочисленные опечатки и искажения авторского текста во втором издании книги (видимо, работа с его корректурой велась автором и редактором недостаточно внимательно); в подобных случаях текст выправлен по первому изданию.
При жизни Белого готовилось и третье издание книги, которое автор предполагал кардинально переработать; на рукописи воспоминаний – пояснительная запись Белого: «Рукопись (черновая) книги „На рубеже“ (выйдет в Гихле в 1932–1933 годах) в сильно измененном виде. Эта редакция – единственная» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 43, л. 1). Однако этот замысел остался нереализованным. В архиве Белого хранится письмо за подписью зав. секретариатом главной редакции Государственного издательства «Художественная литература» Юровицкой от 26 сентября 1932 г., в котором говорится: «…ввиду невозможности переиздать Ваш труд под названием „На рубеже двух столетий“ в 1933 году в ГИХЛ'е, Вам разрешается одно издание этой книги в другом Издательстве» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 4, ед. хр. 14).
Книга «На рубеже двух столетий» вызвала большое число критических откликов. Еще до ее выхода в свет историк С. Я. Штрайх опубликовал информационную статью, сообщавшую о выходе новой книги Андрея Белого, содержащей «яркие характеристики московской интеллигенции» и критику либеральной профессуры: «Вся книга написана в остро полемическом тоне. Читается она с интересом и тем большей легкостью, что в ней нет обычных для беллетристики Андрея Белого метафор и мифов, нет вычурностей напевного слога, который в воспоминаниях, однако, сохраняет привлекательность художественного стиля автора „Петербурга“. В общем, новое произведение Андрея Белого представляет выдающееся явление в области русской мемуарной литературы как по своему содержанию, дающему характеристики многих деятелей предреволюционной России, так и по блестящему острому изложению, которое несомненно вызовет большие, плодотворные споры на затронутую автором тему» (Штрайх С. «На рубеже двух столетий». – Литературная газета, 1929, № 32, 25 ноября, с. 3).
Выразительность нарисованных Белым в мемуарах острых литературных портретов его старших современников ставили в заслугу писателю почти все рецензенты: «…книга, содержа большое количество порой ярких портретов московской профессорской интеллигенции конца века, несомненно, ценна для характеристики этой среды, а также для критического изучения истоков символизма и, в частности, творчества Белого» (Э л ь с-берг Ж. – На литературном посту, 1930, № 5–6, с. 118); «…ряд превосходно сделанных характеристик и беглых силуэтов профессоров и преподавателей» (Благой Д. – Русский язык в советской школе, 1930, № 2, с. 206); «большая галерея мастерски исполненных портретов» (Ш е м Л. – На подъеме (Ростов-на-Дону), 1930, № 4, с. 190); в «эскизах Москвы конца прошлого века» Белый «свободно владеет материалом, подавая его умело и ново. Портреты „математиков“ и „гуманистов“ очень характерны, „чудак“ зарисован мастерски, хотя повторяет уже знакомого нам по „Москве“. Бытовые картины даны Белым остро, без розовых красок» (Ситков И. – Книга и революция, 1930, № 15, май, с. 21) и т. д. В общей эстетической оценке мемуаров голоса критиков расходились. Э. Блюм отмечает: «Книга Белого перерастает мемуарный жанр. С одной стороны, она является неким предварительным исследованием, с другой – произведением художественной литературы, и едва ли не одним из лучших произведений Белого. Книга несомненно удобочитаема, хотя Белый и не совсем распрощался еще с нудным ритмизированием прозы и с неоправданными инверсиями» (Печать и революция, 1930, № 5–6, с. 119). «Белый – большой мастер. В его воспоминаниях есть меткие характеристики, ценные места, новые материалы», – пишет Н. Плиско в статье «Путь писателя», одновременно высказывая и критические замечания: «…со стороны формы книга ниже обычного мастерства Белого. Автор не организовал материала, бесконечно повторяется, возвращаясь назад, забегая вперед, отчего книга непомерно разбухла» (Октябрь, 1931, № 4–5, с. 228). Л. Шем утверждал, что книга Белого «трудна для понимания, слишком утонченна по стилю и не верна в своих общих выводах».
Если в отношении художественных особенностей воспоминаний Белого мнения критиков были разноречивы, то в оценке их идейного содержания и полемической направленности все рецензенты были едва ли не единодушны. Лишь Ц. Вольпе признал, что «самые реабилитационные установки Белого в этой его последней значительной и интересной книге должны быть отмечены как факт, показательный для сегодняшнего этапа эволюции одного из крупнейших вождей русского символизма» (Звезда, 1930, № 9 – 10, с. 304). Другие критики решительно не приняли попыток Белого «реабилитировать» символизм и истолковать на новый лад свою былую литературную позицию; предложенная интерпретация была принята в штыки: с недоверием, с раздражением, зачастую с резкими выпадами по адресу «реакционного» и «буржуазного» писателя – выпадами, граничащими с политическими обвинениями, выдержанными целиком в духе и стилевой тональности господствовавшего тогда вульгарного социологизма. Стремление Белого разграничить символизм и мистицизм было признано несостоятельным (Рабинович М. – Новый мир, 1930, № 3, с. 208), но вместе с тем и самая попытка писателя обозреть новым взглядом свое духовное и литературное прошлое огульно и голословно разоблачалась как «видоизмененная форма буржуазной атаки на позиции пролетариата» (Блюм Э. – Печать и революция, 1930, № 5–6, с. 119). Заявляли, что система литературных аргументов в «На рубеже двух столетий» – «прием настроенного против нас человека» (Плиско Н. – Октябрь, 1931, № 4–5, с. 228), что «все хитросплетения автора ничего не в состоянии опровергнуть; идеалистом он был, идеалистом он остается. Отсюда – пороки его мировоззрения, отсюда – недостатки его художественного метода, отсюда – критическое отношение к Белому марксистской критики» (Ситков И. – Книга и революция, 1930, № 15, с. 22).
Такая реакция печати, безусловно, не могла не оказать своего определенного воздействия на драматическую судьбу следующей книги мемуарного цикла Белого – «Начала века».
Введение *
(1) Цитируется (с сокращениями) заключительный абзац 1-го раздела («Очаг») статьи А. А. Блока «Безвременье» (1906). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 5. М.-Л., 1962, с. 70.
(2) Цитата из 2-й главки автобиографической поэмы Белого «Первое свидание» (1921) (Стихотворения и поэмы, с. 413).
(3) «Проклятыми» называли французских поэтов второй половины XIX в., по преимуществу ранних символистов, выступавших в резкой оппозиции по отношению к официальной морали и традиционным эстетическим вкусам и правилам (Тристан Корбьер, Морис Роллина, Жан Ришпен и др.); в расширительном смысле это определение, восходящее к серии очерков Поля Вердена «Проклятые поэты» («Les poetes maudits», 1884), охватывает всю французскую предсимволистскую и раннесим-волистскую поэзию (Ш. Бодлер, Верлен, С. Малларме, А. Рембо и др.).
(4) Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер выступают у Белого как характернейшие выразители позитивистского мировоззрения, господствовавшего в русской «профессорской» среде последней трети XIX века.
(5) Это выражение – означающее неумение анализировать и обобщать факты, узкий, функциональный подход к явлениям – в сочинениях В. И. Ленина не встречается.
(6) Квалитатизм – от лат. qualitativus (качественный); квантитатизм – от лат. quantitas (количество). Под «стылыми нормами элейского бытия» понимаются основоположения элей-ской школы древнегреческой философии (VI–V вв. до н. э.), выдвинувшей понятие единого бытия как непрерывного, неизменного, присутствующего в каждом элементе действительности, исключающего множественность вещей и их движение.
(7) Термин, изобретенный Белым из фамилии И. И. Янжула; подразумевается специфически «московская» версия либерально-позитивистского миросозерцания.
(8) Сокращенная цитата из статьи «Люди с „левым устремлением“» (1907) (Арабески, с. 341).
(9) «История философии в биографиях» (1845–1846) – труд Дж.-Г. Льюиса, последователя О. Конта, получивший широкое распространение (русский перевод – «История философии от начала ее в Греции до настоящего времени» – издавался в 1865, 1889, 1892 и 1897 гг.); история философии рассматривается Льюисом как история человеческих заблуждений, исключающая возможность иного пути познания, кроме позитивизма.
(10) Подразумевается издание: Дневник Ал. Блока. Под редакцией П. Медведева. Т. 1–2. Л., 1928.
(11) Имеется в виду характеристика Цицерона в очерке Блока «Катилина. Страница из истории мировой Революции» (1918): «…он не был тем, что в наше время называется словом „пораженец“; он не был им, почему ему и не пришлось произвести такого гигантского и не совсем ловкого прыжка от „пораженчества“ к „оборончеству“, и даже еще гораздо дальше, какой пришлось недавно произвести многим умеренным русским интеллигентам. Нет, он рассуждал гораздо последовательнее; я думаю, не потому, чтобы он был головой выше многих русских интеллигентов: нет, Цицероны есть в России и в наше время; может быть, это можно объяснить тем, что в Риме был уже четыреста лет республиканский образ правления и римская интеллигенция, развиваясь более естественно, не была так оторвана от почвы; она не надорвалась так, как наша, в непрестанных сражениях с чем-то полусуществующим, тупым, бюрократически-идиотским» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М.-Л., 1962, с. 71–72). В письме к Блоку от 12 марта 1919 г. Белый оценил «Катилину» чрезвычайно высоко: «Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями; я прочел в этой статье не только то, что Ты сказал, но и то, что Ты не сказал: прочел не в мыслях, а в ритме (…)» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Редакция, вступит, статья и комментарии В. Н. Орлова. М., 1940, с. 340).