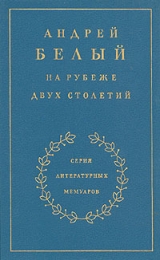
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Андрей Белый
Воспоминания в трех книгах
Книга 1. На рубеже двух столетий
Мемуарная трилогия и мемуарный жанр у Андрея Белого
Цикл воспоминаний Андрея Белого, создававшийся в конце 1920-х – начале 1930-х гг., по праву принадлежит к числу наиболее известных и наиболее ценимых произведений крупнейшего мастера русского символизма. Эти три книги в равной мере значительны и как художественное слово, и как исторический источник: будучи ярким образцом мастерства Белого-прозаика, они содержат богатый и выразительно интерпретированный материал об эпохе, охватывающей около тридцати лет исторической, культурной и бытовой жизни России. «„На рубеже двух столетий“, „Начало века“ и „Между двух революций“ – лучшее, что написано Белым после „Петербурга“, – утверждает автор первой советской книги о Белом Л. К. Долгополов. – Мы многого не знали бы о литературном движении рубежа веков, если бы эта трилогия не была написана, – несмотря на ее чисто литературный характер. (…) Белый создал обобщающий образ времени – катастрофического, чреватого взрывами и потрясениями мирового масштаба и значения, хотя описал одну только сторону, одну линию литературного движения начала века»[1]1
Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, с. 401
[Закрыть]. Сходного мнения придерживается и Л. Флейшман, автор работы о мемуарах Белого в американской коллективной монографии о русском писателе: «Никакие другие опубликованные мемуары, касающиеся русской литературы модернизма, не могут соперничать с мемуарами Белого по богатству информации, по широте изображения литературной жизни или по тому вкладу, который сделал их автор в развитие русского символизма»[2]2
Fleishman L. Bely's Memoirs. – «Andrey Bely. Spirit of Symbolism». Ed. by John E. Malmstad. Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 218
[Закрыть].
Эти суждения в корректировках и оговорках не нуждаются. Действительно, мемуарная трилогия Белого являет собою грандиозную многофигурную композицию, дающую отчетливое представление не только о конкретных лицах и событиях, но и о целых социально-исторических группах лиц – о московской ученой интеллигенции последней трети XIX века, о контингенте гимназических преподавателей и учащихся, о профессорском составе Московского университета, о носителях «нового религиозного сознания» и т. д. Так, первая книга мемуарной трилогии, «На рубеже двух столетий», предлагает красочную панораму жизни московской университетской среды 1880-1890-х гг.; Белому важно было показать силу семейной культурной преемственности, прочные «кастовые» устои либерально-позитивистского мира, оставившие неизгладимый след в его биографии и биографии его поколения, – но написанное им по значимости выходит далеко за пределы анализа духовных и бытовых истоков собственной личности, приобретая самое широкое значение: недаром о Белом говорят как о полномочном историографе и бытописателе такого специфического социально-общественного явления, как «профессорская культура», историографе, указавшем и на «наступивший кризис этой культуры»[3]3
Кантор В. Русское искусство и «профессорская культура». – Вопросы литературы, 1978, № 3, с. 159
[Закрыть]. Что же касается истории русского символизма, то легче перечислить лиц, обойденных вниманием Белого, чем назвать тех, кто – подробно или бегло – изображен в его мемуарах. Обладая избирательной, своеобразной до экстравагантности, но чрезвычайно острой, цепкой и устойчивой памятью, позволявшей много лет спустя довольно точно (почти не ошибаясь даже в указаниях месяцев и дней) и дифференцированно реконструировать события и умонастроения, с одной стороны, с другой – имея за плечами чрезвычайно активно и насыщенно прожитую жизнь, изобиловавшую встречами, странствиями, разного рода коллективными предприятиями, пребывая всегда в гуще людей, Белый сумел создать из хроники своей жизни, своих исканий, литературных и нелитературных деяний многокрасочную картину пережитой исторической эпохи.
П. Антокольский указывал на естественный сплав в мемуарах Белого «былого» с позднейшими думами о былом, на редкое единство этого сплава из былых увлечений и позднейших оценок[4]4
Антокольский П. Валерий Брюсов. – В кн.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 1. М., 1973, с. 13
[Закрыть].
Ассоциация с прославленной книгой Герцена при обращении к мемуарной трилогии Белого, видимо, возникает неизбежно (и сам Белый говорит о «своем „былом и думах“ применительно к „берлинской“ редакции „Начала века“»)[5]5
См. письмо Белого к П. Н. Медведеву от 10 декабря 1928 г. (В кн.: «Взгляд». Критика. Полемика. Публикации. М., 1988, с. 432)
[Закрыть]. По широте охвата исторической жизни, обилию и яркости индивидуальных характеристик, полноте и подробности автобиографического исповедания мемуарный цикл Белого выдерживает сравнение, пожалуй, лишь с двумя аналогичными произведениями русских классиков – «Былым и думами» А. И. Герцена и «Историей моего современника» В. Г. Короленко. Подобно Герцену и Короленко, Белый предпринимает опыт детализированной автобиографии, построенной по хронологическим этапам прожитой жизни (детство, юность, зрелость) на фоне широкой исторической панорамы и с вкраплением относительно самостоятельных очерков – мемуарных портретов современников. Сходство в мемуарном методе, жанре, приемах повествования, однако, только оттеняет существенные отличия Белого в характере и стиле предпринятого им летописания.
Плоды деятельности любого мемуариста неизбежно должны находиться в согласии е формулами: «я видел», «я знаю», «я вспоминаю», «я свидетельствую» и т. д. Следуя этим формулам, Белый в своих мемуарных реконструкциях упорно делает акцент не на сказуемом, как в большинстве своем другие мемуаристы, а на подлежащем – личном местоимении. То, что для Короленко, например, было бы неприемлемо (характерно самое заглавие его книги о себе – «История моего современника»: писатель демонстративно устраняет собственное «я», настаивает на исключительно объективной значимости своих индивидуальных жизненных перипетий), для Белого – единственно возможный вариант. Неизменно задающее тон всему повествованию личностное начало – отличительная примета воспоминаний Белого и в сопоставлении с мемуарными книгами других писателей-символистов, появившимися незадолго до возникновения трилогии Белого или почти одновременно с ней. «Живые лица» (1925) 3. Гиппиус, «Встречи» (1929) В. Пяста, «Годы странствий» (1930) Г. Чулкова содержат немало субъективных, пристрастных оценок и характеристик, но по самой фактуре изображения они представляют собой вполне традиционные мемуары, выдержанные в добросовестно «объективной» манере и предлагающие описания, трактовки и обобщения, мыслимые как адекватные определенным лицам или явлениям. Напротив, Белый с гораздо большей охотой отдается своим зачастую непредсказуемым ассоциациям, причудливым впечатлениям, метафорическим сопоставлениям, образотворчеству и мифотворчеству; в результате возникает не набор документально – или по замыслу – заведомо точных словесных фотографий, а некая новая суверенная художественно-документальная реальность, выстроенная по законам образного мышления и управляемая фантазией не в меньшей мере, чем императивными данными зрения, слуха и понимания. В этой созданной Белым новой реальности, например, выступающий с речью великий французский социалист и знаменитый оратор Жан Жорес предстает в образах то слона («Кричал с приседанием, с притопом увесистой, точно слоновьей ноги, точно бившей по павшему гиппопотаму; почти ужасал своей вздетой, как хобот, рукой»), то громовержца Зевса («…сверкал стрелами в тучищах: дыбились образы, переменялся рельеф восприятий; рукой поднимал континент в океане; рукой опускал континент: в океан»); совокупность подобных образных построений и штрихов в изображении личности отодвигает на второй план то, что оказалось бы, разумеется, в центре внимания у другого мемуариста, – сообщение о содержании выступления Жореса.
Субъективное начало главенствует в мемуарных книгах Белого так же безраздельно, как и в его романах. И если образ столицы Российской империи в его романе «Петербург» – это образ вымышленного, символически преображенного города, не соответствующий ни реальному топографическому плану, ни путеводителям, то и применительно к воспоминаниям Белого следует делать аналогичную поправку: авторское восприятие порой претворяет достоверную реконструкцию фактов до известной степени в хронику никогда не бывших событий и панораму ярких художественных образов, существовавших в подобном виде лишь в восприятии и воображении Белого. Подлинные лица для этих образов служили лишь моделями. Характерно в этой связи замечание Г. В. Адамовича по поводу изображения в «На рубеже двух столетий» отца писателя, Н. В. Бугаева: «Портрет отца удивителен. Он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив именно как портрет, а не как поэтический образ»[6]6
Адамович Г. Андрей Белый и его воспоминания. – Русские записки (Париж), 1938, № 5, с. 145
[Закрыть]. То, о чем Адамович судит предположительно, К. В. Мочульский в своей книге о Белом утверждает с полной уверенностью: «Белый не историк, а поэт и фантаст. Он создает полный блеска и шума „миф русского символизма“»[7]7
Мочульский К. Андрей Белый. Париж, 1955, с. 269
[Закрыть].
В своих воспоминаниях Белый безудержно отдается эстетическому преображению некогда пережитой и познанной реальности. В свою очередь, собственно художественным произведениям Белого присуща, как бы по принципу взаимокомпенсации, тенденция к непосредственно личной исповедальности, автобиографизму. Едва ли не все произведения Белого насквозь автобиографичны, и эта их особенность настолько сильна и всепроника-юща, настолько определяет характер обрисовки вымышленных героев, за которыми почти всегда скрываются конкретные прототипы, и выстраивание обстоятельств, за которыми встают реально пережитые коллизии, что их автор, по праву приобретший репутацию дерзновенного новатора, создателя причудливых, фантасмагорических художественных миров, парадоксальным образом может быть охарактеризован как мастер, неспособный к художественному вымыслу как таковому, не проецированному на личные воспоминания и впечатления или на «чужие» тексты, на новый лад перетолкованные. Если расценивать приемы сюжето-сложения в прозе Белого, то придется сделать вывод, что изобретение оригинальной фабулы и интриги не относится к сильным сторонам его мастерства: там, где должна властвовать стихия чистого вымысла, у Белого чаще всего – надуманные, неправдоподобные, логически противоречивые ситуации. Достоверности и убедительности (в том числе и в отношении фантастических и «бредовых» явлений) Белый достигает тогда, когда непосредственно следует своему личному, биографическому опыту, либо когда строит художественную коллизию из заимствованных образов и сюжетных мотивов (таковы, например, мотивы пушкинского «Медного всадника» в «Петербурге», спародированные, гротескно перетолкованные, но претворенные в новую, безукоризненно выстроенную, емкую художественную реальность). Все творчество Белого изобличает фатальную неспособность писателя писать не о себе. Когда он пытается создать «беллетристический» сюжет – авантюрный, с участием сил и лиц, с которыми его никогда не сталкивала жизнь, – эти усилия сотворить нечто непредсказуемое и необычайное оборачиваются подспудным, потаенным автобиографизмом. В хитросплетениях интриги (в романах «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва») узнаются события, сыгравшие явную или скрытую, прямую или косвенную роль в биографии Белого; в образах вымышленных героев фокусируются черты самого Белого, его родных, близких друзей и не очень близких знакомых, складывающиеся в новую художественную мозаику, которая при внимательном обозрении поддается дифференцированному и вполне конкретному анализу как биографическая в своей основе структура.
О спонтанном автобиографизме творческих опытов Белого свидетельствует характерный эпизод. В 1906 г., когда между Белым, Л. Д. Блок и Блоком разворачивалась мучительная личная драма, в журнале «Золотое руно» (№ 7–9) появился рассказ Белого «Куст». В условно-символическом сюжете этого произведения Л. Д. Блок усмотрела скрытые оскорбительные выпады по своему адресу и по адресу Блока[8]8
См.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 258–259
[Закрыть]. Белый же, как он в свое время решительно заверял Блока в письме к нему[9]9
Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 180–181
[Закрыть], а позднее повторял то же самое в мемуарах «Между двух революций», никакими «злонамеренными» задачами не руководствовался и считал упреки совершенно немотивированными. Думается, что в этом конфликте оба, и Л. Д. Блок и Белый, были правы и неправы одновременно: по всей вероятности, Белый действительно не ставил перед собой специальных «аллюзионных» целей, но, работая над рассказом, оставался верен самому себе, своему сложившемуся творческому методу, и «отвлеченный» сюжет естественным образом оказался насквозь проникнутым непосредственно жизненной аурой.
Для самого Белого не существовало принципиальной разницы между собственно художественной прозой и мемуаристикой: рассказывая о годах младенчества в воспоминаниях «На рубеже двух столетий», он подкрепляет свои доводы цитатами из романа «Котик Летаев», используемого без каких-либо оговорок как мемуарный же текст, а литературный портрет Льва Ивановича Поливанова в тех же воспоминаниях дополняет опять же цитатой из романа «Москва», в которой речь идет о Льве Петровиче Веденяпине. Подобный метод вполне оправдан и не должен вызвать недоумения: ведь «Котик Летаев» целиком основывается на личных воспоминаниях Белого о своем детстве, а Веденяпин в «Москве» – такой же портрет Поливанова кисти Белого, как и незамаскированное изображение знаменитого педагога в «На рубеже двух столетий». В творческом арсенале Белого предостаточно подобных «двойников», которыми можно было бы восполнить характеристики соответствующих им подлинных исторических лиц: Мережкович и Шиповников из «Симфонии (2-й, драматической)» (1901) вписались бы в мемуарные образы Мережковского и Розанова, Жеоржий Нулков из «Кубка метелей» (1907) дополнительно проиллюстрировал бы рассказ Белого о неприятии им «мистического анархизма» Г. Чулкова, Нелли из «Записок чудака» (1919) прибавила бы красок к портрету А. Тургеневой, и т. д.
Если под «мемуарным» углом зрения рассматривать все творчество Белого, то выясняется, что писатель создавал мемуары (или произведения, включающие мемуарно-автобиографическое начало) с того самого момента, как ступил на литературный путь. Правда, это были не вполне привычные мемуары и едва ли они осознавались автором в этом их качестве – но ведь и позднейшая мемуарная трилогия Белого, как выясняется, весьма отличается от общепризнанных образцов этого жанра. Уже в первой книге Белого, вышедшей в свет в 1902 г., «Симфонии (2-й, драматической)» – или «Московской симфонии», как ее иногда называл автор, – есть элементы мемуарной хроники, вкрапливающейся в заведомо сфантазированное «мелодическое» повествование. Реальные московские жители преображаются здесь в нимф и морских кентавров уже в согласии с тем методом метафорического претворения действительности, с которым мы встречаемся и в последней написанной Белым книге, «Между двух революций», где трибун Жорес предстает в образе трубящего слона и Зевса-громовержца. Стремясь показать, как «в течении времени отражалась туманная Вечность»[10]10
Белый Андрей. Собр. эпических поэм, кн. 1. М., 1917, с. 183. 11 Там же, с. 199, 279
[Закрыть], Белый пытается зафиксировать ускользающее время, щедро заполняя свое «симфоническое» повествование событиями московской жизни, совершавшимися в 1901 году, – от заметных и существенных до самых мелких и вздорных (документальную достоверность последних Белый подтверждает подстрочными примечаниями: «См. московские газеты за май», «Смотри газеты за июнь») 11. Вся «московская симфония» выстроена по канве реально случившегося, увиденного и пережитого, порой являя собой уникальный образец диковинного жанра лирического протокола; перед нами еще не мемуары в строгом смысле слова, а скорее хроника, поскольку речь в «Симфонии» идет не о давно минувшем, а о недавно свершившемся или еще свершающемся, но характерные черты будущей мемуарной манеры Белого, предполагающей равноценное внимание к «существенному» и «несущественному» (разговорам «ни о чем», мелким бытовым подробностям, жестам, интонациям и т. п.) в этом раннем произведении уже налицо.
Автобиографический пласт сильно сказывается и в «третьей симфонии» Белого «Возврат» (1901–1902), в которой писатель «протоколировал» впечатления своей студенческой жизни в университетских аудиториях и лабораториях, и, разумеется, во многих стихотворениях 1900-х гг. Первые очерки Белого, содержавшие отчетливо выраженный мемуарный элемент, появились в 1907 г., после пребывания писателя в течение нескольких месяцев в Германии и Франции. Это были напечатанные в московской газете «Час» (2 и 16 сентября) очерки о встречах в Мюнхене со знаменитыми тогда мастерами слова – Станиславом Пшибышевским и Шоломом Ашем: в них давался беглый литературный портрет писателя («силуэт», как обозначено в подзаголовках к обоим очеркам), основанный исключительно на личных впечатлениях. За этими «силуэтами» последовали «силуэты» Мережковского, Бальмонта, Брюсова: характеристика, которую давал в них Белый мэтрам «нового искусства», опять же сводится в основном к изображению их личности, бытовых и психологических черт, особенностей поведения; творческий облик писателей в этих «силуэтах»), в соответствии с канонами мемуарного жанра, не акцентируется и лишь проступает сквозь облик человеческий. Так, в очерке о Мережковском Белый подробно живописует писателя на прогулке в Летнем саду, рассказывает о своем знакомстве с ним, описывает петербургскую квартиру Мережковского и 3. Гиппиус, воссоздает царящую в ней атмосферу литературных дебатов[11]11
См.: Белый Андрей. Арабески. Книга статей. М., 1911, с. 409–415
[Закрыть]. От позднейших мемуарных опытов этот и подобные ему «силуэты», зарисованные Белым, отличает лишь их большая фактическая достоверность, поскольку мемуарные эскизы второй половины 1900-х гг. делались по свежим следам пережитого и еще не подвергались искажающей оптике, к которой Белый прибегал – или вынужден был прибегать – в позднейшие годы. Уже в 1907 г. появляется и первый его очерк с подзаголовком «Из воспоминаний» – «Владимир Соловьев»[12]12
Русское слово, 1907, № 277, 2 декабря
[Закрыть]. В нем с благоговением переданы впечатления от немногочисленных встреч с философом и поэтом, духовным учителем Белого. По всей вероятности, уже тогда, в первое десятилетие своей литературной деятельности, Белый был внутренне готов перейти от отдельных мемуарных эскизов к более масштабным полотнам; В. Ф. Ходасевич, вспоминая об этой поре, свидетельствует, что в частых разговорах с ним Белый постоянно делился устными импровизированными мемуарами: «Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах»[13]13
Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles, 1939, с. 77
[Закрыть].
Новый и чрезвычайно сильный импульс развитию у Белого мемуарно-автобиографяческой темы дала антропософия. Став в 1912–1913 гг., во время долгого пребывания за границей, убежденным приверженцем религиозно-философского учения Рудольфа Штейнера, уделявшего особо пристальное внимание проблеме человеческого самопознания, духовного становления и самоопределения личности, Белый ощутил потребность по-новому, под антропософским углом зрения осмыслить прожитую жизнь, характер своей внутренней эволюции и постичь ее потаенный телеологический смысл. Писатель был глубоко убежден в том, что приход его к антропософии был неизбежным и закономерным, что в антропософии ему суждено было обрести законченное системное воплощение тех духовных интуиции, которые он бессознательно переживал на рубеже веков, в пору становления своей творческой личности. Отсюда возникала потребность воскресить и проанализировать те первоначальные импульсы, из которых развивалась позднейшая цельная система мироощущения и мировидения. Так родилась идея большого цикла автобиографических произведений «Моя жизнь». Высылая Р. В. Иванову-Разумнику 23 июня 1916 г. рукопись романа «Котик Летаев», Белый сообщал: «„Котик Летаев“ есть первая часть огромного романа „Моя жизнь“, в нем 7 частей: „Котик Летаев“ (годы младенч(ества)), „Коля Летаев“ (годы отроч(ества)), „Николай Летаев“ (юность), „Леонид Ледяной“ (мужество), „Свет с востока“ (восток), „Сфинкс“ (запад), „У преддверия Храма“ (мировая война)… Каждая часть – самостоятельное целое»[14]14
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981, с. 48
[Закрыть]. В полном объеме этот грандиозный замысел Белому осуществить не удалось. Кроме «Котика Летаева» был написан роман, посвященный «годам отрочества», – «Крещеный китаец» («Преступление Николая Летаева», 1921), служащий непосредственным продолжением «Котика»; с первоначальным замыслом «Моей жизни» (с заключительной частью цикла, посвященной мировой войне) отчасти соотносятся «Записки чудака», биографическую основу которых составляет история возвращения Белого в августе 1916 г. из Швейцарии в Россию кружным путем через Францию, Англию и Скандинавию.
«Котик Летаев», «симфоническая повесть о детстве», по авторскому определению, – это, с одной стороны, роман, многими особенностями своей поэтики и стилистики сближающийся с ранее написанным «Петербургом», с другой – весьма специфический образец мемуарного жанра. От воспоминаний в обычном смысле слова «Котика Летаева» отличает не столько тщательная, сугубо эстетическая организация автобиографического материала (эта тщательность «отделки» и густой слой художественных тропов присущи в равной мере и мемуарным книгам Белого), сколько объект описания: не внешние обстоятельства, быт, личные судьбы, историческая реальность, а внутренняя жизнь индивида, начиная с подсознательных рефлексов и первых пульсаций сознания у младенца, открывающего мир. Воплощая полуфантастические картины, открывающиеся сознанию ребенка, Белый черпает материал исключительно из собственных первичных детских ощущений и впенатлений. «Природа наделила меня, – свидетельствует Белый в 1928 г. в предисловии к несостоявшемуся переизданию „Котика Летаева“, – необыкновенно длинной памятью: я себя помню (в мигах), боюсь сказать, а – приходится: на рубеже 3-его года (двух лет!); и помню совсем особый мир, в котором я жил»[15]15
Русская литература, 1988, № 1, с. 219
[Закрыть]. Воссоздание этого особого мира и является основной творческой задачей Белого в «Котике Летаеве».
Еще сильнее собственно мемуарное начало выражено в «Крещеном китайце». Здесь Белый уже покидает пределы своей детской и впервые дает картины из жизни «профессорской Москвы» конца века. В предисловии (июль 1921 г.) Белый разъясняет тот творческий метод, которым он в этом случае руководствовался: «…роман – наполовину биографический, наполовину исторический; отсюда появление на страницах романа лиц, действительно существовавших (Усов, Ковалевский, Анучин, Веселовский и др.); но автор берет их, как исторические вымыслы, на правах историка-романиста»[16]16
Записки мечтателей, № 4. Пб., 1921, с. 23
[Закрыть]. Такие же «исторические вымыслы» в изобилии представлены и в «Записках чудака»: переполненная заботами, хлопотами и неудобствами история возвращения на родину в объезд охваченных войной территорий воссоздана здесь как описание странствий по фантасмагорическим мирам, отдаленно напоминающим Берн, Париж и Лондон, описание, перемежаемое воспоминаниями о различных эпизодах из прежней жизни автора. В «Записках чудака» Белый уже признается с изрядной долей самоиронии: «Моя жизнь постепенно мне стала писательским материалом; и я мог бы года, иссушая себя, как лимон, черпать мифы из родника моей жизни, за них получать гонорар…»[17]17
Белый Андрей. Записки чудака, т. 1. М. – Берлин, 1922, с. 64
[Закрыть]. Одним из самых безукоризненных и совершенных образцов такого биографического мифотворчества является поэма «Первое свидание» (1921) – по мнению многих критиков и исследователей Белого, лучшее, что было создано им в стихах. «Звезда воспоминанья» в этой поэме проливает свет на пору духовного самоопределения Белого – эпоху «зорь», рубежа веков, ставшую прологом всей его последующей творческой жизни и вместе с тем прологом новой исторической эры.
Переход от «интроспективных» мемуарно-автобиографических опытов к воспоминаниям об исторической эпохе сквозь призму лично пережитого отчетливо обозначился у Белого после смерти А. Блока и непосредственно под ее воздействием. Блока Белый воспринимал как своего ближайшего спутника в литературе и единомышленника в самых главных, магистральных вопросах, основой этому чувству единства служили общность духовных истоков и осознание внутренней связи, не прерывавшееся и в годы серьезных расхождений между ними. Смерть Блока побудила Белого заново осмыслить историю их почти двадцатилетнего общения, отразившую в себе все основные стадии эволюции русского символизма, и подвести ее итоги. Свершившаяся революция обозначила четкую демаркационную линию между старым и новым миром, и это эпохальное событие также инспирировало Белого подвести черту под определенным этапом жизни, резко и безвозвратно отделявшую былое и пережитое от современности, осмыслить символизм как историческое явление, замкнутое в предреволюционных десятилетиях.
Над воспоминаниями о Блоке Белый принялся работать в первые же недели после его кончины. Сначала они вылились в конспективные дневниковые записи[18]18
См.: Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 804–806
[Закрыть], затем, в конце сентября – начале октября 1921 г., Белый выступил с воспоминаниями о Блоке на двух вечерах в Вольной философской ассоциации. Первая, самая краткая редакция его «Воспоминаний о Блоке» датирована октябрем 1921 г.;[19]19
См.: Северные дни, сб. II. М., 1922, с. 133–155
[Закрыть] в ней Белый с особенной пристальностью рассматривает «соловьевский» этап развития Блока, наиболее ему близкий и в то же время важнейший для формирования творческого облика поэта, последующие годы характеризуются в суммарном изложении. Более пространную и подробную историю отношений с Блоком представляют собой написанные тогда же «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке», напечатанные в «Записках мечтателей» в 1922 г. (№ 6)[20]20
Эта редакция воспоминаний Белого переиздана в кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников» в двух томах, т. 1. М., 1980, с 204–322
[Закрыть]. И, наконец, приехав в ноябре 1921 г. в Берлин, Белый приступил к работе над самым расширенным вариантом своих «Воспоминаний о Блоке», которые опубликовал в четырех сборниках «Эпопея», выпущенных им в Берлине в 1922–1923 гг. «Воспоминания о Блоке» из «Эпопеи» – большая книга, в которой история взаимоотношений Блока и Белого воссоздана с максимальной широтой, с привлечением многочисленных автобиографических и побочных мемуарных сведений, имеющих к ней прямое или косвенное касательство; изложение материала доведено до 1912 года.
«Воспоминания о Блоке»[21]21
Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 91–92
[Закрыть] явились основой для работы Белого над большой мемуарной книгой «Начало века». Так называемая «берлинская» редакция воспоминаний под этим заглавием, создававшаяся в течение декабря 1922 г. и первой половины 1923 г., была, по существу, расширенным вариантом только что завершенных «эпопейных» воспоминаний, в котором фон взаимоотношений Блока и Белого был развернут в масштабную, многофигурную фреску минувшей литературной эпохи. Работа над этой мемуарной версией велась как бы по инерции, заданной «Воспоминаниями о Блоке». В. Ф. Ходасевич, постоянно общавшийся с Белым в Берлине, свидетельствует: «Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец, остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: „Начало века“».
«Берлинская» редакция «Начала века» по широте охвата материала, тщательности воспроизведения пережитой эпохи, подробности и искусности литературного портретирования не уступает позднейшей, «московской» редакции «Начала века» и ее продолжению – «Между двух революций», а по степени соответствия с исторической правдой и с внутренней логикой описываемых явлений и событий выгодно отличается от мемуарной версии начала 1930-х гг. Разумеется, в «берлинской» редакции «Начала века», как и в любом другом сочинении Белого, доминирует надо всем авторский субъективный взгляд, сказываются вызванные преходящими обстоятельствами перехлесты в тех или иных интерпретациях и оценках (например, диссонирующие с общим стилем изложения памфлетные интонации в характеристике Мережковских – прямое следствие разрыва отношений с ними, некогда предельно близких и доверительных), но в этой книге Белый еще стремится, реконструируя минувшее, оставаться равным самому себе и называть все вещи своими именами; стремится он и к тому, чтобы воскрешаемая им история символизма воспринималась как живая и действенная история, а не как «музей-паноптикум» (заглавие 4-й главы «московской» редакции «Начала века»). Отдельные фрагменты «берлинской» редакции «Начала века» были напечатаны за границей[22]22
Беседа (Берлин), 1923, № 2; Современные записки, кн. XVI (III) – XVII (IV). Париж, 1923. Фрагмент из этой мемуарной версии в новейшее время опубликован С. Григорьянцем в «Вопросах литературы» (1974, № 6, с. 214–245)
[Закрыть], готовилась публикация всего текста книги. Однако в Берлине издание этой мемуарной версии в свое время не осуществилось, а о выходе ее в свет в Советской России, после возвращения Белого на родину в октябре 1923 г., вопрос даже не поднимался: литературная ситуация, определившаяся в ту пору, решительным образом не благоприятствовала появлению подобных книг. По отношению к символизму тогда уже повсеместно насаждались негативные оценки; воспоминания же Белого при этом оказались в особо уязвимом и безнадежном положении.
Нередко полагают, что проработочная критика, огульно отрицавшая всю прежнюю, дооктябрьскую литературу как «буржуазную», принимавшая все непонятное и чуждое ей за враждебное «пролетарской культуре» и сыпавшая политическими обвинениями по адресу писателей, осмеливавшихся сохранять собственное творческое лицо, являлась уделом исключительно присяжных идеологов РАПП. Между тем, у критиков подобного рода были веские основания для самонадеянной убежденности в своем праве поучать и преследовать любых писателей, к их синклиту не принадлежавших, поскольку почин подобным литературным расправам подчас исходил от политических лидеров страны. В этом отношении Белому суждено было стать одной из первых жертв: 1 октября 1922 г. в «Правде» появилась статья Л. Д. Троцкого о его творчестве. Характеристика писателю в ней была дана безапелляционная и совершенно недвусмысленная: «В Белом межреволюционная (1905–1917), упадочная по настроениям и захвату, утончавшаяся по технике, индивидуалистическая, символическая, мистическая литература находит наиболее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче всего расшибается об Октябрь. Белый верит в магию слов; об нем позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым»; «„Мечтатель“ Белый – приземистый почвенник на подкладке из помещичье-бюрократической традиции, только описывающий большие круги вокруг себя самого. Сорванный с бытовой оси индивидуалист, Белый хочет заменить собою весь мир; все построить из себя и через себя; открыть в себе самом все заново, – а произведения его, при всем различии их художественных ценностей, представляют собою неизменно поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта»[23]23
Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1923, с. 34–36
[Закрыть]. Особого внимания удостаивает Троцкий «Воспоминания о Блоке» из «Эпопеи»: эти мемуары, «поразительные по своей бессюжетной детальности и произвольной психологической мозаичности – заставляют удесятеренно почувствовать, до какой степени это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозвратного мира»[24]24
Там же, с. 35
[Закрыть]. Заявляя, что ритмическая проза Белого содержит «мнимые глубины» и являет собою «фетишизм слова», и подразумевая последнюю фразу «Котика Летаева»: «Во Христе умираем, чтоб в Духе воскреснуть», – Троцкий выносит окончательный приговор: «Белый – покойник, и ни в каком духе он не воскреснет»[25]25
Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 1923, с. 36, 39, 40
[Закрыть].








