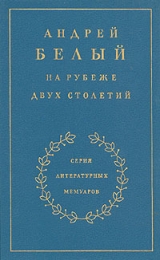
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Не я ли писал в 1909 году, что «падают твердыни теоретической философии» и что «нечего в них искать теоретической значимости»? («Символизм», стр. 68);34 стало быть: грошевое дело пришивать меня к Шопенгауэру, Риккерту и Соловьеву, не так глядевшим на «теоретическую значимость». И я же писал в 1915 году в согласии с собой: «Мировоззрения человечества – живая метаморфоза индивидуально целостных триадических построений». И далее: «Элементами… мировоззрений будут… четыре категории моносов: 1) „Монос“ градации… 2) „Монос“ тона… 3) „Монос“ мироощущения… 4) „Монос“ метода…» («Мировоззрение Гете», стр. 182–183)35. С точки зрения диалектики градационной последовательности для меня могут быть: 1) монизмы (материализм, рационализм, идеализм и т. д.); 2) дуо-монизмы: «монос» материя берется в эмпиризме, в логизме, в трансцендентализме и т. д.; 3) плюро-дуо-монизмы и т. д. (Ibidem, стр. 186–187); я, например, перебираю градацию диалектикой допустимых логизмов: 1) логический материализм (Демокрит), 2) логический математизм (Кантор), 3) логический рационализм (Когэн), 4) логический психизм (Фехнер), 5) логический монадизм (Лейбниц) и т. д. (Ibidem, стр. 188). И я говорю, что надо оттенять «нюанс моно-дуо-плюральной градации, многообразие модуляций которой – сама история философии» (Ibidem, стр. 189)36.
Не зная, что конфигурационный закон диалектического разверта мировоззрительных фигур мысли, всегда условных в статике, есть альфа и омега моей мировоззрительной точки зрения, я ведь могу, если захочу, наделать много бед критику, «Николаше», папашиному сынку, всегда прямолинейно пыхтящему однобоким догматом; он, например, ткнет в одну из проекций моей фигуры мысли и радостно поймает с поличным:
– Ага, – вот он у него где, мистический квадрат!
А я, диалектически перебежав по моей четырехгранной пирамиде, основание которой – квадратно, а бока – треугольны, я ткну в спину треугольником научно-позитивного мировоззрения: «Закон эквивалентов нашел бы свое выражение в формальной эстетике» («Символизм», стр. 187)37. Ну, похоже ли это на мистику и трансцендентность? Вот цитата: «Эмблематика… смысла… распадается на три части; в первой выводится теоретическое место для понятия… системы;…во второй дедуцируются эмблемы…; в третьей части мы можем систематизировать все эмблематические места познаний и творчеств в любой дисциплине» («Символизм», стр. 117)38. Заметьте: в любой дисциплине: в химии так же, как и в философии. Что это значит? А вот что: «Мы можем дать систему творческой ценности в методах механического миропонимания; нетрудно видеть, что… религиозное, эстетическое и примитивное творчество в пределах механического миропонимания примет вид взаимного превращения различного рода энергий… Мы можем дать системе творческих ценностей гносеологическое обоснование: нетрудно видеть, что мы получим… учение о формах и нормах творчества…»39 и так далее. Я перечисляю каталог эмблем, которые суть методологические понятия для опыта в науках и которые становятся диалектическими понятиями в контрапункте из взаимного преломления; система символизма должна стать словарем возможных исчисляемых преломлений; и, главное, в «Эмблематике смысла» я не даю такой каталожной системы, а указываю лишь путь работ для будущих теоретиков символизма, методологов, а не метафизиков, диалектиков, а не догматиков.
Согласитесь, папашин сынок, оклеветавший меня в годах, что вам же хуже будет, если я согласно диалектическому принципу моего символизма, вооружившись своими естественно-научными познаниями в ответ на ваши инкриминации в трансцендентизме, возьму да и переведу свои «трансцендентные» эмблемы на язык материи; и ухну вам в спину: Бором, Резерфордом, Томсоном, которых вы не изучали и которых изучал я.
И, главное: я, как символист, буду последователен, оставаясь верен принципу своего мировоззрения, дающему мне право то говорить так, как заговорил бы химик, то заговорить так, как заговорил бы художник Ницше: «Заратустра плясун… Заратустра легкий… любящий прыжки вперед и в сторону». А – главное: гносеологически загрунтовавший себе право на подобного рода «алогические» прыжки.
Мораль: изучайте трудолюбиво в целом мировоззрение противника, а не воруйте цитатки; много есть у меня всякого цитатного добра, но кто берет цитату вне круга цитат, ее объясняющих, тот – вор и убийца смыслов.
Я пишу о том, как я стал «символистом» от музыки еще пяти лет; в этом символизме от музыки, от гераклитианского вихря40, строящего лишь формы в движении и никогда в покое, и подставляющего вместо понятия догмы понятие ритма, или закона изменений темы в вариациях и всяческого трансформизма, и заложена основа всего будущего моего.
О том, как в университете я, чтитель поэзии Соловьева и Блока, был дарвинистом против формализма и механицистом против витализма, я надеюсь рассказать позднее; повторяю: и трансформизм, и Дарвин, но и Ницше, и Метерлинк были мною сперва пережиты в опыте, и уже потом узнаны в печатных томах, ибо мои позднейшие вкусы в литературе – отбор по переживаниям, мной испытанным в детстве.
Еще штрих: я всегда ощущал рубеж столетий между собою и бытом; и мне всегда стояла проблема борьбы с обстанием; так же, как теперь я борюсь с «Николашей», редукцией папаши, я боролся с большими «папашами» маленьких «Николаш»; и борьба ребенка, отстаивавшего свое право на бытие, была и трагична, и героична (не юмористична, как борьба с «Николашами»).
Дети рубежа и не могли перейти в начало века, не сказав «нет» этому веку; в момент же этого «нет» у них еще не было ничего готового в смысле собственного мировоззрения; их «да» слов не имело; отцы так и сыпали словесными терминами. Но была твердейшая уверенность в том, что отцами подаваемое «да» никуда не годится.
Отсюда – уход из сферы чуждого «да» или – сжатие младенца в точку кроватки; и переживание огромной ночи, припавшей к младенцу; переживания Нирваны не раз охватывали, как опасность прижизненной смерти41.
И отсюда же ноты Нирваны в моей биографии; отсюда и юношеское шопенгауэрианство.
3. Дети рубежаМы, дети рубежа, позднее встречаясь, узнавали друг друга; ведь мы были до встречи уже социальной группой подпольщиков культуры; группа объединилась не столько на «да», сколько на «нет»; эпоха, нас родившая, была статична; мы были в те годы – заряд динамизма; отцы наши, будучи аналитиками, превратили анализ в догму; мы, отдаваясь текучему процессу, были скорей диалектиками, ища единства противоположностей, как целого, не адекватного только сумме частей; слагаемые, или части, не отражающие чего-то в целом, называли эмблемами мы; искомое целое, как обстанием не данную действительность, мы назвали сферою символа; под словом «символ» разумел я конкретный синтез, а не абстрактный; в его квалитативности, а не только в «квантитас»; рассудочный синтез квантитативен; после Канта всякий синтез принял форму «синтеза в рассудке»; и – только; под «символом» разумели мы химический синтез; разумели «соль», свойства которой не даны ни в яде хлоре, ни в яде натрии, соль образующих; ставить знак равенства между химией свойств и частей в целом, не данной в частях, и мистикой может только человек, не изучавший природы химических веществ, природы диалектики, природы количественной качественности, о которой правильно говорит Энгельс42. Мы разумели некую жизненность факта, не взятую на учет формальными эстетиками. Слово «сюмболон» производил я от глагола «сюмбалло» – соединяю43, как «вместе сбрасываю» с выделением химической энергии, пресуществляющей хлор и натрий в третье, новое вещество: в соль.
«Символизм» означало: осуществленный до конца синтез, а не только соположение синтезируемых частей («сюнтитэми» – сополагаю);44 в соположении количества не выявляют еще своих новых качеств.
При чем мистика? Разве химическая реакция мистична?
В «символизации» мы подчеркивали процесс становления новых качеств; в словесной изобразительности диалектику течения новых словесных значений. Мы были всегда гераклитианцами, несущими бунт в царство средневекового Аристотеля; самое понятие гераклитовского Логоса45 было нам понятием ритма, закона изменений, а не статической формы или нормы рассудка.
Но наше ритмическое единство допускало подстановки; мы могли говорить о нем и в терминах философии Логоса, и в терминах энергетики, ибо умели переводить метод в метод и прочитывать явления, держась не за букву (проблема перевода с языка на язык); учитесь, неповоротливый критик: «символист» вам подсказывает, как в методической диалектике брать проблему эмблематики смысла, о которой я писал двадцать лет назад46 (удивительно путанные головы, – им было рассказано внятно, а они – опять за свое: «мистика, мистика!»).
Мы отрицали склероз мозга очень многих голов своего времени; и мы были правы в борьбе со склерозом: прием иода, иль символизма, не растворил извести в их головах.
Мы, символисты, имеем право говорить о символизме хотя бы на основании закона давности; тридцать лет – срок почтенный; и наше право базировано двояко: тридцать лет мы говорим о символизме так, как я говорю; и тридцать лет мы даем критикам материал нашим творчеством; мнение «спеца» о предмете споров должно быть взято на учет особенно там, где царят и сознательные, и бессознательные фальшивки, где действуют фабрики волчьих паспортов с транзитными визами «мистика» и «трансцендентность».
Типичные ли мы мистики? Типичные мистики не бывают смолоду перепичканы естествознанием; Брюсов, любитель математики, спинозист-гимназист47, – мистик ли? Я – естественник; Балтрушайтис – естественник;48 издатель «Скорпиона» по образованию – математик;49 Эллис – образованнейший экономист.
Если мы – «мистики», так давайте же переделаем наизнанку «спецовскую» литературу по истории и философии «мистицизма».
Энгельсу позволено говорить, например, так: «У естествоиспытателей движение понимается как механическое… Из этого недоразумения вытекает… стремление свести все к механическому движению… чем смазывается специфический характер прочих форм движения»50. Что ж, Энгельс – мистик? Деборинец А. Столяров, соглашаясь с Энгельсом, заявляет: «Сведение всякого движения… к механическому… означает… сведение диалектики к механике» (А. Столяров: «Диалектический материализм и механицизм», стр. 118)51.
В духе заявлений Энгельса и школы Деборина, за двадцать лет до деборинца Столярова, отказываясь от метафизики («Мы видим… крах метафизики…» – «Символизм», стр. 94)52, символист Белый пишет: «В термодинамике не обойтись без понятия об энергии, но… понятие, вынесенное за пределы частной науки, становится понятием многосмысленным и совершенно неясным» («Символизм», стр. 52)53.
На основании какого права подобного рода корректив к философии квантитатизма прочитывается критиком, мало работавшим в сфере методик точных наук, как приглашение гадать на кофейной гуще? Белый – маска Б. Н. Бугаева, имеющего диплом первой степени о прохождении им курса точных наук и соответственных лабораторных занятий.
На основании какого же права безглавят смысл написанного символистом?
На основании права передержек.
И я почтительнейше прошу, чтобы при ОГПУ было открыто отделение суда и кар за передержки, имеющие тенденцию дискредитировать; и сфера критики должна иметь критику в суде высших государственных органов.
Меня поражает: для чего существуют кафедры истории литератур и вся аппаратура материалов, когда в итоге разглядов того или иного исторического течения из него изъяты все «слоны» и перечислены все «козявочки».
Существует музей всех «козявочных» привкусов «мистицизма» в символизме; и ни звука о «слоне», без которого символизм – не символизм: о диалектике вращения метода вокруг метода, в итоге которого развивается эмблематика частных смыслов: школьно-художественных, частно-научных и прочих.
Ни звука!
«Николаша», папашин сынок, постарался особенно тут именно: на протяжении двадцати лет.
Еще есть один не отмеченный «слон»: именно: при набившем оскомину выведении символизма из крупной промышленности не взято на учет социальное происхождение символистов: если бы был составлен каталожный список символистов (кто их отцы, из какой они среды и так далее), отметился бы весьма любопытный факт; отцы большинства символистов – образованные позитивисты; и символизм в таком случае являет собой интереснейшее явление в своем «декадентском» отрыве от отцов; он антитеза «позитивизма» семидесятых – восьмидесятых годов в своем «нет» этим годам; а в своем «да», в символизме «пар эксэланс»54, он врождается в энное количество течений, уже действующих в начале века за пределами того «символизма», о котором писали историки литературы; действительно странно: в 1910 году провозгласили конец «символизма»; а до 1910 года «символизм» смешивали с «декадентством».
Когда же был символизм-собственно?
Мудрый Эдип, разреши!55
«Символизма» нет, а «символисты» здравствуют в 1910 году, как никогда: Блок не написал еще своих лучших творений; Белый еще не написал «Петербурга»; Сологуб – в расцвете сил; Брюсов – в расцвете сил; В. Иванов – в расцвете сил; с «символизмом» – покончено: да здравствуют символисты!
«Символисты» даже не реагируют на конец «символизма»; и не отказываясь от него, спокойно себе работают: Белый в «Мусагете», Брюсов в «Русской Мысли»56.
Что же случилось?
Оказывается – закрылся журнал «Весы» с согласия на это сотрудников «Весов», нашедших, что данная школьная группировка потеряла значение;57 но «символизма» это не задевает, ибо символизм никогда и не мыслил себя литературной школою; он – «школа» с 1907 до 1909 годов для-ради тактических целей: борьбы с дешевкою «мистического анархизма».
Отчего о сем немаловажном обстоятельстве – молчок?
Отметим: русские символисты не сыновья крупных промышленников; сколько было образованных капиталистов во втором десятилетии нашего века; они не дали – ни одного символиста; символисты – дети небогатых интеллигентов, образованных разночинцев, разоряющихся или захудалых дворян, давно забывших о своем дворянстве; наиболее типична связь символистов с передовой интеллигенцией конца века; в аспекте «декадентов» мы «скорпионами» выползли из трещин культурного разъеда в конце века, чтобы, сбросив скорпионьи хвосты, влиться в начало века58.
Я – сын крупного математика, вылез на свет из квартир, переполненных разговорами о Дарвине, Спенсере, Милле; Блок – сын профессора, внук известнейшего ботаника, профессора же59, женатый на дочери профессора Менделеева; Эллис – побочный сын известнейшего московского педагога;60 C. М. Соловьев – внук знаменитого историка Соловьева (профессора же); Балтрушайтис, В. Иванов – никакого отношения к крупному капитализму не имели; Б. Садовской – тоже; более молодые модернисты, истекшие из символизма и утекшие по-разному из него: Шершеневич – сын профессора; Шервинский – сын профессора медицины61 и т. д.
Остается Брюсов, единственный – сын «купца». Но мы увидим, насколько «купец-папаша» – «купец» в самом деле (об этом – ниже).
Вот если бы заговорили о генезисе символизма из известного слоя интеллигенции и анализировали бы, например, роль московского университета в формировании кадров московских символистов на рубеже двух столетий, – вышел бы интересный этюд.
Что крупная буржуазия стала ухаживать за символистами, когда они стали входить в моду, – так за кем только не ухаживала буржуазия: разве не ухаживала она за модными профессорами, за модными социал-демократами; я сам был на социал-демократическом вечере в квартире у владельца фабрики «Дукат» в дни всеобщей забастовки 1905 года62 (реферат – не состоялся ввиду осады университета казаками). Как реагировал на моду среди буржуазии на символизм А. Блок, – известно; как реагировал я в 1906 году на начало этой моды, – вот цитата: «Доколе еще прислуживать вашей мерзости, доколе быть шутом вашей пустоты, посмешищем вашего ничтожества, рвотным камнем вашей пресыщенности?.. Верю, что в все-светлом грядущем граде мы встретимся лицом к лицу и с работником, и с оратаем [Оратай – землепашец]… И не… слюною пресыщенности, как с вами, увенчается наш союз, а делами строительства… Как смеете вы хотя бы ценить нас!.. Прочь с дороги!.. Мы, художники, посылаем вам наше неугасимое проклятие» («Арабески». Художники оскорбителям. 1906 г.)63.
Надо отделять вопрос о моде на символизм в таких-то и таких-то годах среди крупной буржуазии, как и в других слоях общества, от генезиса символизма где-то весьма недалеко от «славных» университетских традиций в виде диалектической антитезы им.
Почему столь много интереса к моде среди буржуазии на нас (как и на науку, как и на… мистику, как и на… интерес к экономике, к театру и т. д.) при полной атрофии интереса к самому генезису символистов и «символизма»?
Печальная тема: искание предлогов… к доносу (разумеется, не простому: ку-ль-тур-но-му!).
Да, но Брюсов – сын «купца».
На нем и остановлюсь.
Отец Брюсова – купец, разложенный, как «купец», стремлениями передовых людей своего времени: купец с надрывом;64 все прочие «отцы» символистов – типичные интеллигенты; передовые стремления восьмидесятых годов – лаборатория символизма; отцы их доказывали эволюцию по Спенсеру и конституцию по Ковалевскому.
Где же тут мистицизм, наивная вера? На Соломоновых островах она была бы возможна; в недрах передовых московских кабинетов – нет уж, позвольте-с! Там не выкрикивали: «Верую в кошку серую!» Там по Герберту Спенсеру шили «спенсеры» (род одежды).
Останавливаюсь на первых годах Брюсова, ибо он – сын «купца»; и у них, вероятно, все – «по-купецки»; вот что пишет Валерий Брюсов: дед-крестьянин завел свое «дело»; но… писал басни, стихи, видел Пушкина, поэзией увлекаясь более, чем делом (не типично!);65 отец-купец, тяготясь «делом», пытался бежать от него; это не удалось; и он – провалил «дело»; вот как об этом пишет Валерий Брюсов в «Из моей жизни»: «Подошли шестидесятые годы… Молодежь стала заниматься Писаревым» (стр. 10)66. «К этому времени относится основание моим отцом… какого-то самообразовательного кружка… Познакомившись с будущей женой, конечно, отец начал „развивать“ ее» (там же)67. Брюсов пишет об отце: он – бывший нигилист и поклонник Писарева, после учиненного отроком В. Брюсовым безобразия, пишет ему, что – не стесняет его убеждений; в данном случае купец-отец скорее напоминает мне мягкотелого Н. И. Стороженку, нежели «железную пяту».
Стиль не купецкий: горе-купец – отец Брюсова.
Ну, а «быт» будущего символиста, Брюсова?
«Игрушки у меня были только разумные… Родители мои очень низко ставили фантазию… Мне никогда не читали сказок… Я знал имя Дарвина и, будучи трех лет… – проповедовал на дворе… его учение… С детства меня приохотили к естественной истории… Любимейшим моим наслаждением было ходить в Зоологический сад…»68
Читатель, – чувствуете? Точно Брюсов рос в моей квартире. Совпадение – до смехоты; только: вместо Зоологического сада я уходил в свой зоологический атлас.
Но – далее.
«Очень меня утешали… научные развлечения Гастона Тиссандье…»69 (А меня «птицы» Кайгородова и французская книжка для детей «Знаменитые жизни» – биографии знаменитых ученых); «страсть к систематизации довела меня до того, что я составлял таблицы своей выдуманной истории – хронологические и статистические…»70 А я выдумывал свою мировую историю (об этом – ниже); «воспитание заложило во мне прочные основы материализма. Писарев, а за ним Конт и Спенсер… казались мне основами знаний»…[Все выдержки «Из моей жизни», стр. 14–47]71 А я, гимназистом, принялся за грызение «Логики» Милля72, за «Историю индуктивных наук» Уэвеля и т. д.; воздух «квартир», как видите, – один; и мне дарили «разумные» игрушки, запрещали сказки; и я знал: человек – произошел от обезьяны; только я был ближе к штабу позитивистического очага; и оттого-то я знал и критику действительности этого «штаба»; картина знакомая; что издали почитают, то вблизи критикуют. Но в целом не схожие Брюсов и Белый пересекаются в атмосфере, в точке исхода: от позитивизма к символизму.
Случайна ли их встреча впоследствии? Разумеется – нет: они должны были встретиться.
Итак, в точке исхода еще пока – никакой «мистики»; пресловутая «мистика» в диалектике исхода из позитивистической «тезы»; она – антитеза; она начинается там, где преждевременно развитые, не в меру любознательные мальчики, Валя и Боря, вопреки их обстающему великолепию «основ» и биологии, и социологии, и психологии по Спенсеру, стали испытывать тоску, гнетущее чувство ощущения, что ты – «в подполье»; я спасался в музыку от картины профессорской квартиры, прочитанной, как иллюзия, долженствующая рассыпаться; поздней я говорил этой картине цитатой из Шопенгауэра: «Мир есть мое представление», что означало: «этот» мир, «такой» мир, ибо я волил иного мира, живого мира.
А вот что переживал Брюсов от семи до четырнадцати лет: «Играть со мною не любили… Я предпочитал играть один…» «У меня начинался бред, я вскакивал и кричал… Ночные припадки стали… повторяться так часто, что мама запретила мне читать страшные рассказы» («Из моей жизни», стр. 14–19)73.
Опять – трогательное согласие; только: я «закричал» раньше Брюсова: пяти-шести лет; с первой встречи с Валерием Яковлевичем и эта тема, тема бреда, прошлась меж нами, потому что социальные корни ее – те же.
Брюсов пишет: «Я всего более боялся поступить не так, как следует» (стр. 21). И я! Я смимикрировал «Бореньку-дурачка»; Брюсов – «нахала»; это – уже различие в темпераменте.
Брюсов заявляет: «Я не умел вести себя… и мучился каждый миг. Много думайте раньше, чем подвергать своих детей унижению» (стр. 21–24)74.
Присоединяюсь!
«Я не был приспособлен к мужскому обществу… Хуже были отношения с учениками… Позже, у меня нашелся… товарищ… это был предмет насмешек всего класса… Каждый урок немецкого языка сделался для меня ужасом… Многое из того, что другим дается шутя… стоило мне великой борьбы… Когда на меня смотрели слишком пристально, я терялся, горбился… Я привык наглостью скрывать врожденную робость…»75 Так пишет Брюсов. Психология «гадкого» утенка – налицо в будущем поэте; а вот «Танечка» Куперник – та «лебеденочек»; воссочинит стишок – рев восторга!
Брюсов «дерзил»; я – до сроку тихо таился; зато я «взорал», да так, что раскрылись рты (это было в седьмом классе).
Так мы, две величины, разные в целеустремлениях, но равные в одной и той же третьей, в среде, – встретились: символистами.
Брюсов записывает в «Дневнике»: «Нет, нужен символизм» (март 1893 года)76. Через четыре дня он записывает: «Теперь я – декадент. А вот Сатин, Каменский, Ясюнинский и др… восхваляют символизм. Браво!» Записано в тот же год: «Весною я увлекался Спинозою. Всюду появилась „этика“, а Яковлев стал пантеистом» («Дневники», стр. 13)77. Или: «Толковал Щербатову о дифференциальном исчислении… Кедрину показал теорему. Тот восхищался»78.
Духовской, соклассник, пишет пародию о беседах ученика Брюсова с учителем математики Евгением Никаноровичем Кедриным (и моим учителем).
О диаметре и шаре
В нашем классе толковали —
Никанорович Евгений
Да Валерий Брюсов-гений79.
Я подчеркиваю: в дни осознания себя символистом Брюсов увлекается математикой и изучает Спинозу. Подчеркиваю: в дни, когда я полон зоологических увлечений и изучаю томы зоолога Ива Делажа (энциклопедию томов!)80, я усаживаюсь писать «Северную симфонию»81, которую оканчиваю в эпоху занятия качественным анализом и увлечения «Основами химии» Менделеева;82 а кончив «Мистическую», вторую «Симфонию», с головой ухожу в анализы: весовой и объемный.
Статочное ли это дело для «мистиков»!
Кстати, о брюсовских отметках в «Дневниках»; Брюсов кончал Поливановскую гимназию, когда я уже в ней учился;83 и я помнил Брюсова-гимназиста; в своих воспоминаниях я приписал ему бороду, а у него были лишь усы; это – неважно; помнилась растительность на лице;84 еще более – угри; более всего – свирепая угрюмость этого одиночки. А товарищей Брюсова по классу (Иноевса, Ясюнинского, Щербатова, Сатина) я более помню, чем Брюсова; Яковлев же оказывал мне, младшекласснику, покровительство; и мы с ним разгуливали по гимназическому залу, обнявшись.
Через три-четыре года я уже знал наизусть пародии на «декадентов» Вл. Соловьева;85 мы их здесь же, в этом зале, прочитывали хором; а в последнем классе я, как и Брюсов, разгуливал с премрачным видом, проповедовал символизм, «мой» символизм, ибо основ символизма Брюсова в те дни не знал; и у меня уже были адепты; и я мог бы записать, как Брюсов: «Проповедую символизм, а Владимиров, Янчин, Готье – соглашаются»; учитель Вельский удивляется тому, что я читаю Канта («Пролегомены»);86 ученик Сатин, младший брат товарища Брюсова, противополагает моей проповеди теории Рэскина, Писарева; с гимназистом Иковым же мы спорим о Белинском и Туган-Барановском; с «Никаноровичем Евгением» мы, правда, не толкуем о математике, а с отцом, математиком Бугаевым, толкуем об аритмологии; и он уже дает мне читать свои брошюрки с уверенностью, что я их пойму, ибо он не подозревает во всей своей научной простоте, что я мамкой ушибленный «мистик», каким я стал после тридцати лет всяческого опыта чтения и размышления – у папашиного «сынка», Николаши, моего сурового критика.
Пошли черт ему такой же вооруженности всякими знаниями и научными интересами, какие выпали на долю нам, «детям рубежа», еще с гимназических лет.
Я рисую двух восьмиклассников, хотя и отделенных семилетием, однако встретившихся до личной встречи где-то в подполье, из которого они потом вылезли; оба стоят при рубеже, в рубеж врублены, рубеж дорубают, чтобы стать в «деятелях» в начале столетия; оговариваюсь: я ничего не доказываю, ставя лишь образы быта и отношение к ним; а уже задача марксистского критика социологически осмыслить поданные факты.








