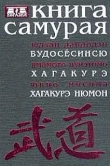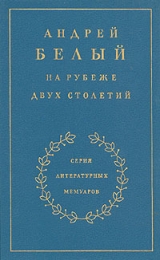
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Я, не посвященный в этот спор, не подозревающий еще о нем, собственно, поднимал вопрос Гете: что есть идея в явлении?
Под флагом «созерцания идей» я развил глаз: к усвоению не только стилей, но и природных явлений; я уже часами разглядывал оттенки зорь, месяца, цветов, лиц, человеческих жестов; все изученное мной, натурально, легло далее в основу чисто писательской привычки к наблюдательности, корень которой – в тех упражнениях, которые я развивал то в акте созерцания, то в акте постановочного макета, который шутя называл я «странных дел» мастерством (даже термин Шкловского был мною подобран)120.
Читайте и поучайтесь, критики символистов: читайте и будьте грамотнее; читайте великого поэта-натуралиста Гете, которого вы не знаете; если бы знали, стыдно бы было вам видеть мистику там, где действует углубленный натуралист, упражняющий глаз.
Мои «странные» игры, сплетающие созерцание, мысли об эстетике Шопенгауэра, стилистические упражнения с просто детской игрой уже возникают с пятого класса гимназии, когда я всецело отдаюсь звукам музыки и месячным лучам; я, вглядываясь в луну, начинаю изучать отражение луны в зеркале; я кладу зеркало на стол, сам влезаю на стол; и смотрю на отражение луны в зеркале под ногами – до самогипноза, зорко изучая и переживания свои; вдруг мне кажется, что вдыхание нашатыря усилило бы во мне действие лунного света: я говорю себе:
– Луна связана с аммиаком.
Шаги; я слетаю со стола; зеркало – на месте: перед столом сидит «воспитанник»; и – изучает Цицерона:
– Переводишь, Боренька?
– Перевожу.
Так я заигрывал про себя в пятом-шестом классах.
Полосой вот таких игр я, уже вооружающийся Бодлэром, врезывался в чисто «декадентские» упражнения с тем явлением, которое называет Вундт аналогиями ощущений; что это – «мистика» или «эксперимент», «трансцендентность» или «имманентность» – призываю на суд грамотного человека, читающего и Вундта, и Гете, а не невежу и болтуна.
Золото сделал я, золото
Из солнца и горсти песку.
Тайна не стоила дорого…
Падал песок из рук у меня,
Тихо звеня…
Золото сделал я, золото.121
Валерий Брюсов.
И я в серой пыли заевшего меня быта уже «делал золото»; оно-то и создало во мне собственный стиль «строки»; но стиль строки – от стиля восприятий; стиль же последних – из опытных упражнений, адекватных лабораторным; первая книга «Бореньки», ставящая грань между ним и «Белым», написана: своей формою, своим стилем.
Откуда он вынут?
Из опытных упражнений: с собой, а не со строкой; о форме не думал, а вышла «своя».
А почему типы «Симфонии», никому не видные в 1901 году, появились обильно к 1905 году? Потому что они были впервые наблюдены: наблюдение и опыт лежали в основе моего «символизма».
5. Толстые. Ожэ. Авторство. ШопенгауэрЭти годы напоминают мне в одной грани мчащийся поезд; я, высунувшись из окна вагона, запоминаю случайные ряби станций; и станции – отлетают; станции – картины быта; а поезд – пролет сквозь него; что прежде грозило сковать, теперь скользит по поверхности; мучают глубокие драмы, а не поверхностные впечатления бытия; в них я – актер, исполняющий водевили.
Постоянный заход к Стороженкам относится к этого рода не задевающим впечатлениям; Н. И. Стороженко, как авторитет, трояко убит за период гимназии: отцом, Поливановым, вскрывшим литературу, и М. С. Соловьевым, к которому скоро прислушаюсь я; к этому профессору водворяется лишь благодушное отношение: добродушный хохол, – не более; для меня он и не вредитель вкусов (вредитель для слабых голов он); с его детьми ослабевают мои связи; некоторое время я стараюсь развернуть мои способности и у Стороженок в виде инсценировки детских спектаклей; и тут наталкиваюсь на мальчишек, деформирующих эстетику моих начинаний и сводящих ее к грохоту, растерзанию, шарапу; скоро сыны, став поливановцами, заводят сношения с негодяйскими элементами своих классов; Маруся, дочь, обзаведясь роем подруг (Дюбюк, Сали), становится арсеньевской гимназисткой122. Едва нудятся отношения мои с мальчиками Бутлерами, в 1894 году мы проводим в имении у М. Я. Бутлер (сестры друга отца) полтора месяца123, живущие в воспоминании, как серое пятно; мать в одном из своих болезненных кризисов опять взволнована моей преждевременной развитостью; и гонит меня от взрослых: а Женя Бутлер пренебрежительно использует меня в качестве помощника по фотографической части; переживаю себя изгнанником общества: наезжающая молодежь, моя мать, мальчики Бутлера, превышающие меня возрастом лишь на два и четыре года, водятся тесной компанией, в которой возрасты смешаны (от пятнадцати до пятидесяти лет), а я, тринадцатилетний, изгнан, как маленький; и должен водиться вне этого общества в обществе грачей и галок, обильно населяющих унылый сад унылой Александрии, имения Бутлеров (Спасского уезда, Тамбовской губернии); дней десять гостим в Липягах около Спасска, где во мне принимает участие добрая А. С. Жилинская (жена брата М. И. Бутлер); помню здесь барышень Хохловьтх (дочерей артиста)124 да посещение соседей, князей Цертелевых; помню рассеянного Д. Н. Цертелева, поэта, писавшего о Шопенгауэре125 и друга В. С. Соловьева, не раз бывавшего в Липягах; он мне запомнился не как философ-поэт, а как забавно рассеянный фотограф.
После Тамбовской губернии проводили часть лета в унылой Либаве, впечатления от которой тоже не осталось: и море не радовало.
Следующее лето проводили мы с матерью в Кисловодске, а доканчивали снова у Бутлеров; в Кисловодске я был предоставлен самому себе, проводя день в парке и занимаясь упражнениями на трапеции и проглатыванием девяти стаканов нарзана; мать водилась в обществе своей подруги, Е. И. Черновой, жившей в Кисловодске с глупым мужем, красавцем Аркашей (А. Я. Чернов); рой расслабленных «генералов» ее окружал; среди них запомнился сенатор Н. А. Хвостов, – издали.
И это лето я прожил «изгоем»; внешний мир не питал.
Сезон 1894–1895 годов отметился мне знакомством с Мишей Толстым, сыном писателя, оставшимся на второй год и оказавшимся соклассником; признаться: сей отпрыск великого дома меня не пленил: и он мной не пленялся; рыженький, некрасивый отрок, с неряшливым видом и кривыми зубами, но с печатью фамильного сходства, он держался балбесом, поддразнивая учителя Копосова; был не до конца глуп; но и умом не отмечен: поверхностный отрок с невыраженными интересами, с потенциями к хлыщу, но уже зараженный чванством («Толстые мы!»). Я никогда не столкнулся бы с ним ближе, кабы не родители; все началось с визита Софьи Андреевны Толстой к нам; прежде она встречалась с родителями у общих знакомых (Олсуфьевых, Стороженок, Усовых и т. д.); узнав, что мы с Мишей товарищи, она явилась к нам с предложением возобновить знакомство и с приглашением меня к ним по субботам; родители ответили визитом; и после этого от времени до времени Миша усиленно звал к ним прийти.
Помню первое посещение толстовского дома, в Хамовниках126; с матерью; открыл двери великолепный лакеи во фраке и в белых перчатках; нелепость явления этой фигуры подчеркивалась несоответствием со стилем дома, не отличавшимся великолепиями: просторный, деревянный особняк, в котором гостиная, столовая и ряд комнат были меблированы так, как меблировались обычные профессорские квартиры; великолепный лакей выпирал смешно и кричаще.
Софья Андреевна любезно встретила мать и, улыбаясь полными своими губами (нижняя выпирала), направила на меня свой снисходительный лорнет, произнося то, что полагается произносить почтенным хозяйкам дома при виде отроков: нечто вроде:
– Я рада: идите к Мише; он ждет вас.
И, взяв мать под локоть, с помахиваньем лорнетки повела ее от меня: присоединить к дамскому обществу, собравшемуся в какой-то проходной комнате нижнего этажа; потом, когда мы, «безобразники», с шумом и гиком пересекали все комнаты, я не раз видел Софью Андреевну, непрерывно клохтавшую словами и размахивавшую лорнеткой, как веером; что-то было в тоне ее вполне нестерпимое, когда она подмигивала собеседницам и, не позволяя им распространяться (переговаривала их всех!), говорила о «великом» человеке, которого она знает, как никто, и который отличается милыми, но невеликими слабостями; у меня создалось впечатление от нескольких толстовских суббот, что это – выставка спеси и легкомысленного болтания Софьи Андреевны о «великом», но смешном муже, точно он – выставочный предмет, на который сюда сбежались глазеть, но который для нее – предмет домашнего обихода.
И поэтому, когда «великий» показывался в гостиной (этот сезон он проводил в Москве, а не в Ясной), делалось отчего-то всем стыдно: вероятно, более всего ему; и на мать Софья Андреевна не оставила приятного впечатления, скорей впечатление легкомыслия и чванства: кокетничаньем «величинами» и «толстовками», цену которым она одна знает.
Помню, как я, поднявшись на лестницу второго этажа, где из надлестничного помещения вели двери в столовую и в гостиную, попал в рой поливановцев: здесь были, кроме Андрюши и Миши, дети Стороженок, мой соклассник Сережа Подолинский, Лев Сухотин (старший на класс), два брата Колокольцовых и Дьяков, грубоватый старшеклассник; из неполивановцев запомнился Саша Берс: мы образовали пустой коллектив, с гоготом принявшийся бегать и швыряться мячом через сервированный чайный стол, делая вид, что всем весело (мне ж было и нелепо, и скучно); более понравились девочка Саша и очень милая Марья Львовна, вмешавшаяся в наши игры и осмысливавшая их; очень понравился совсем маленький, нежный, с полудлинными волосами Ваня Толстой, очень скоро умерший; иногда от взрослых влетала к нам шумная, экстравагантная, умная Татьяна Львовна, державшаяся, как художница (и тоже – с лорнеткою).
Я не любил детских игр с обязательными правилами, с обязательством гоготать, махать руками и ногами и выдумывать никчемные шалости, чтобы показать, что мне весело; может быть, другим было весело; мне ж было скучно, тем более, что отношение ко мне поливановцев-однолетков было скорей отношением сверху вниз (тупица, «не нашего общества» и так далее); этот оттенок связывал руки; и кабы не Александра Львовна (тогда розовощекая, бойкая Саша) и не Марья Львовна, добрая и осмысленная (поразили меня прекрасные, лучистые, голубые глаза), то я, в компании «аристократа» Подолинского, циника Дьякова, и двух балбесов Колокольцовых, и склонного к балбесничеству Миши, просто завял бы; мы играли в мяч, кошки-мышки, прятки: летали с гиками с первого этажа во второй, скатываясь по перилам, врывались в столовую, произвести переполох среди взрослых; запомнились мне (не помню, были ли они в первый раз или во второй) – Сухотин, скоро женившийся на Татьяне Львовне, уже с младенчества хорошо знакомый Сергей Иванович Танеев (композитор), чувствовавший себя у Толстых, как дома, и на весь дом по-танеевски плакавший над шахматами, бледный, кажется, длинноволосый сын художника Ге и какие-то почтенные дамы (среди них, вероятно, мадам Пастернак)127.
В разгар игры в гостиную вошел Лев Николаевич, – тихо, задумчиво, строго, как бы не замечая нас: поразила медленность, с какой он подходил к нам легкими, невесомыми шагами, не двигая корпусом, с руками, схватившимися за пояс толстовки; поразили: худоба, небольшой сравнительно рост и редеющая борода; впечатления детства высекли его образ гораздо монументальней: небольшой старичок – вот первое впечатление; и – второе: старичок строгий, негостеприимный; увидав нас, он даже поморщился, не выразив на лице ни радости, ни того, что он нас заметил; между тем он подошел к каждому; и каждому легко протянул руку, не меняя позы, не сжимая протянутой руки и лишь равнодушно ее подерживая; помнится, остановившись передо мной, он оглядел меня пытливо, недружелюбно и подал руку, как если бы подавал ее воздуху, а не живому мальчику, растерявшемуся от встречи с ним; помнится, кто-то из взрослых ему напомнил:
– Сын Николая Васильевича.
– Да, да, – знаю, – равнодушно ответил он голосом В. И. Танеева, глядя не на меня, а на воздух над моей головою; круто повернулся и вышел в столовую, чтобы присесть за шахматы с С. И. Танеевым; и оставить нас донельзя переконфуженными, точно накрытыми на месте преступления; наступило молчание.
– Да, – старичок! – нелепо пробормотал Подолинский, чтобы сказать что-нибудь; и разговор перешел на «Войну и мир», чтобы обнаружить «позор» мой: я, пятнадцатилетний, еще не читал «Войны и мира», а все другие – прочли: и Миша, посвистывая, бросил с пренебрежением по моему адресу:
– Всякую дрянь читают, а хороших книг не читают! Я был добит!
Не очень-то мне сказал мой первый дебют в толстовском доме: не понравилась мне Софья Андреевна, заморозил холодом «старичок» в толстовке, оскорбил циническими выкриками Дьяков, когда мы, мальчишки, остались без девочек; и подавили фрак и белые перчатки великолепнейшего лакея; если б не мать и не настойчивые приглашения Миши, я бы и не появился вторично в этом неискреннем доме.
А я появлялся в этот сезон; но нечем помянуть свои появления: та же беготня по комнатам с вылетанием в сад, где мы кидались снежками, галдели и говорили обязательные циничности, от которых не было весело; запомнились два эпизода, имеющие отношение к Льву Толстому.
Один: в столовой молодежь поет цыганские песни; я с Колей Стороженко оказался при лестнице, ведущей вниз; к лестнице выходит Толстой (не помню с кем), останавливается у перил, собираясь сойти вниз, положив руку на перила, поднимает голову и оцепеневает, вперяясь в пространство и весь погруженный в слух; вдруг, с неожиданным порывом, махнув рукой на пение, он восклицает:
– Как хорошо!
И, опустив голову, легкими шагами быстро спускается с лестницы.
Другой эпизод: Александра Львовна должна нас искать (мы играем в прятки); удалив ее, мы, поливановцы, мечемся по дому, ища обители; вдруг Миша соображает:
– А ведь отец-то ушел?
Кто-то обегает комнаты: возвращается с вестью:
– Ушел. Миша толкует:
– Если мы заберемся к нему в кабинет, Саша нас никогда не найдет: ей невдомек, что мы осмелились забраться туда.
Решено: какими-то боковыми переходами попадаем мы в кабинет Л. Н., отдельный от дома; простая комната; запомнилась черная, кожаная мебель, если память не изменяет: диван, кресла, ковер; перед ковром письменный стол; мы комфортабельно разваливаемся на ковре и на креслах; Дьяков залезает на диван и лежит на нем; раздрав ноги и похлопывая себя по животу, он изрекает пресные идиотизмы свои; проходят минуты; мы слышим топот шагов Александры Львовны, тщетно нас ищущей; в кабинете почти темно; лишь луна из окон его освещает.
Вдруг легкий шаг из дверей за появившимся кругом света (то – свечка); кто-то идет к нам, ставит свечку на стол; и мы с великим конфузом видим: это – Толстой; поставив свечу и накрыв нас в наших разухабистых позах (Дьяков с разодранными ногами на диване), он не садится; стоит над столом, со строгим недовольством разглядывая компанию; компания – как замерзла (Дьяков даже с дивана не стащил ног): длится ужасное, тягостное молчание, ни мы ни слова, ни Лев Толстой; стоит над столом и мучает нас свинцовым взглядом.
Наконец после молчанья он произносит с нарочитою сухостью, обращаясь не то к Дьякову, не то к Сухотину:
– Отец на земском собрании?
– Да.
И мы стенкою, один за другим, – наутек из кабинета, точно на нас вылили ушат холодной воды.
Долго я потом роптал на этот холод Толстого, распространяемый на нас, пока не понял всей правоты его; ведь он в нас видел «лоботрясов» из «Плодов просвещения»;128 и был прав: стиль компании, подбиравшейся около Миши, был-таки лоботрясный; и этот стиль мне был тоже не переносен; кажется, – это мое последнее посещение дома Толстых, куда не тянуло; скоро Миша перешел в Лицей; наши встречи в гимназии прекратились; через год я получил вновь приглашение в гости; но не пошел, и мать была одна у Толстых: вернувшись, передавала, что за мною хотели послать лакея и жалели, что я не появился; я же не печалился; матери тоже не нравилось в этом доме; вымученное Софьей Андреевной возобновление знакомства само собою оборвалось.
Впечатление от Толстых, – впечатление от полустанка, у которого постоял поезд жизни моей лишь несколько секунд; как не соответствовало оно оглушающему влиянию на меня Льва Толстого с 1910 года129.
Такими же пролетными впечатленьями был мне ряд впечатлений, связанных с внешней жизнью, с просовыванием носа «в свет»: с появлением ряда профессоров и профессорш, с поездкою за границу в 1896 году; мать не умела путешествовать; попав в новый город, она металась недоуменно, пугалась, скучала; и все кончалось бегством домой; сплошной катастрофой стоит мне бегство по Европе:130 пр Берлину, Парижу, Швейцарии; мелькнули: Берн, Тун, Цюрих, Вена, ничем не обрадовав; сокровищницы культуры, музеи, прошлое, – всему этому повернули мы спину; считаю: первое мое знакомство с Европой 1906 год, а не 1896. Запало лишь пребывание в Берлине с Млодзиевскими; и жизнь в Туне с Умовыми; запали и дни, проведенные в Париже с Полем Буайе и с его умной женой; Поля Буайе я встречал и раньше в Москве, когда он, перезнакомившись со всеми друзьями, чувствовал себя москвичом:131 я его видел у Стороженок; бывал он у нас; бывал и у Янжулов. Узнав, что мы едем в Париж, он списался с матерью и встретил нас на вокзале, поразив высочайшим цилиндром, черною эспаньолкой и эластичностью, с которой он вспрыгивал на фиакр; он показался мне тем именно парижанином, которого я видел на иллюстрациях к банальным французским романам; в 1896 году он был уже седеньким, но таким же юрким; везя нас с вокзала мимо Сорбонны, он заметил матери:
– Ваш муж, если бы ехал с нами, снял бы шляпу перед этим зданием, в котором и он учился!
Но мать Сорбонной не тронулась: и, по-моему, докучала Буайе и его жене жалобой на жару и на то, что ей скучно; тщетно Буайе придумывал, чем бы ее развлечь, посылая к нам сына, Жоржа, влекшего в «Жардэн д'акклиматасион»132, где я ездил верхом на слоне, а Жорж – на верблюде; когда мы встретились с Умовыми, обещавшими нас увезти в Швейцарию, то, вероятно, у бедного Поля Буайе с души свалилась большая тяжесть.
Возвращение в Россию было интересней выезда из нее: наш спутник по вагону, бледный, бритый, больной француз, ехавший впервые в Россию, вступил с нами в живой разговор; оказалось, что у него ряд рекомендательных писем к знакомым (Стороженкам, Веселовским и так далее) от того же Поля Буайе, с которым мы проводили недавно время; он оказался католическим священником, находящимся в конфликте с папой и уже не первой молодости принявшимся за изучение славянских языков, в частности, русского; он читал в подлиннике Тургенева, а не мог произнести вслух ни слова по-русски; мать разочаровала его: в летние месяцы никого в Москве нет (ни Стороженок, ни Веселовских); ему придется томиться до осени в пыльном городе; и звала его в гости к нам.
Мосье Ожэ (так звали его) появился у нас, встретившись с отцом, только что вернувшимся с юга; мосье Ожэ оказался образованнейшим человеком, знающим психологию и литературу; он являлся к нам каждый день, часами толкуя с отцом; ехал он в качестве доцента русского языка по кафедре Буайе в «Эколь дэ ланг з'ориенталь»;133 вставал вопрос: куда деться нам во вторую половину лета? Куда деть беспомощного Ожэ, больного и одиноко томящегося в пыльной жаре; решили всем вместе ехать в санаторию доктора Ограновича, Аляухово, присевшую в леса около Звенигорода; там и оказались.
В санатории был общий стол, за которым шумели больные на одних правах со здоровыми; запомнился профессор анатомии Петров да постоянно являвшиеся Иванюковы, жившие где-то поблизости, в маленьком домике, спрятанном в кустах, уединенно работал и отдыхал державшийся в стороне Н. К. Михайловский, статную фигуру которого, одетую во все серое, с развевающейся бородой я хорошо помню; он рассеянно пробегал в отдалении, точно улепетывая от нас; ветер трепал широкополую шляпу и белокурую бороду, а пенснэйная лента мешалась; отец так и лез на него: померяться силами в споре; однажды он с ним сражался; после мать попрекала его теми же словами, произносимыми с той же интонацией:
– Хороши… Накричались… И как вам не стыдно… А он с тою ж улыбкою так же перетирал руки:
– Отчего же-с: поговорили!
Аляухово жило в памяти из-за Ожз; ему отвели маленькую комнатушку; и он в ней замкнулся: жечь курительные бумажки, распространяющие запах ладана; и, по-видимому, предаваться католическим медитациям, потому что часами просиживал в темноте, закрыв ставни и очень смущаясь, когда настигали его; у него болели и грудь и ноги; еле передвигался; скоро он вызвал яркое недоуменье в отце, разводившем руками:
– Непонятно, зачем приехал… Просит не говорить, что священник… Ходит в штатском… Не может внятно ответить, зачем в России…
Было решено: «иезуит»!
Неожиданно «иезуит» обратил внимание на меня; он предложил мне брать у него уроки языка и истории литературы в обмен на свои упражнения в русском; это наше взаимное обучение превратилось в ряд живых и продолжительных очень бесед, увенчиваясь прогулками в поля и леса; и я на месяц превратился в гида этого престранного человека; бледный, бритый, с лицом, напоминающим стареющего Наполеона, с серыми, добрыми и очень грустными глазами, с плачущим, почти женским голосом, с мягко зачесанными каштановыми волосами, он с необыкновенным старанием выправлял стиль моей речи и выговор, попутно рисуя талантливые силуэты Мюссе, Виньи, Ламартина и критиков Сарсе и Лемэтра; второго он обожал; первого не любил и вздыхал о падении языкового стиля во Франции, погружая отрока в тонкости французской эстетики, расколдовывая немоту до того, что я начал выспрашивать его о французских символистах; от него-то я получил первое представление о Реми-де-Гурмоне, «католике» Верлэне, парнассцах, Вилье-де-Лиль Адане; я ему признавался: французские импрессионисты, мной виданные в детстве, живы во мне (в ту пору я знал пародии на «символистов» Валерия Брюсова и читал статью в «Вопросах Философии», – Гилярова «Предсмертные мысли во Франции», сильно заинтриговавшую меня: перевод поэмы Верлэна, там помещенный, произвел огромное впечатление);134 Ожэ не симпатизировал «декадентам», но и не слепо ругал их, а говорил осторожно, культурно о том, что «декаденты» – симптом безбожной цивилизации (как и подобает говорить священнику); интересно, что во время наших полевых прогулок в аляуховских полях я впервые осознал свои симпатии к левейшим художественным течениям, – не могу сказать, что благодаря Ожэ, им не симпатизировавшим, а как-то рикошетом от его доводов; из его осторожного тона (не «хихикающего») я вывел свое заключение: надо за декадентов стоять тактики ради; в чем суть этой тактики, мне еще не было ясно; но тактику я провел с неожиданной для себя пылкостью вскоре же; когда сын Ограновича начал ругать Брюсова, я с неожиданной для себя горячностью сказал, что Брюсова я очень люблю, что не было правдой (я позднее лишь полюбил Брюсова).
Вот ведь что странно: едва ко мне подходили сериозно, я обретал дар слова, но в разговоре с глазу на глаз; наши беседы с Ожэ расколдовали мою немоту, и я долго, весьма неглупо ораторствовал с ним по-французски; но подойди посторонний, – и возникал «идиотик»; это свойство во мне скоро подметил Ожэ; и ответил на него подчеркнутой деликатностью в обращении со мною.
В Аляухове я впервые прочел «Войну и мир», переживая потрясения;135 и недавно мной наблюдаемый «старичок» в толстовке впервые раскрылся мне; меня потянуло его вновь увидеть; но от свидания с ним отрезал Миша Толстой; Льва Николаевича увидеть из-под «Миши» казалось оскорблением моего чувства.
Другое впечатление от Аляухова: я пережил в неделю просто безумное увлечение дочерью Ограновича, с которой из «стыда» не хотел знакомиться, хотя она и оказывала издали знаки внимания; «роман» оборвался тем, что она неожиданно уехала в Крым, а я хотел броситься в воду; но это было не более, чем —
Юнкер Шмидт из пистолета Хочет застрелиться136.
Постояв над водой, я пошел к Габриэлю Ожэ; и мы заговорили с ним, кажется, о сонетах.
Настала осень. Мы переехали. Ожэ неожиданно собрался в Париж, когда в Москву вернулись те, к кому у него были рекомендательные письма; странное появленье и странное исчезновенье; мы с ним условились: гимназические сочинения по русскому языку я буду переводить на французский язык, он, исправив текст в Париже, мне будет его возвращать; я ему послал сочинение о былинном эпосе, получил исправленный перевод с рядом утонченных поправок и с похвалами содержанию; матери он высылал томики романов, отцу новинки по французской психологии; и вдруг круто оборвал всякую переписку, не вернул мне текста второго сочинения; мы решили, что он сгорел во время пожара выставки на улице «Жан-Гужон» (трупы сгоревших исчислялись десятками): он жил рядом с выставкой.
Странный человек, появившийся на пороге моих увлечений Верлэном; через несколько месяцев в руки мои попадает «Сэрр-шод» Метерлинка; и я – в плену у него137.
В эту эпоху начинается мое авторство;138 я пишу: пишу много, но – про себя; стыдливость моя не знает пределов; если бы меня уличили в те дни в писании стихов, я мог бы повеситься; пишу я и нескончаемую поэму в подражание Тассу, и фантастическую повесть, в которой фигурирует йог-американец, убивающий взглядом, и лирические отрывки, беспомощные, но с большой дозой «доморощенного», еще не вычитанного декадентства;139 одно из первых моих стихотворений – беспомощное четверостишие:
Кто так дико завывает
У подгнившего креста?
Это – волки?
Нет: то плачет тень моя!140
Или:
Унылый, странный вид:
В степи царит буран,
Пыль снежная летит,
Ложится на бархан.
Эпитеты «дикий» и «странный» – мои излюбленные; но Ибсена я не знаю еще (мое «окаянство» случилось поздней: через год).
В этой детски-беспомощной лирике с вовсе не детскими темами отразилась моя диковатая, странная жизнь про себя; вскоре после отъезда Ожэ заболеваю я; в болезни прочитываю «Из пещер и дебрей Индостана» Блаватской;141 и я – «теософ» до всякого знакомства с теософической литературой; мои «теософские» настроения получают пищу прочтением «Отрывка из Упанишад» в переводе Веры Джонстон, переводами из книг «Тао-Те-Кинг» Лао-Дзы и «Серединою и постоянством» Конфуция; все мной прочитано в «Вопросах Философии и Психологии»142. Впечатление от «Упанишад» взворотило все бытие; впечатление это я описал в «Записках чудака»; не возвращаюсь к нему;143 «Упанишады» меня свели с Шопенгауэром; вскоре, отрывши в книгах отца том «Мира как воли и представления», я увидел эпиграф, посвященный «Упанишадам»;144 и сказал себе:
«Отныне эта книга будет мне чтением».
И я начинаю в ряде недель осиливать Шопенгауэра с конспектом, с переложением (по параграфу в день); первые параграфы первой части я разучивал назубок, задавая их себе вместо гимназических уроков, которых не учу. Так я начал прохождение собственного класса, заключающегося в изучении Шопенгауэра, в созерцании картин природы, подчиненных «закону основания бытия», а не «закону основания познания» (термины Шопенгауэра); я учился в природе видеть «Платоновы идеи»; я созерцал дома и простые предметы быта, учась «увидеть» их вне воли, незаинтересованно; эти практические упражнения к чтению «системы» позднее вылились просто в наблюдательность, в зарисовывание эскизов с натуры и в подыскивание метафор, схватывающих ту или иную наблюденную особенность; я полюбил прогулки на Воронухину гору (над Дорогомиловским мостом); и каждый день оттуда вглядывался в закаты: скоро я стал «спецом» оттенков: туч, зорь, неба; я изучал эти оттенки: по часам дня, по временам года; и этим изучением набил себе писательскую руку, что сказалось впоследствии; но в процессе разглядывания предметов я не думал о писательстве, а о параграфах шопенгауэровской системы, относясь к созерцаниям, как к праксису освобождения от воли; в эту эпоху я очень зауважал буддизм и его аскезу145.
Скоро к теоретическому часу (изучение «системы») и к практическому часу (созерцающие наблюдения) присоединились иные часы: я всегда любил музыку; но, усвоив себе философию музыки Шопенгауэра, я утроил свое внимание к музыке; и она заговорила, как никогда; в эти годы мать увлекалась Чайковским; и Чайковский во всех видах царил у нас в доме: оперы, романсы, переложение симфоний, балет «Щелкунчик»; музыка последнего особенно действовала на меня; и под аккомпанемент вальса «Снежных хлопьев» или «Па-де-де» происходили мои действия остраннения быта (задействовала лаборатория «странных дел мастерства»); я становился в угол и твердил себе:
«Всегда здесь стоял, никогда отсюда не выйду: тысячелетия простою».
И комната мне виделась вселенной, которую я преодолел, вставши в угол, откуда, как из-за вселенной, я-де созерцаю «все это», нам праздно снящееся; предметы мне виделись по-иному в те миги; и я говорил им:
«Вы – то, да не то!»
В сущности, и эти «дикие» действия были введением в «науку видеть», ибо вслед за ними мне открылся мир живописи, в который я вошел свободно, точно годами изучал ее историю; мне было без пояснения ясно, что Маковские, Клеверы, – никуда не годная дрянь, а Левитан, Врубель, Нестеров, прерафаэлиты – подлинное искусство (но это – немного позднее); теперь вижу, что студии к «науке увидеть» – мои разгляды вещей по-особому, «странному», как я тогда выражался.
Наконец Шопенгауэр заинтересовал меня Фетом: я читал Шопенгауэра в переводе Фета (и потому ненавидел поздней перевод Айхенвальда);146 узнав, что Фет отдавался Шопенгауэру, я открыл Фета; и Фет стал моим любимым поэтом на протяжении пяти лет147.
Так свершался отбор классиков – в моем собственном университете; таков я был до знакомства с Брюсовым, Мережковским, Верлэном, Ибсеном и прочими литераторами, которые потом мне служили оправданием самого себя (не я следовал «моде», а «мода» прибегала ко мне: меня подтверждать).
Единственное влияние со стороны, питавшее мое самоопределение в пику всем, – квартира Соловьевых, которую я начал посещать за год до этого периода, еще не углубляясь в разговоры всериоз с супругами Соловьевыми, которые относились ко мне как к мальчонку; я еще ходил не к ним, а к сыну их, Сереже, с которым у меня завязались дружеские отношения впервые несмотря на разницу лет (ему было десять, а мне пятнадцать).
На Соловьевых я должен остановиться.