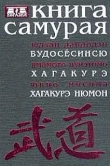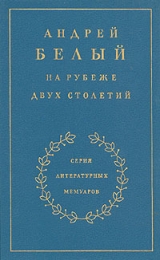
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Но еще более ахнул бы он, что именно из этой группы будущих «весовцев» раздадутся призывы по-новому любить пушкинский стих, Шекспира и античную драму.
А между тем: «рубеж», ощущаемый вздрогом точки перевала, но воспринимаемый стариками ломаньем, уже гнездился в недрах Поливановской гимназии в описываемое время; в это именно время кончал гимназию Брюсов, проповедуя Ясюнинскому, Иноевсу, Яковлеву, Щербатову символизм (и они шли на это); то есть восьмой класс, о котором Поливанов писал Никольскому, что этот класс «прелесть какой», уже содержал в своих высших интересах «яд», и опасный «яд»; и в то именно время маленький «Бугаев», еще «примерный ученик», глубоко затаил в душе впечатления от французских импрессионистов.
Будущие «декаденты»-поливановцы проделали все то, что, по мнению Поливанова, отмечало их интересы, как высшие: они увлекались Шекспиром: Боря Бугаев с Сережей Соловьевым ставили в квартире сцены из «Макбета», прекрасно учились русскому языку и ценили классиков поэтов, а Валерий Брюсов восхищал ответом о Дельвиге89.
И – тем не менее: они-то и были бациллоразносителями той болезни, которая заставила скоро ахнуть просвещенный преподавательский ареопаг.
Бессилие против вторжения интересов к марксизму (у нас появились поклонники тогдашнего Струве и тогдашнего Тугана-Барановского), к символизму и к многому другому еще выявляло распад, ужасный распад, прикрываемый маской благополучия, – распад не гимназии, а жизни.
И этот общественный распад передо мною встал: картиной «гимназии вообще» в лучшей гимназии своего времени.
Описывая преследование меня со стороны товарищей по классу эпохи 1893–1896 годов, должен отметить: меня презирали, главным образом, ровесники, то есть наш класс и ближайшие младшие и старшие классы; наоборот: многие старшеклассники мне особенно симпатизировали, как Яковлев, которого отмечает Брюсов, Богословский, с которым я поздней познакомился уже «Андреем Белым» (через Бориса Зайцева); Брюсова я лично не знал, но помню его90: он нас, малышей, необыкновенно интриговал своею мрачною одинокостью, растительностью, угрями и встрепанностью; помнится, где-то он вспоминает, что малыши досаждали ему, и он, «большой», вступал с ними в драку;91 у меня не было столкновения с Брюсовым; но я мог досаждать ему: бывало, он шагает один от колонны к выходной двери из зала на переменах, а я, второклассник, заложив книгу за ремень, поставив сапоги ребром к скользкому паркетному полу, несусь на ребрах подметок, как на коньках, наперерез Брюсову (я все-то кружил вокруг него, вероятно, мешая ему слагать стихотворные строчки).
На почве покровительства мне взрослыми у меня одно время завязалось общение с гимназистом Тороповым (когда я поступил в первый класс, он был уже старшеклассник); общение заключалось в том, что Торопов бродил со мною, меня обнявши, за большой переменой, объяснял мне закон божий, и поглаживал по голове; кажется, он отмечал во мне «высшие устремления»; это был краснощекий, вспыльчивый брюнет, с черными выпученными глазами, с уже пробивающейся растительностью; он увлекался геометрией, доказывая классу теоремы и приходя от этого в раж; он делался вне себя – от диких споров; лицо становилось багровым, горловой, басовой, чуть подшепетывающий голос начинал толкать звуком зал; у него были толстые красные губы, большой нос и нелепые движенья рук; скоро я понял, что он – неуравновешенный фанатик, кидающийся из одного увлечения в другое; к нему приставали; тогда он, став малиновым, приходил в ужасную ярость, пугая всех нас драками; раз я видел, как дрался он с группою соклассников; – и ужаснулся свирепому, малиновому, сумасшедшему его лицу с бессмысленно выпученными глазами; его едва привел в чувство вмешавшийся надзиратель; и скоро уже, оправив пенснэ (он носил пенснэ) и став нормальным, он сконфуженно ходил по залу.
В обращении ко мне он проявлял добрые, даже какие-то нежные жесты; рассказываешь ему что-нибудь, а он, полуслушая, гладит по волосам и тихо качает головой, отдаваясь своим мыслям.
Поздней прогремела фамилия Торопова, как председателя Союза активной борьбы с революцией;92 передавали ужасные вещи об этом изверге; обвиняли в убийстве Герценштейна93; передавали, будто он предложил свои услуги быть палачом; главное, цинично гордился этим. Торопова я презирал: он казался мне монстром.
Однажды в ресторане «Прага» (это было, вероятно, в 1907 году), проходя по залу, я увидел бывшего «старшеклассника» Торопова, оказывавшего мне столь большое внимание; он почти не изменился: те ж выпученные глаза, громкий голос, размашистые движения; я – к нему, нисколько не ассоциируя Торопова с «тем» Тороповым:
– Здравствуйте!
– Ну, как поживаете? – приветливо сказал я. На что последовал его ответ:
– Хорошо вам, поэтам, отдаваться песням, а вот на нас, политиков, кошек вешают.
Я, еще не понимая его, воскликнул с полной наивностью:
– Да с какой это поры вы стали политиком?
Торопов и политика – не увязывались в моем сознании: ведь я видел его то увлеченным математикой, то – поэзией; но на мой вопрос он захохотал, пожал плечами и, раздвинув руки, бросил громчайше; и – не без вызова:
– Как с какой поры? Да ведь я То-ро-по-в!
Тут только встал в сознании образ «монстра»; того Торопова, Торопова-палача, Торопова-убийцы, быть может; мелькнуло:
– Неужели ж тот Торопов – этот?
Я обалдел: он, глядя на меня и видя, вероятно, ужас, отразившийся на моем лице, продолжал смеяться, но в смехе выступил явный конфуз.
Я с болью ответил ему:
– Я… не знал…; жалею, что подал вам руку…
И, повернувшись, пошел от него, переживая муку: «того» Торопова ведь любил мальчиком; он продолжал, смеясь, на меня глядеть; и странно: скорее с грустью, чем с негодованием.
Мне говорили потом:
– Вы счастливо отделались: этот сумасшедший мог вас и пристрелить; у него всегда револьвер в кармане.
Кажется, вскоре потом он кого-то и пристрелил.
Другое, тоже горестное воспоминание: когда я был в первом классе, в нашей гимназии учились братья Карр; их было, кажется, четыре брата: один учился в нашем классе (во втором классе его уж не было); братья эти казались мне очень тупыми; наш Алоис Карр был чуть ли не последним учеником; кого любили все, и наш класс, и приготовишки, так это младшего брата Карр, «Сашку»; маленький, прыткий, веселый блондин с открытой душою, постоянно радующийся чему-то, проказничающий, но никогда не обижающий, этот маленький «Каррченок» пользовался всеобщей любовью; взрослые его тискали, сажали на колени, кормили конфетами; мы весело с ним принимались на переменах играть и бегать.
Скоро все братья Карр исчезли из нашей гимназии.
С какою болью впоследствии я читал страшные подробности убийства отца и матери извергом человеческого рода, Александром Карр; этим ужасным, прогремевшим на всю Россию «Александром» стал милый «Сашка».
4. Борьба за культуруПереход от двенадцати лет к пятнадцати переживался особенно тяжело, как и период от пяти до восьми лет; между лежат четыре года, окрашенные дружбою с мадемуазель Беллой Радэн; при ней пережил я и свой «триумф» гимназии, и более легкую жизнь дома; она была в курсе моих интересов вплоть до разыскивания мне книг для чтения.
В третьем, четвертом и пятом классе я деградирую как «воспитанник»; в глазах учителей я хуже учусь; в глазах товарищей я превращаюсь в «идиота»; и в соответствии с этим омрачается и атмосфера нашей квартиры; отец неумело проверяет мои знания, лишь отбивая меня от бессмысленного зубренья; но он не указывает мне выхода: не дает книг для чтения; я вкупорен в себя самого; у меня создается впечатление, что никто мне не может помочь.
Никому невдомек, что мои «неуспехи» от крупного «успеха»: от бурно развивающихся высших стремлений и запросов, которые я предъявляю знанию; оно должно быть культурой, входя органически; я теряю вкус к совершенно бессмысленному отсиживанию по шести часов в день, во время которых на объяснение уходит максимум полтора часа; прочие уходят на никчемное выслушивание того, как путают ученики и как путаются учителя в своем отношении к запутавшимся; никчемность сидения и зубрежки, мало сказать, что продумана мною; она, выражаясь языком философов, – интуитивно увидена: увидена насквозь и раз навсегда, после чего никакие логические доводы меня не подвинут к добросовестному выписыванию латинских слов и осмысливанию форм по традиции «Элленда-Зейферта»; ведь сам «Зейферт» увиден, как идиотская гримаса глумления над душою отрока, ищущего смысла, культуры.
Этой ясной истины, ясно мной пережитой уже в третьем классе, к великому моему удивлению, никто не понял; не поняли товарищи, движущиеся по классам верхом на репетиторах, не поняли преподаватели, не понял отец; вместо того, чтобы, переговорив с директором, освободить мне хоть день в неделю для личных культурных нужд, он, поахав, что гимназия уроками съедает время, предложил мне доедать себя, удвоив часы отсиживания за бессмысленным приготовлением к тому, к чему и нельзя подготовиться; ибо нельзя подготовиться к смыслу латыни, когда вместо этого смысла стоит тень министра Толстого, внедрившего латынь с сознательной целью: смысл обессмыслить.
Мой отказ от учения был именно моим «да», сказанным алканью подлинного учения; товарищи удовлетворялись «пятеркою»; я удовлетворился бы только системою знания; а эта система вырастала из организации моих собственных интересов, из роста их.
С четвертого класса я начинаю учиться у себя; и моя борьба с неправильным внедрением «ложной учебы» принимает вид настоящей революции: с организованным подпольем и с бомбами; решение себя обучить, минуя гимназию, минуя наш дом, крепнет после поражения с естествознанием; весь второй и третий класс я пропылал любовью к естествознанию и жаждою иметь соответственную литературу: я выковыривал из детских журналов и книг все, что носило отдаленное приближение к природе – к ботанике, к зоологии, к метеорологии; и, за отсутствием книг, я должен был с естествознанием разорвать; грустно признаться: имея такого отца, с такой библиотекой, заключающей Дарвина, Бэкона и так далее, я не имел дома естественнонаучной пищи; да, – не имел, потому что, во-первых, никто не принес мне в комнату Дарвина, а читать воровским способом я пока еще не умел (через два года уже умел!); во-вторых, какое ни иметь развитие, но факт останется фактом: «Происхождение видов»94 не книга для двенадцатилетнего; а Кайгородовы да Богдановы95 к третьему классу были мной высосаны, переусвоены; я их перерос; и позднее уже ни «Научные развлечения» Тиссандье96, мною взятые у отца, ни украдкой прочитанные «Умственные эпидемии» не вернули мне интереса, который был сломан.
Скажут:
«Почему вы открыто не заявили своих претензий»?
Ответом пусть служит все написанное в этой книге о том, как проблема открытости была переломана бытом нашей квартиры во мне с четырехлетнего возраста; чтобы заговорить открыто, нужно было произвести революцию всех наших устоев; я и заговорил открыто потом, когда выступил в открытую; открыть мне что-либо означало: взорвать подполье.
Пока копились силы для взрыва, я жил подпольщиком.
Потерпев крах с естествознанием, я повел иную политику с другой своей страстью, во мне разгоравшейся; эту страсть зажег Поливанов: он-то, собственно говоря, и был повинен в соблазнении меня.
Страсть, им вздутая, – живое слово во всех его проявлениях: поэзия, художественная проза действовали электрически; проблемы, связанные с эстетикой, вплоть до философии искусства, казались поданными природой моей, им мне во мне открытой; а между тем: жажда не могла насытиться; среди огромной залежи отцовских книг не было художественных; книги матери, среди которых были Гоголь, Шиллер, Алексей Толстой, Фет – на запоре: мать никому не давала их, боясь, что ей перепортят ценные переплеты; я тянулся к классикам; а откуда их достать? Их сознательно не давали, мотивируя тем, что классики не уйдут, а вот уроки готовить надо.
Я изгрыз (перечитал и перепрочитал) художественные отрывки хрестоматий Поливанова; они раздразнивали меня; в третьем классе я пережил упоение Пушкиным, а Пушкина знал по отрывкам.
Что было делать?
С четвертого класса я превращаюсь в дрянненького воришку, снедаемого страстью к художественной культуре, украдкой вытаскивая из запертого шкафа матери и из комнаты отца все, что имело хоть какое-нибудь отношение к моим интересам; прочитаны: Диккенс, Гоголь, весь Алексей Толстой, Лермонтов, Майков; одно время я увлекаюсь поэзией Алексея Толстого; но, одолев «Дон Жуана»97, начинаю понимать, что он – вялая дрянь; с пятого класса к художественному интересу присоединяется интерес к чтению вообще: к сериозному чтению; с этого времени я – тайный посетитель кабинета отца; сколько и дряни, и книг, малопонятных для моего возраста, одолел я, начиная со Смайльса; я читал «Физиологию ума» Карпентера98, не имея никакого представления о физиологии, и дрянную книжонку Аллана Кардэка «Ла женез дю спиритизм»;99 и я уже присвоил себе тайное право рыться в «Вопросах философии и психологии» за ряд лет.
Странное, беспочвенное, бессистемное чтение!
А те авторы, которые были мне по возрасту, как Толстой, Гончаров, Тургенев, Пушкин, Белинский и так далее, отсутствовали; и я вынужденно питался официальным чтением, приносимым отцом для матери из клуба; градация томиков Генри Уд, Коллинз, Вернера, Ожешко, Марлитт, Золя и Бурже заглатывались в эти годы, не удовлетворяя нисколько; из месяца в месяц росла жажда чтения классиков, эстетиков, философов искусства, историй литератур; от этого круга чтения я был отрезан.
С шестого класса в мой художественный горизонт врывается волна новых имен: Гауптман, Бодлэр, Мередит, Рэскин, Уайльд, Вэрлен, Ницше, Ибсен (и другие); кое-чем раздобываюсь я в квартире Соловьевых; это крохи по сравнению с моей потребностью; я твердо знаю: гимназия – ничто; самообразование наперекор гимназии, отцу, быту, вкусам – все; не просто самообразование по шпаргалке, а удобрительный материал для того, что я сам в себе образовал; в гимназии уроки Льва Ивановича провоцируют, как ни странно сказать, послать к черту режим уроков.
В четвертом классе Николай Келлер, один из зубрил (ограниченный юноша), изобретает затею: он будет издавать художественный журнал; я даю ему «художественный» отрывок в прозе, написанный в один присест; отрывок приводит в изумление Келлера, который заявляет: его репетитор нашел в нем присутствие незаурядного таланта; я – горд; выходит первая тетрадка журнала; что же я вижу? Вместо лапидарного отрывка (странички в полторы) – шесть страниц вялой сантиментальности, где фигурирует и «очаровательная ночь» и «очаровательное пение соловья». В чем дело? Оказывается: Николай Келлер с репетитором, вдохновленные моим отрывком, к нему приложили руку; я, тихо ахнув, не осведомлялся о журнале. Моя реакция на все: тихо ахнув, убиться в молчании.
Но, тихо ахая, я противополагаю бессмыслице свою борьбу за культуру; и в этой борьбе скоро перехожу грань дозволенного.
Забегая вперед скажу: настал роковой день, когда я, не сообразив последствий моего поступка, переступил черту; был мерзкий осенний день; сеял дрянненький дождик; как-то особенно не хотелось в гимназию; я пошел крюком; оказавшись на Сенной площади перед читальней Островского, я сказал себе: «Не случится ничего дурного, если я опоздаю на два глупых часа, ознакомившись с каталогом читальни». В каталоге оказались «Северные богатыри», «Гедда Габлер», «Нора» и «Праздник в Сольхаузе» Ибсена;100 я спросил себе «Северных богатырей»; сел, открыл книгу: погиб! Ибсен – разрыв бомбы во мне; вместо двух часов я прочитал Ибсена шесть часов, чего-то не дочитав; стало быть, следующим утром я опять не попал в гимназию; дочитав Ибсена, я начал «Преступление и наказание» Достоевского; читатели понимают сами, что вернуться в гимназию, не дочитав романа, нельзя; но в день, когда я кончил роман, я начал «Идиота»; посещение гимназии отсрочилось до окончания чтения главных романов Достоевского; но тогда начался Тургенев; я действовал, как сомнамбула; прекратить посещение читальни не было уже никаких сил; раз «преступил», надо было использовать «преступление»;101 повторилась сказка о тысяче и одной ночи с тем различием, что это была сказка пятидесяти дней, во время которых я просиживал по шести часов за неотрывным чтением; тоска лет по художественному питанию удовлетворялась; я похудел, стал зеленый от переутомления, глаза мои лихорадочно блистали от разрывавшего художественного потока, сладкого и гибельного; гибельного, ибо на что же я шел? Дома меня встречали, как возвращающегося из гимназии; а на вопрос «кто спрашивал» я буркал что-то невнятное, стараясь не мучаться от стыда и раскаяния; а впереди ждал вопрос уже в гимназии:
– Где вы пропадали?
Я с неделю обдумывал, как мне вывернуться. Не было никакого выхода; во всем признаться? Меня б не поняли: до сих пор преступление утайки еще было переносно; наступил момент, когда оно жгло, как пламя, ибо я написал своею рукой записку от якобы матери к надзирателю: отсутствовал-де по болезни.
И этот «подлог» – адское пламя, на котором я горел целый год; в оправдание себя скажу: муки совести превысили преступление, совершенное во мгновение ока; и – в безвыходном положении; положение создавалось пылкостью любви к «художеству»; тем не менее: страдал я ужасно; страдая же, знал: результат преступления перерастает вину; пятьдесят дней, отделяющие невинность от убийства совести, переродили до основания; и хотя я чуть ли не сошел с ума от разрыва впечатлений, они, утрясываясь полтора года, сковали меня в вооруженного опытом и самосознанием мужа. Подумайте, что я осилил сразу: Ибсена, Гауптмана, Зудермана, всего Достоевского, всего Тургенева, Гончарова, «Фауста» Гете, «Эстетику» Гегеля, ряд поэтов («Вечерние огни» Фета, Полонский, Пушкин,
Некрасов, Надсон); я перерыл ряд современных журналов, читал «Северный Вестник»102, открыл Сологуба и Бунина, мне неизвестных, читал Гиппиус; и из ряда проглоченных статей выработал сознательную программу чтения; присоединившиеся в скором времени к моему чтению Шопенгауэр, Белинский, Рэскин плюс моя работа над ними наложили отчетливое клеймо на формирующееся мировоззрение; на этом клейме было выгравировано: «символизм».
Я стал символистом ценой убийства Авеля; «Авель» во мне чистота совести; пятьдесят дней, отделившие меня от меня же, превратили в Каина; и двенадцать месяцев потом Каин, убийца совести, томился тоскою и страхом; но если бы ему предложили повторить этот опыт с «обманом», он, ужасаясь вдвойне, его бы повторил, ибо в обмен за чистоту риз он получил культуру: ведь Каин, не Авель, – ее творец.
Я не стану описывать драматическую эпопею того, как «Каин» томился; и как открылся обман; что произошло между ним, отцом и директором Поливановым; это – сюжет драмы, которую некогда я хотел изобразить в повести «Преступление Николая Летаева»; но первая глава, «Крещеный Китаец», разрослась в повесть103; повесть не была написана; в биографии, живописующей генезис «рубежа» во мне, ей тоже не место, как драме, слишком драме; и драме, написанной в ибсеновских тонах.
Здесь должен сказать: я не просто знакомился с драмами Ибсена, рисующими схватки между двумя формами долгов: «ты должен для других» и «ты должен во имя» стремления, тебя распинающего; я, читающий драмы Ибсена, сам был героем одной из ибсеновских драм; оттого-то они меня до такой степени вывели из себя, что некоторое время я развивал фантазию: тайно бежав в Норвегию, добиться того, чтобы быть принятым в дом Ибсена в качестве его лакея.
В этой мысли о «лакействе» изживала себя потребность послужить в изгнании тому, кто углубил мне взгляд на драму жизни; эта фантазия пылала в моей душе в период неоткрытости моего преступления; я думал:
«Когда все откроется и я покрою себя несмываемым позором перед директором, родителями, знакомыми и друзьями, я бегу, чтобы в услужении „для другого“ смыть пятно позора, которым я себя замарал».
И в чистке ибсеновских башмаков изживала себя мистерия омовения Каином ног того, кто его подвинул на убийство.
Читатель, – это не шутка!
Не оправдывая себя и горько каясь, я ставлю вопрос и с другой стороны: скажите мне, что же это за быт, где возможны такие нелепости и где действующие лица – носители высших стремлений и высшей культуры? Я, шестнадцатилетний «преступник», – чистый юноша, краснеющий от женского нескромного взора; и – добрый юноша, не способный убить вороны; одушевляющие меня стремления – прекрасны; и знай их Поливанов, он бы воскликнул со свойственной ему эмоциональностью:
«Прелесть какие!»
Действительно: я углубился в Гегеля, в Рэскина, меня ждут Шопенгауэр и Кант; я пишу для себя длиннейшее исследование о природе красоты104, стараясь выявить отношение между понятиями «идея», «тип», «символ»; я уже очень образован (не довольствуясь «идеализмом», читаю Уэвеля и Милля); образован, добр, пылаю сочувствием к добру и свету: не пью, не курю, не развратничаю, не переношу пошлости.
А я… преступник; и главное: соблазнитель мой, взманивший на путь преступления обострением жажды к «художеству», – сам Лев Иванович, невольное действующее лицо драмы, в которой я – герой.
Третий участник драмы – отец: чистый, прекрасный человек, весьма понимающий мои умственные запросы, ибо мне подкладывающий Милля, но не понимающий, что запросы шестидесятых годов уже не запросы девяностых; отец, видящий бестолочь «толстовской системы» громленья мозгов и с нею уже борющийся, подготовляя кампанию за естествознание (против министерства), и все же стоящий за то, чтобы я себя этой системою догвоздил; и ради этого лишающий меня правых эстетических потребностей, не умеющий расколдовать во мне скрытность, которую маской ко мне пришили с четырех лет; ведь преступление Каина – итог быта: итог двенадцати лет ужасного коверканья родителями себя, своих отношений друг к другу, перекрещенных на мне.
Повернув историю моего «преступления» под углом борьбы двух столетий и страшного провала критериев жизни высшей интеллигенции, ведь, пожалуй, и не найдешь «преступников», наткнувшись на исторический рок.
Мне от этого – не легче, ибо «преступника» в себе переживал я год: денно и нощно; конечно, я вышел из опыта ужасного и прекрасного года (прекрасного, ибо мир культуры стоял предо мной невероятным ландшафтом будущего), с твердым решением: не повторять «преступлений» подобного рода; совесть моя окрепла, но окрепла на разглядывании все же кривого поступка, и все же поступка, совершенного мной.
В преступление «воспитанника Бугаева» были посвящены три лица: воспитанник, профессор Бугаев и Лев Иванович; знаю, что у отца и у Льва Ивановича был разговор обо мне; не знаю содержания разговора; оба по-разному убили меня; отец – взрывом горя и ясным прощением; а Лев Иванович – изумительным благородством; два месяца он был со мной подчеркнуто нежен; и слышалось в тембре обращения:
«Ничего, ничего: не горюйте, Бугаев».
Он вызвал во мне взрыв моральной фантазии; я, глядя на него, как бы произносил клятву; он как бы молча принимал ее.
Но, приняв, он жестом дал мне понять, что ему все известно.
Должен закончить описание этой драмы «осанной» благородству и тонкости педагогического таланта этого человека, когда он действовал от сердца к сердцу ученика.
Описывая трагический случай, венчавший борьбу за культуру мою, я заскакиваю: он – финал лет, которые озаглавил бы: «Путь от триумфа к позору»; но генезиса той или иной темы нельзя выдержать только в хронологическом порядке, не превратив биографии в крап фактов, весьма интересных для автора, но не для читателя. Пока совершались процессы вырождения из домашнего и гимназического бытов и процессы «врождения» в то, что мне стояло, как ренессанс, я отдавался ряду невинных и разрешенных переживаний; как ни была мрачна моя жизнь, я, и страдая, не терял жизнерадостности, сквозь все пробивавшейся; ослабевало страдание в том или ином участке сознания, – мгновенно участок начинал процветать; и я процветал любовью к Малому театру, к Ермоловой, к Садовским, к Гореву, к пьесам Островского; не было момента, когда бы я бросил свою игру [Смотри в предыдущей главе]; в 1893 году мы жили на даче в Царицыне; тут настигло меня увлечение девочкой, Маней Муромцевой (дочерью С. А. Муромцева), с которой я познакомился на даче Вышеславцевых105; очень хорошо помню отца ее, Сергея Андреевича, еще чернобородого «красавца», как его называли тогда, а вовсе не «председателя Думы»;106 с той поры периодически возникает его жена М. Н. Муромцева, с которой встречаюсь я в самых разнообразных местах до шестнадцатого года (в «Эстетике»107, у нас, на выставках, в Кружке108, у Кистяковских и даже у теософов); помнится Царицынский парк, моя беготня с детьми Давидовыми; и та же четверка Лопатиных, сменивших Демьяново на Царицыно, устраивавшая парады прогулок на удивление дачникам; помнятся соседи по даче, шумные барышни Орешниковы, с которыми я впоследствии не раз встречался, а с Верой Алексеевной (женой писателя Зайцева) и дружил: В. А. была очаровательная белокурая розовая барышня (всегда в розовом платье), к которой я чувствовал почтительную… почти влюбленность.
Из Царицына я привез страсть к танцам; и увлечение ими длилось весь третий класс, когда я учился танцам у двух учителей сразу: у Тарновских (по воскресеньям) и у Вышеславцевых (по субботам); у Тарновских я постоянно встречался со стариком бароном Корфом; у них же я видел Южина-Сумбатова, которого обожал за Мортимера в «Марии Стюарт»109, и В. И. Немировича-Данченко; а у Вышеславцевых мне запомнился Крестовников (будущий председатель Биржевого комитета).
Увлечения танцами были летучи: вспыхнувши, отгорели, сменясь увлечением фокусами, которые я проделывал с таким совершенством, что ужаснул свою суеверную бабушку; за фокусами вынырнула страсть к акробатике, в которой я был тоже горазд; пойди я по этому пути, я очутился бы в цирке; я потрясал ту же бабушку тем, что мог, поставив друг на друга четыре стула, на них взобраться; и, стоя под потолком, держать горящую лампу на голове, что мне запретили; я проделывал курбеты и на трапеции; помню, что в Кисловодске я прельщал барышень, раскачиваясь и не держась руками за веревки; за акробатикой последовала страсть к костюмам; я выдумывал разные стильные костюмы из домашних пустяков; и начинал поражать воображение матери, вдруг появляясь в костюме английского пэра эпохи Елизаветы; мать восклицала:
«Совсем, как в Малом театре!»
А я, поразив воображение, удалялся, чтобы предстать пред ней «Мавром» или Германом из «Пиковой дамы», весьма поразившей меня;110 эта страсть к «маскараду» скоро нашла богатую пищу, когда в соловьевской труппе я стал всеми признанным и всеми оцененным костюмером;-когда мы ставили «Два мира» Майкова111, то режиссировавший Михаил Сергеевич Соловьев не вмешивался в мои функции; и их одобрил «спец» Владимир Михайлович Лопатин, присутствовавший на представлении.
Но под всеми этими играми разыгрывались иные игры; мои игры про себя, верней, опыты «остраннения» атмосферы, сперва тайные, потом разыгрываемые, как мифы и «гафы» (уже студентом); впоследствии Брюсов отметил в «Дневниках» след этих «гафов»112: «Бугаев заходил ко мне несколько раз. Мы много говорили… о кентаврах. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий монастырь. Как единорог ходил по его комнате…»113 Или: «А. Белый разослал знакомым карточки (визитные), будто бы от единорогов… Иные смеялись…, а Г. А. Рачинский испугался, поднял суматоху по всей Москве. Сам Белый смутился… Прежде для него это было… желанием создать атмосферу, – делать все так, как если бы единороги существовали»114 (В. Брюсов: «Дневники», стр. 134).
По носу критикам, доносящим на меня за «мистику»; и в эпоху записания «Дневников», и гораздо ранее, будучи шестиклассником, будущий Белый весьма старательно упражнялся в «как будто» в стиле собственных макетов собственной студии символизирования, источник которой – игра, а не вера: то, что Шкловский называет принципом «остраннения»; и Брюсов понял с первого мига встречи, что постановка «Атмосфер» великолепно уживается в Белом с критицизмом, Кантом и интересом к «Основам химии» Менделеева; тринадцатью страницами ранее тот же Брюсов записывает: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии»; пропускаю слишком лестную для себя фразу; и – дальше: «Зрелость… ума при странной молодости» («Дневники», стр. 121) 114.
Брюсов с первого мига понял, что мои символизационные упражнения, захватывающие не только «словесную фразу», но и «переживание» (индивидуальное и социальное) отстоят за тридевять земель от вер в мистическую «кошку серую», которыми порой так страдал в юном возрасте Александр Блок, бессознательно провоцируя меня к философским вопросам ему (в письмах), шуткам с выдуманным нами «Лапаном»115, постановочным макетом «остраннения» быта, чтобы выведать, в чем же корень его «Прекрасной дамы»; главное: право устраивать студию нового быта Белым оформлено отделом «Арабесок» под заглавием «Творчество жизни»116, то есть претворения переживаний, подчиненных стилю; как тщились создать стиль мебели, так юный Белый тщился в великой предерзости своей создать новые атмосферы переживаний под флагом «игр»117, – то самое, что Валерий Брюсов выметил в своих юных строчках:
Я сделал снег из лепестков118.
Но эти мои стилизационные игры идут из моей детской игры, «своей» игры, корень которой – в перелаживании предметов быта в знаки чего-то иного, еще искомого; из этой «игры» и выветвлялись все иные игры: и в «костюмы», и вот во что: прочитав «Эстетику» Шопенгауэра (третья часть «Мир, как воля и представление»), я пленился идеей Шопенгауэра о непосредственной возможности «увидеть идею»; и я каждый день останавливался на прогулке перед, например, домом: и зрительно учился увидеть стилистическое целое его формы (безотносительно к улице, нелепым вывескам), как нечто основное; я считал, что вижу «идею» дома, когда это удавалось; позднее с юным С. М. Соловьевым садились мы на бульваре, и я, наблюдая прохожих, силился увидеть «идею», то есть нечто типичное, чтобы мгновенно сымпровизировать фамилию, выражающую сущность прохожего; я восклицал:
– Вот идет Соня Алова с мисс Мак! Проходила девочка с гувернанткой. Раз я воскликнул:
– Фетюков!
И услышал в ответ:
– Здравствуйте!
«Фетюков» оказался знакомым С**; я так увлекся его типом («идеей»), что не узнал в нем знакомого.
Что это – «мистика» или студия наблюдений?
Свои разглядения я называл созерцанием «идеи»; в этой ошибке в выборе слова я повторял лишь почтенное заблуждение Гете, уже взрослого, спорящего с Шиллером о том, что идею «перворастения» можно узреть119.