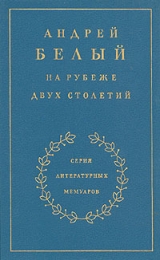
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Мать отзывалась с улыбкой о нем:
– Вот Иван Иванович, – тот настоящий «бэль ом»;40 и не докучает наукою; знает всему свое место.
О веселье, изяществе и баловстве сего почти «очаровательного» и еще почти «молодого» профессора просто легенды ходили; им все увлекались; и появлялся он всюду с изящною, маленькой милой женой; и очень любил катнуть невзначай из Москвы в Разумовское, где проживал он; можно сказать, в эти годы почтенный профессор шалил и играл, как котенок резвящийся; и Т. Л. Щепкина-Куперник, о нем вспоминая, опять-таки отмечает иванюковскую тему: «Жизнь кипела… Веселились, как дети, вдруг увлекаясь игрой в мнения или в фанты…, получались такие картины, что, например, почтенный, корректный профессор политической экономии Иванюков лез под стол и лаял оттуда собакой…»41
И совершенно такие же воспоминания матери; бывало, я слышу:
– Были у Ивана Ивановича… Он – голову скосил, подлетел, подшаркнул и сию же минуту со мною – в мазурку.
И когда Иванюков появлялся у Стороженок, мы, дети, кидались к нему, на нем висли; помнится, как мы однажды попали к Иванюковым на праздник (дети Стороженки и я), потому что дочь Ивана Ивановича, Женя, была нашей приятельницей; мы пришли в неподдельный экстаз; и поставили вверх дном всю квартиру; не помню уже, по какому случаю я, путаясь в красном халате Ивана Ивановича, выделывал пресмешнейшие вещи; даже жена его с ужасом глядела на нас; сам же Иван Иванович, чистый младенец, сощурив свои добродушные глазки, подмигивал нам, подкартавливал (он чуть картавил), подщелкивал; и себя чувствовал в собственной сфере.
Позднее лишился он кафедры; кажется, что из Москвы переехал; еще позднее я, отрок, встречал его в санатории доктора Ограновича, где кончали мы лето;42 там жил Михайловский (уединенно), рассеянно, издали как-то, перебегая; и – точно прячась в кусты (там стоял домик маленький: в нем отдыхал он); и наезжали жившие где-то рядом Иванюковы; Иван Иванович наружно весьма изменился; стал сед; борода его выдалась седеньким клинушком; лысинка маленькая обозначилась; ходил во всем белом, в какой-то заломленной шляпе, полупанама; но был он таким же веселым, невинным, весьма добродушным; и говорили все так же о нем:
– Посмотрите, – одет, как картинка!
Шутил, как картинка, ходил, как картинка; писал – не картинно: весьма жидковато; и – скучно.
Мои представления о Стороженках: они – настоящие окна в Европу; из окон их к нам появляются: Иванюковы – и Янжулы, иль – «европейцы».
Хотя Янжул жил рядом, хотя слышал его за стеной каждый вечер (оттуда бубухало глухо: «Бу-бу!»), все ж казалось, что от Стороженок является он; и понятно: Иван Иванович Янжул есть «крестный» Марусин; Маруся же – моя приятельница (дочь Н. И. Стороженки); и с Янжулом многие мне стороженковские воскресенья связались.
И. И. Янжул есть тоже в Европу окно: англичанин; и явственно в нем намечаются желтые баки, и ходит во всем полосатом; и утверждает, что в Лондоне все хорошо, а в Москве – все прескверно.
Нечасто являяся к нам, он бубухал у нас за столом (как из бочки); шутил со мной грубо; и грубо затеивал игры у Стороженок он с нами; бывало, на елке сорвет он игрушку; и к нам:
– Дети, кто шкорей эту куклу поймает, тому она будет принадлежать.
И бросал куклу нам, точно кость жадным псам; и как псы разъяренные, с ревом, друг друга тузя, мы кидались; л дикие страсти разыгрывались; он нам половину игрушек, висящих на елке, как кости перебросает; и после, все красные, дикие и озлобленные, мы сидим и косимся на «ловкача», обобравшего всех.
Нелюбовь моя к Янжулу началась из-за этой игры: тихий мальчик, весьма деликатный, пинки давать я не умел; и поэтому из-за Ивана Ивановича без игрушек сидел; возвращаюся с елки; мать спрашивает:
– Что получил! А я – в слезы:
– Иван Иванович Янжул обидел.
И кто-то по этому поводу с возмущением высказался:
– Что за грубое животное: разве можно с детьми так! Что «грубое животное», это я понимал: как-то раз, уж не знаю как, к Янжулам я попал, то есть за стены квартиры; и оказался Иваном Ивановичем схваченным; он, сидя в качалке, весьма бултыхался ногами; ручищами шею мою обхвативши, притиснул к себе, бултыхаясь в качалке, – так больно притиснул: едва не задохся я. Встретит на лестнице, – сейчас пристанет:
– Вот, на-ко, Бориш!
И сует в руку гривенник:
– Вот тебе: ты накупи, брат, себе леденцов.
– Нет, спасибо, Иван Иванович, мне запрещают брать деньги от посторонних.
И думал:
«Он – грубый мужик!»
Появлялся он с Екатериной Ивановной Янжул, весьма некрасивой, и бледной, и маленькой, с кашею во рту и в пенсне; говорили: ученая женщина; и покровительствует школе кройки, шитья; и поэтому в доме у Янжулов все какие-то молодые девицы из школы кройки.
На Янжула я с опасением поглядывал: громкий, огромный, и толстый, и косный; А. Н. Веселовский – надутый; проткнешь – оболочка (какая-то кляклая); Янжула, нет, не проткнешь; будто выточен весь из карельской березы; пудами теряет мяса свои, вновь потом их наедая; и с громкою силой колотится по вечерам в стену к нам; и мы знаем уже: выбивает он пыль перед сном ради для моциона. Весь желтый, такой желтокосмый.
– По штатиштичешким данным… в Лондоне – только и слышится:
– Как, Иван Иванович, здоровье?
– По штатиштичешким! Глух!
Мне от буханья Янжула дымом серейшим несло; и мигрень начиналась; атмосферическим явленьем каким-то, как гром, я считал его голос застенный…
– Гром – скопление электричества…
И я думал, что голос его – нагнетание электричества: душит и парит, как перед грозою.
Хоть соседями мы лет семнадцать считались, он издали как-то по жизни прошел; раз в Демьянове, где проводили мы лето и где все сближались, снял дачу: опять рядом с нами;43 и здесь он прошел вдалеке; одно помню: ходил он в наушниках44.
У Янжулов часто Толстой бывал45, заходя к нам, но изредка: хлопотал за кого-нибудь: папа деканом ведь был; и приходили: просить за студентов.
Отчетливо помню: мне – года четыре; сижу на коленях; и – пальчиком бережно за пылинкой снимаю пылиночку я с сероватых штанов; вижу: из-за плеча серый клок бороды протянулся, густой и щекочущий щечку; и голос, казалось, что плачущий, мягкий, но громко-отчетливый, как у Танеева, что-то доказывает; а отец потирает руки; и – чем-то доволен; и – слышится:
– Лев Николаевич!
Я знаю уже, что тот серый уверенный бородач – Лев Толстой; кто такой Лев Толстой, я не знаю; и думаю: звание это, иль должность почетная; про Льва Толстого я слышал уже весьма часто; и – вот он: снимает с колен, поворачивает; я стою меж колен, с удивлением видя такую огромную бороду; эдаких я никогда не видывал!46
И другой раз я помню его еще в детстве.
Отца – дома нет, мать моя – разбирает белье, чтобы прачке отдать; на полу ряд салфеток и грязные скатерти; резкий звонок; кто-то спрашивает отца: отказали:
– Кто?
– Да так какой-то, седой, из простых.
Мама вдруг как сорвется в переднюю; выскочила к перилам; и слышу, – кричит она:
– Лев Николаевич, а вы меня не хотите и видеть? Смех мягкий и старческий:
– Нет, отчего же! Мать переконфузилась:
– Нет, не сюда, тут белье разбираю я.
Но Лев Толстой настоял, чтоб она продолжала белье разбирать; и – вошел: и сел рядом; я тотчас же соединил этот образ с тем, в памяти жившим; и сразу заметил, что серая борода стала белой совсем, поредела она и уменьшилась; уже не в штатском – в толстовке; сидел, засутулясь пред матерью; и ей о смерти доказывал что-то; и мать утверждала потом, что тех слов не забудет; любила Толстого; и все вспоминала, как вскоре же после замужества, когда выглядела она девочкой и жалась к стенке, у Усовых собрались все они; вдруг – Толстой; обступили его и прислушиваются, что скажет; а мать – не представили: не до нее; Толстой слушает их; вдруг глазами нащупывает мою мать и довольно сурово рукой отстраняет кого-то, к нему прилипающего:
– Нет, – позвольте!
И – к матери; мимо профессоров:
– Нас забыли представить: Толстой. И протягивает ей руку.
В этом круге же помню П. Д. Боборыкина и сухую, худую, больную, утонченную Софью Александровну, супругу его; Боборыкин был лысый, такой же; но был – желтоусый, а не седоусый, худой и багровый; высокий, весьма подвижной, он вертел головою на тонкой, изгибистой шее с такой быстротой, что казалось: отвертится; вспыхивал, вскакивал с места, руками хватаясь за кресла; и снова садился, чтоб снова вскочить и – стать в позу, одну руку спрятав за желтый пиджак (ходил в желтом он), головой и спиной закинувшись и наставляя лорнет на глаза, вооруженные, если память не изменяет, очками.
Он любил уговаривать мать стать актрисою:
– Артистические наклонности, а – тут дом, быт и прочее…
И кончал панегириком западу, эмансипацией женщины или колкостями по адресу В. И. Танеева.
– Это потому, – усмехался Танеев, – что года три назад Боборыкин подходит и спрашивает: «Ты читал мой последний роман». Ну, а я отвечаю: «Должен тебе заметить, что я никогда не читаю тебя…» С тех пор он и ругается… Кто же, кроме болвана безмозглого, станет читать Боборыкина.
Все эти и многие прочие личности (не перечислишь их!) к нам появлялися через окно, прорубаемое из Москвы Стороженкою и Веселовским. И дом Стороженок встает предо мной, как типичный для этого круга людей возрождения (не-«математиков»); в нем я учился разглядывать кариатид гуманизма; и – кроме того, в нем учился играть я с детьми. Я ведь был одинок: не умел разговаривать; даже играть не умел, как другие (играл я по-своему); у Стороженок учился я играм.
В одном отношении я перерос своих сверстников; ну а в другом – недорос: Коля, Саша, Маруся уже твердо знали, с кого что сорвать и кого как использовать из «знаменитостей» для нужд их детской: утилитаристы! Уверенно, требовательно срывали с гостей прибаутки, гостинцы и нужные игры; чуть что, – подавай взрослых нам; и Федотову тащут смотреть на убогое детское представление, и Склифасовского, Николая Васильевича, так завертят, что он и не рад. И их все одобряли за это; и даже от них потерпевшие; только и слышалось:
– Что за дети!
– Премилые крошки…
А я, – я боялся всего: и гостинцев срывать не умел, а чтобы затеребить Склифасовского или там Янжула, – скорее броситься в воду, чем эдакое позволить себе; это все оттого, что Маруся и Коля рассматривали Ивана Ивановича Янжула просто, а я – с разглядами, с критикою; в выявленьях же внешних, и пятилетним став, выглядел, точно трехлетний.
И шли уже «при»; были партии: кто говорил:
– У Бугаева, у Николая Васильевича, – Боренька-то: замечательный мальчик!
– У вас замечательный мальчик, – Танеев, суровейший критик нас всех, говорил.
То же самое утверждал старичок, мной любимый, Буслаев; и я, слыша это, не мог понять, что они видят во мне.
Не знаю, чем был: разве вот – «рубежом» двух столетий, таящимся бунтом, уже «декадентом» (словечка такого еще ведь и не было); до «декадентства» я стал декадентом; и до «символизма» я стал символистом; явления, связанные мне с последним, я встретил позднее гораздо, как… возвращение переживаний младенчества, но по-иному совсем (не они мной владели, а я владел ими, как «символами»); вероятно, для многих несло от меня «символизмом»; но «символизм» восприятий моих заставлял говорить их:
– Особенный мальчик.
А большинство обособленность мальчика воспринимали иначе (я знал, что другая есть партия):
– У Николая Васильевича растет сын – идиотиком!
– Несообразительный!
– Посредственный!
– Глупый!
Такие слова раздавались; и знал я, о ком они; и противополагался мне Юрочка Веселовский, «талантливый» мальчик: стихи пишет, спич говорит!
Общественный голос я чувствовал; и за него уж хватался, поддержки ища, но – без слов; голоса «за» и «против» росли, углублялися: в детстве, отрочестве и юности, пока не лопнул в скандал тихий Боренька, став в один день декадентищем, Андреем Белым. Подозревали меня, не любили уже инстинктивно: Лясковская, Янжул; и многие у Стороженок; у Усовых чувствовал дома себя; Павлов, Умов, Буслаев, Лопатин-старик (отец Л. М. Лопатина, очень меня не любившего) – те вот друзья; очень странно: «отцы» не любили, а «деды» любили меня. И В. О. Ключевский с лукавой приязнью поглядывал.
Я, судьбой вскинутый на почтеннейшие колени, приглядывался к тем, кто меня сажал на колени; я чувствовал: сажающие суть мой будущий фатум; и хочешь не хочешь, – по-ихнему взвоешь; вот вырасту; добрые «дяденьки» учителями мне станут; и буду надолго при ком-нибудь я состоять, как Лахтин при отце; стороженковским детям то все невдомек; они думают больше о яствах; а я уж задумался над всею будущей жизнью; поэтому-то теребят Склифасовского; а я уж знаю: затереби-ка я милейшего Витольда Карловича Церасского, мило мигающего; он – покажет когда-нибудь, на государственном экзамене вспомнит:
– Не вы ли, Бугаев-студент, теребили меня? И – провалит.
Как будто предчувствовал я: эти милые все знаменитости, рой гуманистов, меня соглашающихся приласкать, вдруг суровые, грозные, яростные, указуя десницами на меня, отдадут свой приказ:
– Без сожаления!
5. Николай Ильич СтороженкоСтороженковские воскресники – «файф-о-клок»; стол гудит разговором; и фрачник приехал: сидит в белом галстуке; дети, мы, – ерзаем: стибриваем со стола леденец, или бублик; иль хвостик бумажный стараемся к фалде пришпилить; возможно здесь все; Николай Ильич нас поощряет к проделкам; на нас повернет толстый, сизый свой нос; и, склонивши огромную лысую голову, напоминающую мне кулич, обрамленный каштановой, почти черной, курчавою бородою, по бородавке ударит пальцем; и после подщелкнет мне:
– Ах ты, кургашка! Ах ты, бранкукашка!
У Николай Ильича «бранкукашки» ведь все: дети, дамы хорошенькие; что понравится, то – «бранкукашка-кургашка»; не страшно мне, – весело у Стороженок; я очень люблю Николай Ильича; глазки малые, карие, мне добродушно подмигивающие; если бы даже шалить не хотел, спровоцировали бы ему самому хвост бумажный пришпилить; хвостик нащупавши, лишь пробормочет:
– Кургашка!
И, даже, привставши, сутулый и грузный, средь нас он отплясывать будет, помахивая синей курткой кургузой, с которой свевается хвостик бумажный, и петь грубым басом средь визга довольных ребят:
– Ша-ша-ша: антраша!
Эти «шашаша-антраша» знаю я (тоже «словечки»); мы, бывало, повизгиваем; Николай Ильич, пересекая столовую из кабинета со свечкой в руке, пробирается; на толстый нос нацепил он пенснэ; лента черная свисла; проходит средь нашего визга, вполне машинально поревывая: «Шашаша-антраша». – Походка подпрыгивающая; точно на спину под куртку мешок запихал: пресутулый; и есть что-то мне в Николай Ильиче от рождественского, добродушного дедушки (возрастом тоже скорее мне «дед»)47.
В «бранкукашках» ходили мы у Стороженок – я, Коля, Маруся и Саша, почти до студенчества; Коля и Саша поздней обозначились, как «бранкукашки» бедовые; уж и делов натворили (сквернейших!); лучше бы не были мы «бранкукашками», чтобы старик этот, уж перед смертью заброшенный и одинокий, не лил слез, дверь притворив в кабинет; гости не видели слез уважаемого «апостола» гуманизма: видела дочь.
Это все началось, когда Ольга Ивановна, мать «бранкукашек», скончалась;48 весь дом был на ней; с ней считались; высокая, очень красивая, стройная и порывистая, мне сочетаньем являлась она темпераментных увлечений со строгостью здравого смысла и бурных стремлений.
Она умерла; «бранкукашки», из деток, из крошек, в отчаянных безобразников переродились; Маруся одна оставалась Марусей; кабы не она, что бы сделалось с Николай Ильичей?
В восемьдесят четвертом году он казался уютным и сказочным; в девяносто четвертом уже он казался мне тряпкою; в девяносто шестом вспомнил я выраженье отца: «Болтуны!» Но чем был и остался навеки: добрейшим, мягчайшим, ни на кого не сердящимся, иронизирующим; дар иронии был в нем; иронизировал он над гостями, над собственным домом, над… собственной позою.
Да, он – позировал!
Он был среднею равнодействующей либералов-словесников; и его «николай-ильичевское» слово имело особенность выглядеть статистическим выводом мнений других, преподносимым ходульно, закрученно, убежденно; он долго молчал; и выслушивал; выслушав, хитро итог подводил; подведя же, лансировал; скажет, – и Гольцев, Чупров, Милюков, Веселовский, Максим Ковалевский, имеющие несогласья друг с другом (лишь в частностях), с ним согласятся; с воскресника слово «крылатое» распространится:
– Сказал Стороженко!
– Вы слышали, что Николай Ильич выдумал? Вовсе не выдумал, – выслушал; выслушав, сообразил,
все учтя, обезличил до «в общем и целом»; и Гольцеву, Иванюкову, Якушкину – Гольцева, Иванюкова, Якушкина ловко вернул, щекотнув самолюбие каждого; этот процесс обезличения шел под флагом высказывания «великого» Стороженки.
Безвольный, как тряпка, весьма легковесный, но хитрый и да – остроумный порой; в отношениях личных – невинный и добрый.
Понятно, что он – возглавлял, обезглавив себя (может, нечего было безглавить); мое впечатление позднейшее: книги почтеннейшего Николай Ильича суть «безглавица» неплодотворная, но добродушная [Очень мало дают его исследования о Роберте Грине, Лилли, Марло; пустоват его курс по истории западной литературы; столь же легковесны его статьи о Шекспире49], уже позднее на книгах двух «львов», Стороженки и Веселовского, выучился я тому, как не надо писать, как не надо осмысливать явления литературные; в этом, действительно, многому я научился; надолго они деформировали во мне потребность в «истории литературы»; теперь лишь стираю с души я следы недоверия к спецам-словесникам; и соглашаюсь, что переборщаю я в страхе своем; теперь пишутся истории литературы иначе; теперь и полезно весьма отмечать их значение в виду засилия формалистических методов; но впечатление от пустоты, доброты, абсолютной никчемности фраз Стороженки так сильно (пронзен на всю жизнь!), что я все еще вижу тот призрак, в который вперялся все детство, всю юность; ведь было же время, когда Алексей Веселовский, Н. И. Стороженко и критик Иванов собой заслонили все подлинное, что писалось, что писано было до них: три кита!
И Москва повисала на них.
Н. И. «влиял» у себя на воскресниках вовсе не так, как Лясковская; та сокрушала железным жезлом; Николай Ильич, «пастырь», пасом был общественным мнением; с видом быка был он, в сущности, только овцою невинною; пересекая своей статистической «средней из всех» этих всех, «всеми этими» выбран был гетманом некоей воображаемой сечи словесного отделения филологического факультета;50 вручили бунчук ему; слабо держался бунчук этот в слабых руках; Стороженку не мыслю я без бунчука на воскресниках; сидит Николай Ильич, стол возглавляет торжественно; дикие споры: сцепился отец с И. Ивановым; оба вскочили; и брызжут слюной друг на друга:
– Позвольте-с!
– Нет, – сами позвольте-с!
Сидит Николай Ильич с гетманским видом, подмигивая на отца, на Иванова, шуточкой сыплет (ее и не слышат отец и Иванов, но слышат два-три тихих чтителя стороженковской мудрости); рука поднята, как бы с бунчуком («бунчука»-то и нет: это – «царское платье» Москвы девяностых годов); весь «бунчук» – тарахтящая и безобидная шуточка; протарахтит, точно пуговицы роговые на пол разроняет:
– Тарах-тахтахтах!
И оглядывает своих чтителей тихих: смешно? Успокойтесь, – смешно, и – доволен, что шуткою с будто бы мудростью, положенной в шутку, от спора ответственного отвертелся; и вместе с тем гетманское достоинство – соблюдено; и у Янжулов, у Веселовских, у Иванюковых расскажут:
– Вы знаете, как отозвался на спор Николай Ильич? Нет, Стороженку любил я совсем за другое: за пляс добродушный его: шашаша-антраша! В «шашаша-антраша» изживала себя незатейливо так юмористика;51 хуже, когда «шашаша» выступало во фраке: с ответственным словом; тогда начинались иные истории, – например: отвергали для Малого театра «Дядю Ваню»52 и провозглашали Потапенко наследником Толстого и Салтыкова; пустенькие водевильчики Щепкиной-Куперник показывали… в пику Чехову; «шашаша-антраша» – удел детской, – не кафедры!
Конечно, на лозунге, вполне либеральном, вполне безобидном, нельзя было много проехать, как на палочке; И «палочка» не фигурирует ныне нигде; удивляюсь, что ездили-таки на «палочке» лет эдак двадцать, и думали: делают дело, в то время, когда в Харькове вовсе никем не отмеченный скромный профессор Потебня [Характерно, что на протяжении 20 лет весьма часто посещая стороженковские воскресники, прислушиваясь к разговорам «великих», я ни разу не слышал упоминаний о бытии Потебни, Александра Веселовского, трудов Кирпичникова] «книжонки» пописывал;53 и Александр Веселовский работал:
– Как… как… Александр?.. «Алексей» – вы хотели сказать: «Алексей Веселовский!»
Ту реплику слышу я из восьмидесятых годов; могли допустить: Алексей Николаевич раздвоился: одною рукою строча в Петербурге, другою в Москве строчит; но, чтобы был еще Веселовский какой-то, сочли б за невежу меня: «Николай Стороженко и Алексей Веселовский» – омега и альфа; вот чем надышался я в детстве, резвясь в стороженковском доме. Сплошной юбилей. «Общество любителей российской словесности»54 – место, где все юбилеи справляют (и я, когда вырасту, справлю) – расширенная стороженковская квартира; когда я теперь Оружейным иду, останавливаюсь перед тем же я домом (он даже не перекрашен, – такой же стоит он красно-коричневый), где я резвился, где шли юбилеи сплошные, – мне чудится: в окнах мелькнет нос Иванова критика; выглянет из-за окна Линниченко; и – пальцем поманит меня.
Впечатление о потрясающей знаменитости и гениальности Стороженки ребенку, мне, явно сложилось в квартире известнейшей «байдаковского» дома;55 конечно же, под впечатлением тихих чтителей и всех домашних:
– Папин поклонник!
– Папа наш знаменит!
Это все «бранкукашки» твердили; и их гувернантки, и няни, и тети, и многие личности, здесь заседающие; во-вторых: половина гостей, здесь бывших, – гении и знаменитости; здесь-то кафедра, окаменевши, мне выросла в столб; здесь профессор мне кариатидой, увенчанной лаврами, стал; повторял я лишь то, что твердилось; твердилось мне здесь: Алексей Веселовский есть памятник собственной жизни; и здесь же мне памятник рухнул; и «кафедра» – испорошилась; но светопредставленья (представьте мое удивленье!) не произошло никакого.
Четверть века сюда я ходил; перевидал рои лиц. А. Ф. Кони, Мечников, Боборыкин, Толстой, Поль Буайе, Соловьев, – здесь маячили56 помню: резвимся мы в белой столовой, с огромнейшим грохотом стол отодвинув; а из гостиной, обняв Николай Ильича, Лев Толстой к нам выходит; и пристально смотрит, как мы хулиганим; иль: Владимир Соловьев сидит в красной гостиной, весьма удивляя брадой и власами; а мы напряженно стараемся хвостик ему прицепить. В 1884–1890 годах постоянно встречал здесь Якушкина, Веселовского, Янжула, Иванюкова, Танеева, тяжелого Самоквасова; шутиком вертится, бывало, не потрясая меня остроумием, В. Е. Ермилов; в том обществе он подавался, как номер эстрадный; а из-под ног (под Стороженкою жил) появляется нами любимый И. А. Линниченко (тогда – не профессор); Иван Иваныч Иванов, когда ни приди, – все витийствует здесь; и обедает здесь; а после обеда мы, дети, сымпровизировав в детской «театр», отхватываем половину гостиной, завешиваем ее; и требуем, чтобы гости смотрели на нас; и Федотова смотрит, похваливает. Помню: здесь ослепил Боборыкина магнием я (у него – болели глаза); впрочем, это – не я, а – «бранкукашка» Коля:
– Ты, Боря, ему в глаза!
Боборыкин так даже подпрыгнул, а Николай Ильич – ничего.
Одно время придумали номер: придет к Н. И. «чтитель», являемся мы к Николай Ильичу в кабинет с грозным требованием:
– К нам, папа, к нам, Николай Ильич, – на сеанс спиритический!
Вельский, учитель гимназии наш, двойки ставящий, у Стороженок вполне в нашей власти; Н. И. не посмеет перечить он, а Н. И. прибран нами к рукам; Н. И. тащит Вельского в темную комнату, где приготовлена нами засада; мы сядем за стол, в темноте; и подушкою припасенною Вельского бьем (не мы – «дух»); исколоченный нами, уходит отсюда: за двойки в гимназии здесь ему – страшная месть.
В тот период мне нравится очень студент-репетитор «кургашек»; веселый и умный, затеивающий то интересную беготню, то сидящий, пенснэ нацепив, за столом, очень слушающий, даже в споры вступающий, – Дмитрий Иванович Курский (поздней «нарком-юст»);57 после он появлялся лишь: репетирует брат его, Владимир Иванович; Фриче сидит здесь, Бальмонт.
Поздней познакомился у Стороженок с профессорами: М. М. Покровским, с Матвей Никаноровичем Розановым, с Саводником, с Мельгуновым, с профессором Бороздиным (тогда – студентом), с профессором Фельдштейном (тогда – гимназистом), с писательницей Хин; и со сколькими прочими.
Люди менялись в годах; не менялся лишь тон, задаваемый мужем маститым, а после уже дряхлым старцем: довольно пустой; та квартира мне служит уроком: и кариатиды легко… покрываются мохом!
Дети Николай Ильича (Маруся, Коля и Саша) – первые мне друзья по времени, особенно Маруся;58 дружба с ней началась, когда я был еще четырехлетним, а она – трехлетней; Коля – ползал еще, а Саши не было вовсе на свете; с ними же порой я встречался и на Смоленском бульваре, куда меня редко водили: водили гулять на Пречистенский, где встречались все те же знакомые наши: Федор Иванович Маслов, с которым Танеев дружил, пока Маслов не выписал «Нового Времени», переменив орьентацию; там Самуил Соломоныч Шайкевич, известный Москве адвокат, с супругой бродил, и Владимир Иваныч Танеев порой проносился стремительно; и профессор Александр Карлович Эшлиман, посещавший нас, сидя на лавочке, предобродушно подманивал; Николай Платонович Шрамченко, инспектор женских гимназий, являлся сюда со своей дочкою, Надей; но ждал я не их, а огромную шубу и воткнутый нос в воротник; из мехов два очка мне проблещут (ни носа, ни белых усов, – только шапка, очки, да огромная шуба); и я, вырываясь из рук, мчусь под шубу, в меха, с громким криком:
– Вот – друг мой идет!
И в объятиях мягких и теплых тону; и из меха головка седая и старческая вылупляется; мягко шамкает мне: это – Федор Иваныч Буслаев; встречаемся с ним каждый День на бульваре, свидания назначая друг другу и передавая друг другу последние новости; после же я от него получаю кусочек рябиновой пастилы с неизменным подшептом: от птички узнал он, что я – на бульваре; и вот он – пришел ко мне.
Так мы три года встречались.
Меня на бульваре все знают:
– Вот – Боря Бугаев!
Раскланиваюсь я с неизвестными даже:
– С кем, Боренька, ты? Я же гордо:
– Знакомый мой!
Этот район населен профессурой; куда нос ни сунешь, – профессор; так с нами дверь в дверь живет Янжул; под Янжула въехал историка Соловьева сын, М. С. Соловьев; коли носом просунешься в окна из кашей квартиры, то в окна уткнешься; за окнами теми давно обитает профессор Иван Александрович Угримов; и рядом же Селиванов живет; на Сенной обитает профессор Владимир Григорьич Зубков; против – сверт в Оружейный; и там – Стороженко, и там – Линниченко.
Очерчена, замкнута жизнь: тесновато! В арбатском районе томлюсь; сюда выжаты сливки Москвы или – целой России; и столкнуты и дверями, и окнами здесь все традиции славные стаи славной; казалось бы, радоваться!
А тяжелая грусть, безысходная грусть охватила меня, переходя просто в дикую мрачность; тринадцатилетним переживал я буддистом каким-то себя, а не отроком; мрачность перерождалася в бунт открывания «форточек»: в жизнь; у Николая Васильевича вырос сын декадентом; и сказка про серого козлика, от которого остались рожки да ножки, себя повторила: жил-был «Боренька», пришел волк «белый»; и – «Бореньку» съел он.
И Николай Ильич, певший девочке «Танечке» дифирамбы, на Бореньку не сердито (добряк!) стал коситься, пока… не усвоил… чего-то…
То было пред смертью его, когда он, совершенно разбитый болезнью, повис головою в грудь, свешивался с огромного кресла, высматривая исподлобья хитрейшими, украинскими глазками; был одинок: «бранкукашки» (и Коля, и Саша) – перебранкуканили так, что он плакал от них; у себя на квартире дочитывал курс свой последний последнему слушателю: И. Н. Бороздину (препохвальное претерпение!). Выдавал дочь он замуж; унылая свадьба; из университетских один лишь Иван Иваныч Иванов, закатывающийся… в Нежин (да в церковь явившаяся размягченная и поседевшая кариатида-Янжул, уже академик59, с большим поправеньем); помнится купчик, седой и подвыпивший на этой свадьбе (со стороны жениха); грустно было на свадьбе подруги; и грустно висел Николай Ильич в кресле; глаза наши встретились; пальцем меня подманил он к себе; и когда я склонился к нему, с мрачным юмором, с истинно героическим юмором, глазками ткнув на «веселие» и на купца красноносого, вытарахтел свирепою скороговоркою он:
– Козловак!
– Что такое? – не понял я.
– Не правда ли, говорю, – «козловак»! И еще раз ткнул глазками перед собою.
До этого мы о «Симфониях» моих – ни звука: из чувства такта (что мог он сказать о них, кроме жестокого осуждения мне?); а тут вдруг – «козловак» (словечко из «Северной симфонии»);60 стало быть, – прочитал; и, стало быть, усвоил; не так уже непонятны, стало быть, словечки «Белого», коли, когда случилось обстоятельство, соответствующее словечку, то выскочило и словечко у отрицателя моих «словечек».
Да и как не понять «козловака»: там, там, где Максим Ковалевский закатывал спич, Алексей Веселовский же вздергивал ногу Бруно в зарю возрожденья, – ни спичей, ни мужей науки: линяющий Иван Иваныч Иванов, уж где-то в газете хвальнувший меня, говорит что-то о Матерлинке на свадьбе (horribile dictu)61, да купчик подвыпивший (откуда взялся он?)62 подкозловачивал.
Да, козловак!
Это было последнее слово, мне сказанное Николай Ильичей: напутственное, прощальное слово, взывающее к сочувствию; и я его понял.
Скоро стоял я над гробом его, переживая действительную скорбь, что утратил этого прекрасного добряка, незадачливого профессора и незлобивого человека63; и кто-то из словесников, показывая на прах, дернул ужаснейшим «козловаком»:
– Вот, вдохновитесь: и на похоронах «воспойте» нам его.
Я посмотрел на словесника; и подумал: «И дернуло же?»
Только средь «апостолов» гуманности возможны подобные «задопятовские» безвкусицы.








