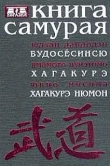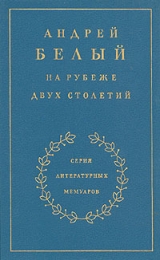
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
Лето в Демьянове – последнее детское лето;154 оно мне звучит по-особенному; я прощаюсь с прудами, с полями, с аллеями, уж не подернутыми романтической дымкой; я знаю: мы больше сюда не вернемся: открылися крупные расхожденья между Танеевыми и родителями.
Переменилися обитатели: нет Феоктистовых, Трувелеров, Перфильевых; Веры Владыкиной нет; нет и Бутлер; исчез образ Джаншиева; и Сергей Иванович, композитор, уже не мелькает в аллеях; живут Сыроечковские, семейство инспектора четвертой гимназии; с Борей, Володей и Женей Сыроечковскими я играю в индейцы; живут Аппельроты, – два брата: Владимир Германович, веселый, рыжебородый филолог, которого любят за лихость, за декламацию и каламбуры. В. Брюсов сердечно его поминает в своих «Дневниках»155, как прекрасного преподавателя латыни (в гимназии Поливанова); он – скоро умер; а брат его, Герман Германович, математик, ученик отца, будущий профессор, претихий, предобрый, в очках, совсем лысенький, – партнер отца по крокету (против Сыроечковского и Владимира Германовича); эта четверка все лето сражалась в крокет: математики против филологов. Вот Дмитрий Дмитриевич Галанин, брадастый, очкастый, умнейший учитель, гуляет в аллеях; семейство Эртелей, друзей Танеевых, переполняет весь парк громким смехом студентика Мишеньки, пением Марии Александровны, розовощекой, дородной девицы, одетой всегда в сарафан, с черной, толстой косою; старушка их мать – очень добрая; и очень громкая; тут проживают Гаусманы.
И тут проживают Лопатины.
Старичок, отец «Левушки», козлоподобного «ангела», Михаил Николаевич Лопатин, почтенный судеец, весьма мне приятен; жена его, Екатерина Львовна, рожденная Чебышева (сестра математика), явно мирволит мне, – не так, как сынок, Лев Михайлович, приват-доцент, здесь заканчивающий диссертацию «Положительные задачи философии»;156 его и не видно; к нему приезжает В. С. Соловьев.
Мы подглядывали, веселясь, как в поля, на заре продвигается медленно четверка Лопатиных; шли, точно выровненные, стройной линией, глядя в спины друг другу; каждый член дома весьма отстоял от других (не менее, чем на двадцать шагов); дистанция не нарушалась ничем. Впереди, заложив руки за спину, мерно, торжественно старый папа вел мама, подняв голову, точно гусак, выбирающий путь гусенятам, гусыне; и в двадцати шагах так же торжественно, мерно седая, сухая, морщинистая, но прямая, как палка, мама продвигалась, блистая на солнце очками, вперившися в спину папа; она зонтиком, точно острейшей пикой, нацеливалась на песочек дорожки пред тем, как им ткнуть; за мама, ей уставившись в спину, блистая такими же золотыми очками и так же отставши на двадцать шагов, шел философ-сынок, вздернув голову; совсем как мама, но – в штанах, при бородке; старался не озираться; характера не выдерживая, все ж озирался: на псов; перед маленьким песиком крупный философ готов был, присевши на корточки, громко взорать от испуга, пока прибежавшие дачники его не выручат; и уж за ним в отстоянии том же, походкою тою же, бледная барышня шла, вперед вытянувшись и нацеливаясь своей тростью в песочек: Екатерина Михайловна, дочка.
Выйдя в поле и став на бугре, престарелый папа снимал шляпу, рукой заслоняясь от света, любуясь закатом; и, став в отстоянии друг от друга (на двадцать шагов), любовались закатом: мама, сын и дочка, – на полубугре, под бугром, при болоте; папа, поворачиваясь и тою же дорогой домой возвращаясь, встречался с мама; пройдя десять обратных шагов; а мама, отсчитав после встречи свое расстояние, круто повертывалася у той самой кочки, где и папа повернулся; повертывались: Лев Михайлович, Екатерина Михайловна – там же; не нарушалось равнение плац-парада вечернего.
И выбегали смотреть из всех дач, обсуждая порядок глубоко безмолвных прогулок: до полевого бугра; и обратно.
С мама я дружил; мадемуазель заводила на дачу Лопатиных: сиживали, пили чай; Лев Михайлович прятался; над потолком топотал сапогами; он бегал и взад и вперед, когда думал; обдумав, строчил: ночи, дни; уже вечерами, идя мимо дачи Лопатиных, видели свет во втором этаже: штора спущена; тень бородатая дико металась на шторе; философ Лопатин сражался с философом Рилем [Содержание второго тома «Сочинений Лопатина»].
Указывали на беспокойно страдавшую тень; говорили:
– А вон Лев Михайлович!
– Все философствует он!
Когда ночь выдавалась и тени деревьев казались особенно жуткими, то молодежь, подступая к окну, принималась кричать:
– Лев Михайлович!.. А!.. Лев Михайлович! Бедная бородатая тень останавливалась за шторой, молчала; ее вызывали; взлетала стремительно штора; и, бородою бросаяся в ночь из окна, превращенный из тени в живую персону, как филин заухавший, страждущий любомудр отзывался:
– Хохо, господа: что такое?
– Гулять!
– Не могу, не могу: я работаю…
– Чудная ночь!
– Не могу.
Начиналося упорное приставание хором до мига, когда свет в окне угасал, а внизу отворялася дверь; и показывалась оголтелая, маленькая, гладенькая, какая-то овечья головка, растерянно протаращенная бородою – в ночь.
И мгновенно подхваченный под руки (справа и слева) смеющейся молодежью, философ насильно влачился по парку – по самым дремучим и жутким местам, где крестьяне и няньки встречали тень старого самоубийцы; философ дрожал, похохатывая, как плотва между рук, наслаждаяся собственным страхом и пуще пугаяся; молодежь под предлогом прогулки с коварною целью таскала его между складками черных теней и луной озаренных берез; Лев Михайлович, перепугавшись, испытывал поэтическое вдохновенье рассказчика страшных рассказов, которые он в годах собирал: так, уверившись, что он напуган, к нему приставали:
– Рассказывайте что-нибудь; да – страшнее!
И увлекали его к нам на дачу; в громаднейшем зале, ненужном совсем, мать поставила свой инструмент, превратив залу в клуб; с утра до ночи здесь музицировали; вечерами же пели хором; сюда и тащили Лопатина; здесь его усадив на диван и обсев, щелкали орехами, слушая дикие страхи; Лопатин, взволнованный, с неподражаемой силою чувства мял ручки, испуганно похохатывая и выпучивая зеленоватые, овечьи глаза:
– И, – глаза навыкате, – «дверь», – руки терлись, а борода так и прыгала…
– Дверь отворилась; и странное эдакое, знаете ли, весьма неприятное, – он косился на дверь, – дуновение пронеслось.
В ответ – дружный хохот.
Уже после ведомый домой через парк, переживал муки страха он; а фонарек, ему данный, плясал в его пальцах.
Рассказывали: один раз привели его к нам вместе с другом, приехавшим навестить его: Владимиром Соловьевым, которого прежде видел я (у нас и у Стороженок);157 на этот раз я не видел его: уложили в кровать; говорят, – Лев Михайлович подмигивал на Соловьева:
– Его попросите – хохо – рассказать что-нибудь: говорят, что он видит какую-то – хохо – тень розовую.
И в ответ Соловьев, бородатый, косматый, заржал, как ребенок, от смеха; и даже, качаяся туловищем, сапогами по полу стучал: так смешны показались подмиги Лопатина.
Та клубная комната – неисчерпаемый источник восторгов; почти каждый вечер брат Льва Михайловича, Николай Михайлович, мировой судья, собиратель народных песен, их пел своим сиплым, надорванным грубоватым голосом: пел превосходно; а М. А. Эртель, невеста его, аккомпанировала часами; в постельке же я замирал, песни слушая.
Николай Михайлович был полною противоположностью Льва Михайловича; мужественный, сдержанный, брюнет с сиплым басом (он попивал); ходил угрюмый и мрачный, хотя в женихах состоял; скоро умер он.
Демьяново промелькнуло сном светлым и быстрым: со мною была мадемуазель, верный друг.
А когда переехали в город, отец мой, однажды встав рано, сказал:
– Ну, Боренька, одевайся, голубчик мой: мы – к Льву Ивановичу Поливанову; я вчера с ним беседовал; и он – нас ждет: тебя проэкзаменуют, – и прочее там: я нарочно вчера ничего не сказал, чтобы не волновался ты; КУРС уже пройден; и, стало быть, какая же подготовка к приемному испытанию?
Так совершилась судьба, – и я стал поливановцем.
Глава четвертая
Годы гимназии
1. Лев Иванович ПоливановВсякий раз, когда память выкидывает мне сентябрь 1891 года, у меня впечатление, будто дверь в мою жизнь отворилась; и жизнь оказалась лишь детскою комнаткой; дверь отворилась стремительно, с катастрофическою быстротой; и в пороге ее встала вытянутая, великолепнейшая фигура Льва Ивановича Поливанова, чтобы в следующий момент мощным львиным прыжком опрокинуться на меня. Высокий, сутулый, худой, с серой, пышно зачесанной гривой на плечи упавших волос, с головою закинутой (носом приятно скругленным – под потолочный под угол), с черно-серой подстриженною бородою, щетиною всклоченной прямо со щек, прехудых, двумя темными ямами всосанных под мертво-серыми скулами, – очень высокий, сутулый, худой, с предлиннейшими, за спину закинутыми руками, в кургузой куртченочке синего цвета, подчеркивающей предлинные и прехудейшие ноги, он ринется вот на меня ураганами криков (от баса до визга тончайшего), кинется роем роскошеств, развертывающих перспективищи.
Как описать мне его?
Всякий раз, когда я прикасаюсь к перу, чтобы им зачертить силуэт Поливанова, я отступаю; попытка наталкивается на почти непреоборимые трудности; очень легко подчеркнуть для писателя нечто типичное в человеке; отвлекшись от частностей, выявить это типичное; и невозможно почти зачертить тип готовый; попробуйте дать силуэты Сикстинской Мадонны иль микельанджеловского Моисея; тут фотография действует с большею легкостью, чем живописание публициста и даже художника слова. Вот первое признание о Поливанове; законченный тип иль портрет, нарисованный кистью великих художников, бурно вырвавшийся из рамы в жизнь быта Москвы, в нем сложивший себе свою раму; и в раме заживший; рама – дом Пегова, стоящий на углу Пречистенки и Малого Левшинского переулка1.
Да, Лев Иванович поражал воображение: всех воспитанников (от приготовишек до восьмиклассников), продефилировавших мимо этой фигуры на протяжении минимум тридцати лет; ставши студентами, преподавателями, профессорами, артистами, они продолжали сбегаться к этому в собственной раме стоящему произведению Микель-Анджело (под формою посещенья вечерних субботников Льва Ивановича в том же доме Пегова); Лев Иванович поражал воображение преподавателей Поливановской гимназии; поражал воображение всех, приходящих с ним в конкретное соприкосновение. И, вероятно, он-то и пленил навсегда такого крупного умницу, каким был покойный Сергей Алексеевич Усов, когда этот последний между лекциями по зоологии прибегал в дом Пегова читать воспитанникам Поливановской гимназии лекции о Микель-Анджело, которого он так любил; Лев Иванович впоследствии дал прекрасные воспоминания об этих лекциях;2 но он, разумеется, не отметил: среди произведений великих итальянских художников было одно художественное про-! изведение, которое постоянно восхищало «художника» в Усове; и это произведение – Лев Иванович Поливанов, один из «пророков», заготовленный Микель-Анджело для Сикстинской капеллы и случайно не попавший в компанию Даниила, Иезекииля и прочих художественных шедевров.
Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр; тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммою этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. Все прочее, что не вмещалось в «педагоге», не было интересно в Поливанове; не были интересны его живые и трудолюбивые примечания к ученическому собранию сочинений Пушкина «для воспитанников»;3 не было интересно толстое сочинение о Жуковском под псевдонимом «Загарин»;4 даже живые, прекрасные его хрестоматии5 не были интересны по сравнению с Львом Ивановичем, оперирующим этими хрестоматиями; ничто сумма «трудов» Л. И. Поливанова по сравнению с Л. И. Поливановым, оперирующим этими трудами для воспитанников именно «частной гимназии Поливанова»; но в его руках, при его исполнении эти труды превращались в фуги и мессы Баха; а его визг, рев, вскрик, интонация, жестикуляция (все способы «вжигать» в воспитанников любовь к прекрасному) – выглядели «райскими песнями» какой-то супер-Патти.
Вспоминая эти симфонии живых действий, вытравляющих в душе, как в гравировальной доске, неизгладимые линии жизни, – видишь: в этих действиях мы схватывали не проповедуемое нам «что», а «как» подхода к явлениям живого слова.
Живет себе тихо, не зная бурь, эдакий одиннадцати – двенадцатилетний мальчонок; в один прекрасный день поведут его по Левшинскому переулку в дом Пегова; он думает, что это его отдают в гимназию; гимназия – ни при чем; гимназия – рама; не в этом вопрос, хороша или дурна «Поливановская гимназия»; она может быть и дурной, и хорошей; впечатление от нее – побочное; суть в том, что внутри этой рамы – какая-то пещь Даниила6 иль яма со львами; впечатлительный мальчик и не подозревает, что в этой гимназии его посадят между прочим и в львиный ров; «лев» нападет с рыком и ревом; и перепуганный мальчик будет думать: «лев» его съест, а «лев», оскалив зубы, рыча и прыгая вокруг него, в самый страшный момент вдруг превратится в некое нежное видение; и вместо «льва» появится Лев с большой буквы (так звали мы Льва Ивановича) и, сломав все обычные перспективы детской комнатной жизни простым нарисованием на доске «орла» римского легиона, введет в широкую и интереснейшую картину, если это случится в первом классе, где он преподавал латынь; если это перерождение сознания случится в четвертом, то произойдет это за фабулой метаморфозы приключений древнеболгарского «юса» (урок славянской грамматики); он заставит пережить превратные судьбы «юса» в его блуждании по корням, как если бы мы читали приключения Казановы;7 и превратив звук «юса» в «иотту», подписываемую под долгим «о» (омегою), наконец убьет захилевшего «юса», перечеркнув его мелом на доске и взорав над ним:
– На Ваганьково [Ваганьковское кладбище] его, на Ваганьково!
И потрясенный отрок на всю жизнь с широко открытыми глазами будет вперен в тайны метаморфозы звуков; и будущая сравнительная филология будет ему открытою книгою этою заранее загрунтовкой.
Если это будет урок в старшем классе, и именно объяснение значения Шекспира, – будьте уверены: после этого урока «воспитанник частной гимназии» будет в годах урывать все свободное время, чтобы отдаться чтению Шекспира и проблеме театра в ущерб успехам своим в «частной гимназии Поливанова»; и учителя истории, математики, латыни отметят:
– Воспитанник Бугаев перестал учиться.
Не перестал учиться, а начал «учиться Шекспиру», который был ему подан, как, во-первых, Шекспир, во-вторых:
– Как, вы не видели Федотову в ролы лэди Макбэт?8 Бросьте все и бегите!
Ему уж заодно будет подана великая воспитательная роль театра, – с визгом, с криком, с брыком длинных, подскакивающих ног, с Росси, детали игры которого будут поданы ученикам;9 и – класс сбежится к «Льву»; и «Лев», забыв, что урок кончен, что и перемена меж уроками прошла, что нетерпеливый учитель следующего урока стоит у двери и ждет, когда же директор опомнится и уступит ему место, объясняет значение Росси. Опомнится? Какое там! После такого разбора и даже воспроизведения жестов Росси, – кончено: и воспитанник Бугаев, и весь класс за ним по законам овидиевой метаморфозы10 превращен в «шекспиристов»;11 отныне – Шекспир, Малый театр, Ермолова, гастроли Мунэ-Сюлли12 вытеснили приготовление уроков; и учитель латыни удвоит количество двоек, не понимая, кто же испортил класс («испортил» – директор: Шекспиром или Софоклом); а учитель истории, сам бывший «поливановец», сам некогда с гимназической скамьи заигравший в шекспировских ролях (и даже игравший Ромео под режиссурой Поливанова), – тот все поймет: я говорю о Владимире Егоровиче Гиацинтове13, преподавателе истории и географии некогда:
– Отчего вы урока не выучили?
– Как же, Владимир Егорович, ведь у нас Лев Иванович?
Он улыбнется сочувственно (сам понимает); и лишь для проформы заметит:
– А все-таки надо было выучить.
Но двоек не выставит, ибо двойки по истории не выставляемы там, где незнание новой истории от узнания параграфа в истории западной литературы: был урок объяснения роли Шекспира; произошло событие, выгравировавшее в целом классе неугасаемую любовь к театру; и – навсегда.
В казенной гимназии за незнание урока истории поставят двойки; а в Поливановской будет учтено, что незнание – от узнания; неуспех – от успеха; и уже в одном этом огромная победа над «казенщиной», которую так ненавидел Лев Иванович; как увидит у «воспитанника» казенного типа тетрадку для записывания уроков, вырвет ее, взорет, подчас разорвет:
– Терпеть не могу этой каа-зее-ооо-онщины!
И «о» огласит весь дом Пегова, и надзиратель испуганно выскочит из учительской; не случился ли пожар? Владимир Евграфович Ермилов, известный московский пародист, одно время служивший воспитателем в Поливановской гимназии, мне не без шаржа рассказывал:
– Сижу я раз в пансионе… Вдруг слышу – громкий плач грудного младенца… Выскакиваю, бегу коридором: где младенец? Откуда он… Прибегаю к классу; дверь закрыта; оттуда – младенческий, пронзительный плач; приоткрываю дверь; и вижу: класс сидит, затаив дыхание, а Поливанов, сидя на собственной ноге и махая книгой в воздухе, дико плачет.
Вот эти-то громчайшие «и», «о», «а» и наводили ужас; и – впечатление: Лев разорвет отрока Даниила;14 но скоро отрок начинал понимать, что эти разрывы ведут не к смерти, а к вложению огня в разорванную грудь:
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Чаще всего происходило явление:
Открылись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы15.
Воспоминания о Льве Ивановиче оттого так трудны, что они сводятся не к описанию этой неописуемой внешности, точно соскочившей с потолка Сикстинской капеллы, а к воспоминаниям эффектов возжжения им в нас, «воспитанниках», разного рода «любвей»; градация этих «любвей» – градация классов; в каждом на что-нибудь открывались глаза; в третьем классе на скульптуру фразы (и под формою этой эстетики прояснялся синтаксис); в четвертом – превращения «юсов» лишь – портал, под которым мы проходили для восприятия красот «Слова о полку Игореве»; в пятом – огромной трубою Поливанов-трубач нам вструбливал Шиллера, геттингенскую душу16 и высокое, чистое отношение к женщине. Каждый класс – новое действие раскрытия нам живого слова; и Поливанов несся с каждым из классов сквозь классы, опять для себя переживая заново основные свои увлечения: римской историей, эстетикой синтаксиса, учением о драме Аристотеля, чтобы в восьмом классе добить уже усатых молодых людей: любовью к Пушкину.
И что замечательно: мы, пережженные восторгами, выходили в жизнь с открытыми глазами на искусство, а что, собственно, думал Лев Иванович о таком-то и таком-то произведении, – не играло никакой роли; я, например, не разделяю ряда его привязанностей и нелюбвей, как-то: нелюбви к поэзии Фета и слабости к вялой поэзии Я. П. Полонского, с которым он лично дружил;17 не это – важно: важен взворот психики, кризис сознания, который он производил – всем: нападками, несправедливостями, криками, перевоплощением в материал слова, в факте простого чтения его нам и предложения рассказать именно не своими словами:
– Как тут сказано!
И мы заучивали почти назубок пересказы: без отсебятины.
– Какой формалист! – могли бы воскликнуть недогадливые «психологи», стремящиеся развивать любовь к смыслу, а не к форме; Поливанов, учитель логики, и развивал в седьмом классе в нас любовь к этому логическому смыслу; Поливанов-словесник развивал именно в нас любовь к форме; и знал: переложить пушкинскими выражениями пушкинский стих, – значит развить ухо к стилю; так задолго до формалистов он знакомил нас со всеми положительными сторонами формального метода, элиминируя его мертвость.
Действовало не «что» его слов, а «как» его стиля, подхода; и он весь был не «что», а «как»; не автор трудов, интересных, но не исчерпывавших и тысячной доли его влияния на нас; не мыслитель, не идеолог, врубавший в нас «догму», заполняя воображение школьников, а стоящее перед нами на протяжении восьми лет произведение искусства, вышедшее из рамы картины, ставшее трехмерным, – произведение резца Микель-Анджело, одинаково пленявшее умницу Усова, покойного Сергея Андреевича Юрьева и трех сынов Усова, поливановских мальчишек.
И эта пленявшая сила стиля, проводимого во все детали жизни под кровом дома Пегова, и была силою педагогического воздействия, о которой не скажешь; как игра Мочалова не передаваема в воспоминаниях, а была бы передана лишь в том случае, если бы Гоголь написал рассказ «Мочалов»; так и Лев Иванович мог бы живо восстать, как деятель своего времени, если бы, например, у него учился тот же Гоголь, потом написавший очерк: «Лев».
И я, в этой книге, посвященной зарисовке не личностей, а социальной среды конца века, не могу, отстранив иные задания книги, дать своей монографии: «Лев Иванович Поливанов».
Оттого и муки: ведь легко зарисовывать типичное в обычном человеке; коли перед вами стоит готовый «тип», подобный «типам» мирового искусства (наряду с Гамлетом, с Пиквиком, с Брэндом и т. д.), то – слова немеют; и вместо абзаца книги «Лев Иванович Поливанов» с пера срывается крупная, чернильная клякса.
Считаю: вполне не случайно, что рама, в которой годами дышало на нас впечатлением искусства лицо Поливанова, впечатывая в душу стиль красоты, – эта рама, или дом Пегова, теперь – «Государственная академия художественных наук»18.
Никогда не забуду я утра, когда мой отец меня вывел из дома Рахманова19 и, усадив на извозчика, повез на Пречистенку, в дом Пегова; дорогою он говорил:
– Может быть, Лев Иванович, оставив формальности, тут же при мне проэкзаменует тебя…
Но Лев Иванович был именно «формалист», не в смысле казенщины; под словом «форма» разумею – конструкцию, стиль; Лев Иванович был «стилист»; и он понимал прекрасно, что значит для мальчика поступать в гимназию; вопрос не в проверке знаний; какие же проверять знания у ребенка, поступающего в первый класс, владеющего хорошо французским, сына известного математика (владеющего, стало быть, и основами математики); остаются правила правописания, которым все равно ребенок будет обучаться, да закон божий, который все равно он будет проходить; суть не в проверке знаний, время которой – десять минут, а торжественное введение ребенка в зал, по которому бегают двести «воспитанников»; гул изумления и любопытства при виде «новенького» и представление этого «новенького» надзирателю и товарищам по классу; важно для поступающего высидеть день в классе еще не в качестве принятого, а принимаемого; важно, чтобы ребенок пережил и волнение ожидания, и торжество узнания, что он «выдержал»; тут не проформа, а представление, выдержанное в своем «стиле», и прекрасное по итогам.
Кроме того: отец, требовавший от меня знания на «пять с плюсом», мог меня смутить более, чем сам Поливанов.
И хорошо сделал последний, что не сразу напал на ме-1 ня в присутствии отца с вопросами, а увел в зал, развлек видом классов, ослепил новизной впечатления; и между уроками рисования и чистописания, вовсе не страшными, я был подвергнут так называемому «экзамену»; диктант я написал вместе с другими; а по арифметике спрашивали меня после большой перемены.
Все было для меня стильно, ново, торжественно; и – вовсе не страшно.
Никогда не забуду томления ожидания, когда представительный швейцар Василий провел нас по лестнице, обрамленной белыми колоннами, и потом, огибая ее, мимо зала, гудящего мальчиками, провел в директорский кабинет, соединенный с квартирою Льва Ивановича (кабинет этот, кажется, теперь в помещении заведующего «Гахном» П. С. Когана); шкафы с книгами, деревянная, пестрая мебель; вдруг дверь сорвалась как бы с петель; из двери влетел Поливанов, казалось, огромным прыжком оказавшийся в центре комнаты; высокий, сухой, но какой-то кургузый: не то красавец, обросший щетиною, и от этого приобретающий сходство со зверем, не то продушевленный, одухотворенный осел (было что-то ослиное: в носолобости: в несколько покатом лбе, переходящем в покатый, большой, бледно-матовый нос, – именно не орлиный, скорее – лошадино-ослиный); меня поразил этот скуластый и гривистый очерк лица двумя темными всосами щек, прилетевший на длинных ногах, на меня остро бросивший выблеск стеклянных очковых кругов; и меня поразила быстрота вихревая каждого выброшенного движения, выброшенного точно взрывом в груди: точно каждое – результат сердечного разрыва; и вместе с тем: поразила скованность, стянутость, как бы мертвость мгновенных пауз между движениями; не чувствовалось ничего среднего в этой смене пауз и жестикуляционных разрывов: точка мертвого штиля; и ураганный взрыв голоса, головного закида, подброшенной ноги и взвитой в воздух руки, мгновенно убранных в новую мертвую, вещую, стянутую паузу. Эта смена сознательно скованной выдержки, с которой он, выслушивая отца, точно притаивался, вбирая в себя глазами и всеми порами кожи слова его, чтоб разорваться, как бомба, и раскидаться в движениях ответного слова, – эта смена движений меня поразила: изумление перед невиданным явленьем природы пересилило и приятно-забавные впечатления от его пленительной и показавшейся мне доброй улыбки, и перепуг паузы, во время которой улыбка молниеносно слетала с бледно-зеленоватого, многолетней бессонницею выпитого лица (кожа да кости, – одер!): рот становился зловеще безгубым (полоска!); ноздря ж угрожающе выпыхивала кипятки точно бешенств невиданных, и под серой щетиной подпрыгивал четкий кадык; вот Атиллой обрушится на меня, на отца; миг: морщиночки, проиграв, как лучи, на худейших щеках, освещали лицо пречудесно; и молния света слетала с очков золотых.
– Прево…сходно! – отчеканивал он: прево – произносилося под губами раздельно, тихо, быстро; а сходно, разъезжаясь на «оооо», громовом, басовом и грудном, выгибало сутулую спину, как бы подскочившую над в нее севшею, гривисто откинутою головою; грудь выпячивалась колесом, а рука, мертво легшая на спинку кресла, широкой, приветливою спиралью развертывалась во всю комнату; и – ко мне обращенье:
– Пойдемте же! – быстрой, раздельной скороговоркой; и после «друг мой» (с подчерком спондея):20 «друг» – голосовой удар; «мой» – голосовой удар.
Первое, что поразило меня: изумительная проработка голоса, владеющего не нашими «пьяно» и не нашими «форте», спускающегося на «басы» ниже протодьяконских и тотчас взлетающего в дишкант, напоминающий комариный писк, в миллион раз усиленный, или напоминающий перетирание тряпкой стеклянной посуды, когда она начинает повизгивать; невероятно, почти ненормально расширенная клавиатура голоса и ненормальная выпуклость предложений, слов и слогов, производящие впечатление не то красоты, не то уродства, как нечто невиданное и неслыханное.
Так бы я выразил первое впечатление от этой странной фигуры, производящей такие выпукло увеличенные жесты, обрываемые вогнуто увеличенным и тревожащим просто молчанием; ив такт к этой выпуклости и вогнутости взвизги, взревы, но артикулирующие и выбивающие слова слог за слогом, точно выбиваемые медали каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Очень скоро я понял: изумление это, невольно вызывающее нервный смех, есть изумление дикаря, которому первоклассный декламатор впервые прочел первоклассное стихотворение Боратынского, выбивая в душе словесную орнаментику; и, подчиняясь этой уже орнаментике декламации, двигались мускулы лица, развертывались и свертывались конечности.
Ну – да: Мочалов, снятый с подмосток сцены в момент произнесения с ног сшибающего монолога и поставленный лицом к лицу с вами: вам этот монолог произносящий в ответ на ваш житейский вопрос; согласитесь: выдержать Мочалова десятилетнему Бореньке – не легко; и осознать впечатленье свое от этого обращения театрального гения к нему всериоз – диковато: не то смеяться, не то плакать, не то в испуге крестить живот (как крестили в испуге мы животы перед каждым уроком Льва Ивановича), не то прийти в восторг от красоты этой ураганной стихии, но скованной педагогическим гением, отдающимся до дна любой стихии, но сперва четко учитывающей, какую стихию выпустить из своего перенумерованного инвентаря; Поливанов отдавался безудержно: гневу, любви, восторгу, проклятию, предварительно взвесив в паузе, так меня испугавшей своею скованностью, какую же в самом деле стихию двинуть на ученика, ибо стихии, видимо его разрывавшие, были в сознании его четко перенумерованы: стихия «а», стихия «б», стихия «це», как роли (роль Шейлока, Отелло, Ромео, Юлия Цезаря21 и т. д.); и весь этот инвентарь великой игры, игры перманентной, игры в жизнь ради идеологических соображений, и был жизнью Льва Ивановича, отданной для воспламенения и выковки культурных бойцов, вооруженных пафосом, как мечом, из ему отданных мальчат: Боренек, Васенек, Петенек.
И оттого-то первая встреча Бореньки с этим великим артистом под формою педагога была кризисом сознания Бореньки; если Боренька плакал от прочитанных ему сказок Андерсена, что же должно было случиться с ним, когда он увидел в качестве высокохудожественной материи – не картину, не словесный образ, а двуногого человека, слово, ставшее плотью, плотью сухой и костлявой, но все же плотью (в очках, в синей кургузой куртке); и это художественное явление – не случайный залетный гость, как подслушанное чтение «Призраков» Тургенева, а человек, которому отдают «Бореньку», – директор, руководитель, гроза гимназии, который поведет по годам разных классов и в каждом создаст с обстановочным громом в душе «Бореньки» художественное творенье свое.
Я нарочно так долго задерживаюсь на этой первой встрече с Львом Ивановичем Поливановым; каждая следующая встреча – первая встреча, ибо никто никогда не мог заранее знать, как будет реагировать «Лев» на тот или иной поступок того или иного из «воспитанников», как человек и как директор; его поступки – художественные интуиции, но на платформе многолетнего изучения детской, отроческой, юношеской души в ее многовидных вариациях; и на любую вариацию он реагировал вариацией своей вечной «поливановской темы», которую мы никогда не видели обнаженно в сухом лозунге, правиле, запрете, зарегистрированном наказании; его лозунги, правила, награды, запреты были всегда постановкою новой пьесы, в которой он, великий артист, ослеплял нас, ввергая в горькие слезы; но и исторгая слезы восторга и благодарности.
Оно и понятно, что он в годах испепелил себя; все сытое, жирное, бытовое перегорело в нем без остатка; и оставался скелет темы, да сухожилия, производящие свои удивительные художественные сокращения, да кожа, замыкающая эту конструкцию в прекрасную, как из слоновой кости выточенную форму.