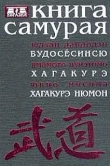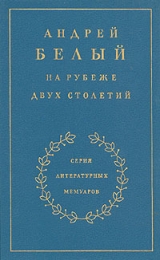
Текст книги "На рубеже двух столетий. Книга 1"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
И тут же, на кафедре, для завлечения внимания студентов, показывает моллюска:
– Представьте, что полы моего сюртука срослись с телом; вот мантия вам.
Раз, увлекшись, слащавым фальцетто с недобрыми глазками он прокричал:
– Представьте же себе, что пред вами я рассыпаюся прахом.
Коротко говоря: читал плохо; но завлекал первокурсников громким подбором дешевых эффектов; и иногда – неприличий; первые месяцы нам эта яркость бросалась в глаза; Тихомиров – абстрактен; для Мензбира надо внимание; наоборот же – при фактах плакатных, пленяющих воображение новичков, и сусало сходило за золото; синька ж – лазурью казалась; и главное, ведь у Мензбира не было занятий при курсе; у Зографа, дарвиниста, показывавшего нам фокусы трансформизма, – эти занятия были; и главное: он согревал на груди у себя интерес: к рыбам, так к рыбам; к червям, так к червям; и давал возможность: устроиться, иметь помещение и собственный микроскоп.
Правда, оказывалось: обзаведясь микроскопом, ты ждал направленья работе своей; вместо этого: тебя звали посмеиваться с профессором за чайком; и порою над тем, к чему сердце лежало; тебя звали: бывать на субботниках, оказывать внимание семейству профессора: принятый в дом, – сын родной! А с другой стороны, намекалось уже, что ты – служащий, имеющий преимущества (клетку и микроскоп), что впереди тебя ждут обязанности к профессору-покровителю; первоначальные твои интересы, согретые грудью профессора, делались: неинтересом профессора: делай, что хочешь, как хочешь, а указаний – не будет; будет разве чаек, да прибаутки, порой очень злые по адресу: Мензбира или Шимкевича, конкурента Зографа по учебнику; так выяснилось: пора оставить романтику интереса к теориям, принципиальным вопросам; и работать так, как Зограф работал, как требовал он, чтоб работали (всей интонацией злобной): окрашивать метиленовой синькою иль осмиевым препаратом какой-нибудь усик: год красить, два красить, три красить; разглядывать, вести дневник зарисовок, – без вывода, плана, толку (принципиальных работ, двигающих науку, профессор терпеть не мог); просто, спокойно; не нужно домыслов; прокрась себе усик лет шесть; «материалы» к естественнонаучному изучению будут; открытий – не надо; и материалы ошибок – все же есть материалы: кто там разберет? Кто сидел над окраскою «Нина грациенс», паразита, водящегося в кишечнике таракана? Никто; коли напутал, – тебя не проверят; с выводами неудобно: подымется полемика; вздумают проверить ошибки твои, скандалящие «школу Зографа».
Мне профессор Анучин, с восторгом схватяся за нос, подморгнул: в антропологической работе профессора Зографа, измерявшего кого-то, статистика измерений выявила чудовищность: измеренные руки в опущенном виде не совпадали с самими собою в горизонтальном вытянутом положении, вырастая и убавляясь не то на собственную треть, не то на четверть.
Зограф силился формировать кадр весьма примитивных студентов, одушевленных сидением и собиранием материалов, способных стать раковыми опухолями на организме науки.
Пленение Зографом первокурсников фактиками и грением у себя на груди романтических интересов к науке (каких угодно!) виделось действием грека-торговца, ставящего на лотке, под глаз, лопающиеся от сока персики, в мешок же сующего зеленеющую кисль.
Читал неинтересно, рассыпчато, дешево, крася своим каламбуриком факты (линючие краски).
Этот хитрый профессор был первым моим, так сказать, покровителем.
Произошло это так:
Я работал в музее у Н. В. Богоявленского (практические занятия первокурсников) и посещал семинарии Зографа; семинарии заключались в следующем: кто-нибудь из студентов, усаживаясь рядом с Зографом, делал устную сводку по беспозвоночным; мне достались «простейшие»; вскоре, после моего реферата на семинарии Умова, ко мне подошел брюнетик-студент и представился:
– Зограф.
Это был сын профессора.
«Юра» Зограф упорно оказывался среди нас; так мы стали товарищами; он усиленно звал по субботам к себе; так встретился с профессором и с его зоологическим кружком молодых ученых (Беккером, Грациановым, Кивокурцевым, Н. В. Богоявленским); с этого посещения возникло общение; через сына он знал о моих интересах к проблеме клетки и ткани: стал снабжать меня книгами из собственной библиотеки; к своему реферату о «мезозоа» имел я в распоряжении специальнейший материал; после этого реферата профессор стал мне открывать перспективы работы моей у него; с начала второго курса он даст инструмент и отдельную клетку: мы-де заработаем в теплом соседстве с сыном его, Юрой, и с однокурсниками, введенными в наш кружок: Воронковым и Гиндзе; не зная еще стиля работы при Зографе, я был в восторге; и на столе у меня появилися великолепные томы зоологической серии Ива Деляжа (том «простейших», том «целентерат» и так далее);35 будущее представлялось радужным; и настоящее радовало; дружба с «Юрой», Зоологический музей, квартира профессора.
Темные пятна выплыли скоро, когда обнаружилось на журфиксе профессора, что я – горою за Брюсова, Врубеля и Метерлинка; я помню смущение паствы профессора, когда я поднял перчатку его в виде злого смешечка: с тех пор появились какие-то доброзлобные отношения меж нами; фавническим козлитоном каким-то подшучивал он надо мной; на журфиксах я ближе узнал интереснейшего, чуткого к искусству Н. В. Богоявленского, с которым мы сходились на Врубеле; мои «вкусы» еще не мешали профессору, пока я был первокурсником; а с начала второго курса добровидные побадывания меня Зографом приняли ожесточенный характер: он, по-видимому, побаивался моего влияния на сына.
Получив свою клетку и обосновавшись в музее, не знал я: что делать? Ни тебе «простейших», ни указаний, ни плана работ; сложа руки, сиди иль всецело отдайся отцу-покровителю: он тебе усик жучиный покажет; сиди, методически крась, разрезай, нюхай – до окончания университета; и главное, не приставай с теоретическими интересами; ведь в порядочной научной семье есть свой тон; нарушать его не полагается: так средь «овец» препослушных, пасомых профессором, я оказался волчонком в овчарне; свист змеиный сквозь ласковость внешнюю явно теперь излетал из хихика; а я получил впечатление, будто рука моя протянулась за грецким орехом: разгрыз его: вместо ядра – одна горькая гниль.
Зограф мне стал неприятен: и я наблюдал удивительную завистливую пустоту, суетливую мелочность всех выявлений патрона; особенно было противно увидеть гонение на превосходный учебник Шимкевича36, вышедший вместе с огромным болтливым учебником Зографа;37 нас заставляли работать по Зографу: протестовал я, крича:
– Превосходный учебник Шимкевича: очень удобно работать, имея его под руками.
Все – кончено.
«Декадентство» еще мне прощалось: похвалы же Шимкевичу Зограф не вынес; в ответ вырывались на лекциях Зографа злые сарказмы «о некоторых, которые» увлекаются Метерлинком; после же лекций с особой слащавостью разложившегося чернослива профессор обращался ко мне с преласковеньким фальцетто:
– Борис Николаевич, – как?
В этой ласковости было что-то несносное; я же думал: да, ласков, но потому, что отец мой – декан!
Я подумал и бросил свою привилегию, клетку, в вороний нос Зографа; увы, – у Мензбира не было уже рабочих мест; изгнанный из музея, ютился он тесно; и очередь на рабочее место огромна была; так я стал беспризорным; так интересы к «простейшим» без микроскопа оказывались интересом впустую (а к чистке кишечников я испытывал равнодушие); я понял, что авантюра моя с зоологией, предостережение – не забывать восьмилетки: «естественный факультет, – думал я, – предварение к занятиям философией».
Увлекшися «простейшими», я это забыл: но если бы продолжал увлекаться биологией, то оказался б в тяжелом самопротиворечии, оставленный при университете, с неизжитыми художественными и философскими наклонностями.
И я сосредоточил внимание на химии, но уже не как специалист, а как просто изучающий метод работы для своего плана: естественное отделение факультета без практики – нуль; химия оказалась мне практикой для теории моего прохождения предметов.
3. ЛабораторияЛаборатория – место встреч, подачи заявлений (там находилося субинспекторское отделение), чаек (в раздевальне швейцар открыл чайную), непередаваемый запах: не то леденцов, не то медикаментов, иль равнодействующая из воней (изонитрилы воняли тухлятиной рыбной) и ароматов (эфиры); бело-серое двухэтажное здание: справа – дверь в субинспекторскую; слева. – малый прилавок с колбасами и калачами; кипит самовар: за столом сидит растерзанный химик; пара и тройка, назначившие друг другу свиданье, покуривают; вверх две ступеньки, ведут в полукружие коридора: направо, налево; Налево аудитория и лаборатория качественников, кабинет Зелинского и ветвление коридоров, с лестницами вверх и вниз (в темноту подвального помещения, где работают специалисты, где комнаты с приборами, стеклами, где стеклодув выдувает стеклянные колбы и где студенты-органики дуют себе для забавы колбченки); коридор направо уводит под лестницу, бегущую вверх, где помещение для органиков, количественников, и специальные, как-то: комната для приготовления воней, с открытою форточкой; я там корпел над ужаснейшим веществом; и не мог вещества приготовить: исплакался весь, исчихался (эфир обдирал горло, легкие, нос); и оттуда ход на площадку (на крыше), где вони отборные в небо взлетали.
Потом перестроили лабораторию.
В коридоре – шубы, пальто, тужурки и фартуки.
Здесь первокурсником браживал я с волосатым студентом, Н. Сусловым, проповедуя нормы эстетики, и еще в помещения внутренние не проникая.
Периодическая система элементов меня увлекала, а не лекции по неорганической химии, откряхтываемые Александром Павловичем Сабанеевым; он удивлял в годы детства своею огромною, рыжею бородою и статностью роста; и я не понимал: как, обладая такой бородой и сложением, он не поколотит Марковникова: теперь, ставши худым и седым, он забавлял ситуациями, происходящими между ним и его лаборантом Григорием Дмитриевичем Волконским; Григорий Дмитриевич имел странный вид; он являлся в дверях так, как будто он прыгал чрез обруч, заклеенный папиросной бумагою; и нас, и себя самого озадачив таким появленьем, сидел оголтелый; вид не соответствовал неглупым высказываниям: вид шутника; и ходил он в гороховом; желтая бородка, огромный обветренный, криво заостренный нос; коричневатые щеки; движенья – нелепые; перед каждою фразою некое нечленораздельное высказывание организма, напоминающее – начало ослиного вскрика (полувзрев, полувсхлип); и не знаешь, бывало, смеяться иль плакать; иронизировал он или жаловался – не уловишь: демонстрировал колкостями против ректора и попечителя (он был прогрессивен); и то, что высказывал, было – толково и едко.
Он вечно спешил, прибегая испуганно с шапкой в руке, никогда не садясь, лишь присаживаясь, вскакивая, чтоб, пересевши к кому-нибудь, громко всплакнув иль взревев, унестися с несчастнейшим видом, не соответствовавшим наблюдательному остроумию; вид – мистера Дикка, героя Диккенса;38 жесты – шута; содержание слов – саркастическое.
Редчайшее несоответствие между словом и жестом; купался же до коры ледяной; говорил всем он ты: половину профессорской молодежи он вынянчил; можно было подумать: хитрец; был – добряк и простяк; отличался редчайшей способностью перепутывать все на лекции Сабанеева неудачным показыванием химических опытов; стоял на лекциях по правую руку профессора, толок смеси, вертяся и взрывая под носом его; мы ждали обычного добродушного крика профессорского:
– Ну же, Григорий Дмитриевич!
Григорий Дмитриевич, подпрыгивая и всериоз развозяся, в гороховом всем, нас оглядывал с торжеством (вот покажет), бросался поджечь что-нибудь; и – не было взрыва, коль взрыв был в программе; но разлеталася вдребезги колба с ужаснейшим грохотом, коли в программе следовала тихая реакция; забрызганный жидкостью Сабанеев в бессильной досаде бросался к своему лаборанту и замирал; то ж проделывал и Григорий Дмитриевич в отношении к профессору, глядя на него укоризненно:
– Я же говорил: вы сами видите?
И между ними под нашу бурную радость открывалась всегда крылатая перебранка:
– Эка!..
– Сами вы!..
– Тем не менее… однако ж…
Не сразу возобновлялася лекция; лаборант и профессор обиженно подставляли друг другу спины; минут через пятнадцать согласие водворялось; Григорий Дмитриевич, выставив нос над прибором, подмигивал словам Сабанеева с невероятным сочувствием; и профессор нежнейшие взгляды бросал на него; готовились новые смеси, – до нового:
– Ну же, кхе-кхе, Григорий Дмитриевич, – и жест к нам: – Хотя я, кхе-кхе, смешиваю оба раствора, кхе-кхе, тем не менее… однако ж… Ну что же? Григорий Дмитриевич?
Григорий же Дмитриевич с неожиданным вовсе, с ослиным подревом:
– Нет фосфора, Александр Павлович!
И оба, профессор и лаборант, бросив лекцию, опять начинали метаться и бегать, отыскивая пропавшие реактивы; они находились; профессор, оглядывая нас, покряхтывал:
– Тем не менее…
– Однако…
– Же…
Вместо простого «однако» – «тем не менее однако же».
Коль удавалась реакция (случай редчайший!) – о, как сиял Сабанеев! Волконский оглядывал нас Наполеоном.
В лаборатории он казался беспроким; но был очень «проким» в Большом театре, заведуя там пиротехническими фокус-покусами, – вроде творения «огней» при «Валькирии», или устраивал пожары Вальгаллы;39 и, может быть, производил искусственный гром. Думается, был пиротехник скорее, чем химик; но химию где-то преподавал; даже составил учебник: судя по склонностям, мог бы увлечься пусканием змеев и конкурировать с диккенсовским змеепускателем, мистером Дикком; относить это нужно лишь к форме занятий, а не к содержанию: мистер Дикк влагал в дело свое очень странную мысль.
Александр Павлович лаборатории изменял с… рыболовством; и в союзе с солдатом химическим проводил все свободные дни на реке, перед удочкой; очень любил жену свою, его потчевавшую сладчайшими булочками.
И продружил лет он тридцать с Волконским; бурные объясненья на лекциях не изменяли сердечнейших отношений меж ними…
Вот и все, чем означился курс Сабанеева; да – вот еще: удивил на экзамене; можно быть добрым, но – все же не столь; можно явно подсказывать, но – не рассказывать за студентов билеты: себе самому.
– «А не знаете ль формулы серной… кхе… кхе… кислоты?»
И сейчас же: себе самому же:
– Аш два… Эс… кхе… О… четыре. Прекрасно!
И так же забавен был семинарий по химии у Сабанеева; его вел мой старинный знакомец: еще поливановцем помню его; Алексея Сергеевича Усова, сына крестного отца, сабанеевского лаборанта, прекраснейшего Гогенштауфена, по завереньям Лясковской, в лаборатории было найти невозможно; он отсутствовал; являлся же – раз в неделю: на час; и – опаздывал; длинный, всегда с перепугу моргающий под очками, с перепугу на нас не глядящий, а мимо, вспыхивая от стыда, как псаломщик, отбарабанивал коломенскою верстою задачку, просто считывая ее с бумажки при записывании на доску; записав, остолбеневал, не садился; ужасно блистал очками; мы тотчас сбегались к нему, и просили упорнейше разъяснений, которые очень охотно давал: и – исчерпывающие! Решения списывались с его слов; их собравши, совал в боковой свой карман, поворачивался; и – удалялся: до следующего понедельника.
Несколько решенных задач означали: зачет.
«Сабанеевцы» все – чудаки: рыболов Александр Павлович, пиротехник Волконский, да Усов, Алеша, руководили познаниями в очень крупном отделе крупнейшей науки; если бы не Реформатский и не «Основы химии»40, – то вместо неорганической химии в голове завелась бы пустая дыра.
Какой же контраст с молодцами-«зелинцами»! Прекрасные спецы, до корня владеющие предметом: Наумов, Зернов, Дорошевский, Крапивин, Шилов, Кижнер; и – прочие.
Ассистенты профессоров являли контраст; Волконский и Шилов: прыгающий, взревывающий, разбивающий склянки, – и чистенький, чопорный, аккуратнейший молодой человек, производящий немо сложнейшие и порою опасные манипуляции: ни склянки разбитой, ни порошочка рассыпанного; Зелинский и не посмотрит на ассистента; плечом поведет лишь:
– Готово?
И – шепот Шилова.
Кончено: реакция проведена.
Пролетающий лабораторным коридором (с урока в театр) носолобый Волконский; и над огромным прибором в профессорском кабинете гибеющий Шилов.
Разделение стилей между «органиками» и «неорганиками» простиралось на служителей; служителя Сабанеева, – добродушные, растяпые, неряшливые, мне казались скорей рыболовами, затащенными случайно с реки в эти научные недра; а служитель Зелинского, обслуживающий его кабинет, – интеллигентный поляк, очень-очень подтянутый, выбритый и радикально настроенный, производил впечатление лаборанта.
Профессор Николай Дмитриевич Зелинский читал нам курсы по качественному и количественному анализам, а также по органической химии; если лекции Сабанеева стояли под знаками благодушия и отсебятины, то постановка лабораторных занятий Зелинского стояла под знаком высокой, научной культуры; Зелинский являл тип профессора, приподымавшего преподавание до высотных аванпостов науки: тип «немецкого» ученого в прекраснейшем смысле; не будучи весьма блестящим, был лектор толковый, задумчивый, обстоятельный; многообразие формул, рябящее память, давал в расчленении так, что они, как система, живут до сих пор красотой и изяществом; классификационный план, вдумчиво упраздняющий запоминание, был продуман; держа в голове его, мы научились осмысливать, а не вызубривать; вывести формулу, вот чему он нас учил; забыть: это не важно; забытое вырастет из ствола схем, как листва, облетающая и опять расцветающая, от легчайшего прикосновенья к конспекту.
Знания формул не требовал: требовал – сметки; умения вывести формулу; и ответить ему – значило: только подумать химически, оживить в сознании путь выведения формул; а сбиться в деталях – неважно: тут шел он навстречу процессу мысли, но – при условии, что процесс этот был; не знать – значило: под неумелым карандашиком в цепях превращения углеводородных ядер являлся эфир, не кетон; это и означало: не знать.
Факт смешения формул двух смежно лежащих кетонов – его не сердил.
Он знакомил с процессом сложения и распадения, как с диалектикой; ритмы же метаморфозы вводил он прекрасно в сознание наше; продукты метаморфозы, иль формулы, взятые памятью, менее интересовали его; лекции Мензбира – художественные гравюры, где линии фактов слагали осмысленную картину; лекции Н. Д. Зелинского выглядели пестрейшим орнаментом, запоминаемым просто: многообразие всех вариаций – изменение нескольких простых положений линейных.
Он подчеркивал и пространственную структуру (иль – стереохимию), вылепляя из красных и белых шаров, соединяемых палочками, модельки веществ (характер молекулярного соединенья атомов); структуру порою анализировал с педантичною точностью; лекции не для химиков-спецов могли показаться скучными.
Не в лекциях профессора был центр курса: в лаборатории; лекции вне занятий его – транспарант, на котором начертывались ретуши к рисунку: снимите такой лист с рисунка – штришки; наложите его на рисунке: они изменяют рисунок.
Лабораторные занятия по качественному анализу – обязательны для второкурсников; обязательность была не формальна – реальна: она отнимала не менее полугодия, максимум – год ежедневных сидений в лаборатории; курс – путеводный план при занятиях. Курсы Зелинского прочно врастали в наши лабораторные занятия; лаборатория врастала в курсы; слагалася нерасплетаемость теории с практикой; у Зелинского мы приобретали навык к работе; Мензбиру и Умову можно было сдать экзамен, и не отсиживая в их рабочих ячейках41.
Проходя качественный анализ у Н. Д. Зелинского, мы ходили настоящими химиками пусть хоть месяц; вне этого не могли сдать зачета; он мягко, но твердо гнал нас сквозь химический строй; в воспитании умения хоть немного понюхать научного пороха огромная заслуга профессора.
Курс его был: курс плюс практические занятия; и центр – в последних.
Весьма спокойный, весьма деловитый, весьма обстоятельный лектор, студенту с налета казался он скучным, опутанный кружевом связанных формулок, метаморфозу свершающих; для посещающих лекции он вытыкал препестрейший как будто персидский ковер на пространстве двух лет; таким ценным и цельным ковром, убедительным очень в деталях орнамента, и по сию пору остается мне курс органической химии; к Зелинскому подходили слова:
«По делам судят».
Скромное слово его обстоятельных лекций свершало культурную миссию в наших сознаниях.
Все, работавшие у Зелинского, увлекались задачами, лабораторной техникой, лабораторией, где мы в хорошем значении слова представлялись себе в отношении срока работ и количества их; хоть дана была норма не маленькая, но успешные могли удвоить, утроить ее; никто не препятствовал, не торопил или не замедлял, не окидывал нас оком следователя: посещаем, не посещаем ли лабораторию; учет велся; задача была регистрирована; но стиль прохожденья учебы был нам дружелюбный: и отношения между профессором, нами, его лаборантами в целом прекрасно слагались; лаборатория становилася домом, куда нас влекло.
Каждый за год должен был пройти совершенно конкретную школу; и минимум требований ее в отношении к требованиям других семинариев был, конечно же, максимумом.
Практические занятия по качественному анализу можно было окончить в два месяца; можно было окончить их в семь: управляйся, как знаешь; в течение года-легко проходился курс лабораторных занятий, отнимая в день часа три; при прохождении быстром количество часов увеличивалось; и иные отсиживали с девяти и до четырех, бросив лекции; так иль иначе, – анализ усваивали: разбирались в уменьи работать над отделеньем веществ; лаборанты Зелинского оказывали помощь; но студентам в рот знаний не клали; мы сами осиливали ряд задач от простейших до сложных; мы получали свой стол, шкапчик с необходимыми веществами и инвентарь орудий работы (более специальные находилися в общем пользовании, вытребовались у служителя, получались у лаборанта); студент поступал в переплетение комнат, учился пользоваться приборами, работал то у себя на столе, то под вытяжным шкафом, то в сероводородной комнате; он выучивался и технике работы (до некоторой степени), и той руке, без которой не обойдешься, и сметке, которую не вычитаешь из книги: умению поступать не по букве учебника, а и по собственному соображению; он узнавал, что на практике нет идеальной реакции, что в московской воде найдет кальций, которого ему не всыпали, и что цианистый калий, которым он пользуется, скорее уксуснокислый калий от разложенья на воздухе.
Кроме умения расчленить ряд процессов в картину по-следовательного исследования веществ, надо было уметь научиться: приборам, руке, экономии места и времени, да и поправкам на портящиеся реактивы, которыми пользовались; из всего вытекал ряд конкретных узнаний: качественного анализа не проходили, – проделывали его сами. ХКаждый должен был проделать до сорока, не менее, задачхна определенье металлов и металлоидов. Задача получалась рт лаборанта; ему ж и сдавалась. Два раза Зелинский давал сам задачу (каждому из студентов): одну на металлоиды, другую на металлы и металлоиды; сам составлял смесь, передавая ее студенту; определив ее, студент шел в молчаливейший кабинет, обставленный тканью приборов, где работал профессор со своим ассистентом; здесь студент и давал подробнейший отчет: что нашел, как искал; по форме это была непринужденная и скорее дружеская беседа с профессором, мягко идущим навстречу, готовым помочь; как-то не замечалось: у всякого другого профессора это был бы свирепый экзамен; а у Зелинского экзамен не казался экзаменом оттого, что студент в уровне знания и уменья понять стоял выше уровня требований по другим предметам; и мягкий профессор системою постановки работ крутовато подвинчивал: ведь бросали ж другие предметы для лаборатории; гибение не погибельно было, – весьма интересно; сорок задач, под бременем которых в другом случае восстонали бы мы, проходили цветистою лентой весьма интересных заданий с сюрпризами, устраиваемыми веществами; только, бывало, и слышалось:
«Черт… я прилил соляной, а он не растворился… я в него всыпал, знаешь ли…»
Или:
«Нагнулся я под вытяжной шкаф, а меня как ударит в нос горькими миндалями».
Качественный анализ проходился нами, как приключение европейца, попавшего в дебри леса и убившего там бизона вполне неожиданно.
Кончив университет, вспоминали:
«А помните, как работали в лаборатории?..»
Лабораторная жизнь была жизнь, чреватая впечатлениями, опасениями, радостями: «жизнь», а вовсе не отбывание зачета; чувствовалась умелая мягко-строгая рука Зелинского; и требовательный экзамен-зачет проходил незаметно; не режущим, а дружелюбно внимающим казался Зелинский.
Он выжимал из нас знание, а мы не вызубривали; готовиться к экзамену у него нам порою казалось нелепостью: готовились в лаборатории, в ежедневных буднях, которыми с мягкой настойчивостью обставлял он нас всех; принужденья ж не чувствовали; химию знали лучше других предметов; если бы другие профессора умели присаживать так к прохожденью предмета, то средний уровень знаний повысился бы.
Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко державший преподавание, – таким видится Николай Дмитриевич.
Высокий, прямой, с закинутой головой, отчего над спиною сияла почтенная лысина, с длинными мягкими вьющимися каштановыми волосами почти до плеч и с окладистой бородой (после – стриженной удлиненною эспаньолкой), прямоносый, с мягкими усами, с большими, умными глазами, весьма обведенными синевой, приятно бледный, – неслышно он шел коридорами иль между рядом приборов, порой останавливаясь и разговаривая очень тихо; точно шел он пространствами древнего храма; но в оттенке торжественности позы не было; это была торжественность про себя: от сознания культурного дела, творимого здесь.
Он был красив тишайшей научной думой: и внешним образом производил приятное впечатление: правильные черты лица, очень сдержанные манеры, безукоризненная серая или желтоватая, чисто сшитая пара; кругом настоящими охальниками и выглядывали, и выскакивали студенты, на него натыкаясь; чумазые, разъерошенные лаборанты, черт знает в чем, с прожженными пиджаками, с носами какого-то сизо-розового оттенка (от едких запахов – что ли) его окружали; он, тоже работающий, поражал чистотою, опрятностью и неспешкой инспекторского прохода по комнатам; являясь на лекцию, тихим и мягко приятнейшим баритоном с грудным придыханием певуче вытягивал на доске «альдегидные» цепи свои; так же тихо он объяснялся с тем, с этим.
Когда проходил, то мы естественно присмиревали; праздно не обращались к нему, хоть не требовал он пиетета.
Тишина в нем жила от мысли и пиетета к высокому научному учреждению; в соединении с большою культурностью и с повышенным чувством такта она окружала Зелинского непередаваемой атмосферою.
Неся решение им данной задачи в профессорский кабинет, тихий, большой и опрятный, мы переступали порог кабинета, как переступают исповедальню; из тени поднималась навстречу большая, кудрявая голова, с полосой чисто вымытой лысины, выступало бледное, несколько измученное лицо; и тихий, чуть заикающийся тенор, могущий пропеть баритоном, конфиденциально выспрашивал:
– Ну? Что в…в…в…вы нашли?
Начиналася исповедь, которая и была экзаменом по анализу; вышедшие из кабинета с зачетом на действительном экзамене не спрашивались, а лишь вызывались: профессор, справившись с записною книжечкою, выставлял оценку зачета; студент отпускался.
He-химик, как-то вполне незаметно пройдя анализ, я заработал по анализам весовому, объемному (у ассистента Зелинского – Дорошевского); даже попал в лабораторию по органической химии, сдавши экзамен (в размере государственного) на третьем курсе (на государственном отделался пятиминутной беседою); и оказался в маленькой группе органиков, работавших в тихом, просторнейшем помещении, обладателем каких угодно приборов, хозяином времени; почти – лабораторным жильцом.
И здесь редкое пересечение комнат скорбною фигурой Зелинского, величественно нам сиявшего лысиной, напоминало явление тени отца в трагедии «Гамлет» атмосферою некоторой робости, которую он, не запугивающий, внушал, потому что зоркий взгляд будто не видящих глаз, обведенных явною синевою, все видел, не глядя; и как только студент оказывал талант или сметку, профессор Зелинский уж веял около него, как безмолвная тень; дело кончалось порой похищеньем студента, как Прозерпины, сим скорбным Плутоном: студент провалился с Зелинским в тартарары, как случилося это с Петровским, хорошим химиком, главное, техником, набившим руку и развившим нюх к ведению сложных процессов, который отсутствовал у меня; как пронюхал Зелинский о нюхе Петровского, одного из двухсот, работающих в помещении, куда Зелинский и не заглядывал, – неизвестно: наверное, учуял из недр своего тихого и пустынного кабинета; в один прекрасный день второкурсник Петровский исчез; я нашел его в темном подвале, где в уединенье и мраке, слегка озаряемом лишь горелкою, стал он варить и кипучие, и вонючие смеси профессору, отбиравшему хороших работников и заставлявшему их вести опыты для себя; так студенты временно становились в прямое сотрудничество с Николаем Дмитриевичем.
Позднее А. С. Петровский, прекрасный химик, потерял вкус к работам, мечтая о курсах, не имеющих к химии ни малейшего отношения (о курсе еврейского языка и т. д.); Зелинский не принуждал; но помнил работы случайных сотрудников; встретившись с Николаем Дмитриевичем у знакомых уже в двадцать четвертом году, я весьма удивился, когда он, вспомнив об А. С. Петровском, обратился ко мне с просьбою, чтобы Петровский дал ему какое-то нужное ему сведение о процессах работы, веденной двадцать четыре года назад.
Зоркость и знание мелочей, составляющих лабораторную жизнь, внушали не страх, а невольное уважение перед хозяином лаборатории, тихо пересекавшим ее во всех направлениях. Изредка он устраивал трюки; даст вовсе бесцветный раствор: решаешь, решаешь, – и нет ничего.
– Что нашли?
– Ничего не нашел.
– Как ничего?
– Ничего.
– Позвольте, да что же у вас в колбе?
– Вода!
– А разве вода ничто?
Профессора знал я с детства; был таким же тихим, опрятным и бледным, с удлиненным лицом; длинноволосый и длиннобородый; он появлялся к отцу горько жаловаться на притесненья Марковникова; но в жалобах слышалось много достоинства; и – мягкой твердости; мог же он быть непреклонным: но не было в нем никаких скачков; педаль нажималася мягко.
Окончив университет, я встречался с Зелинским: в концертах, в театрах; он – не замыкался в своей специальности; у него был живой интерес и к культуре искусств, и к общественности; мы встретились с ним в Берлине, в 1922 году; и вместе обедали в ресторане, вспоминая знакомых, «органиков» моего времени; он стал седым; в чертах лица проступила мягкость и добрость, венцом седины, точно лавром, покрывая жизнь.