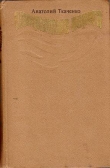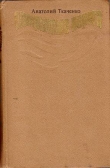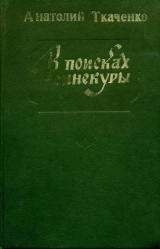
Текст книги "В поисках синекуры"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Втроем вышли во двор, парящий сладко старой волглой соломой, протаявшим, душно теплым навозом у коровника, жирной землей с огорода, свежей, острой зеленью от парника под синтетической пленкой; сновали, грелись у стены сарая куры, петух встретил хозяев бурным хлопаньем крыльев, хриплым пением после холодной зимовки; гусь и гусыня крупной породы чистили перья, охаживали друг дружку, готовясь в очередной раз размножиться крикливым семейством; а по обочине огорода гуляла главная скотина двора – черно-пестрая холмогорка с бело-розовым тяжеленным выменем, она вскинула голову, скосила влажный разумный глаз, коротко мыкнула, также поприветствовав хозяина и хозяйку.
В рубленом хлеву, на чистой сенной подстилке вольготно развалилась огромная свинья, сладостно хрюкая и повизгивая от удовольствия, доставляемого ей сочно тянущими сосцы поросятами; их было десять или двенадцать – округлых, веских, молочно-розоватых, хлев и впрямь напоминал гнездо с кладкой необыкновенно крупных яиц.
– Катя, Катя! – позвала Никитишна.
Свинья важно приподняла тяжелую голову, мигнула слеповато-красным глазком в белых ресницах, чутко засопела нежным пятаком носа, и хозяйка вложила ей в рот горбушку хлеба; свинья Катя сжевала, сладко чавкая, ткнулась носом в руку хозяйки, словно благодарно поцеловав ее, и Ивантьев сказал, не сдержавшись при виде этакой «расплодной» идиллии:
– У хорошего хозяина и свинка – господинка.
Дед Улька кивнул, без малого хвастовства соглашаясь, мол, так оно и должно быть, подвинул Ивантьева вперед, приказал:
– Выбирай, Евсей Иванович, попытай свое счастье. Тут больше кабанчиков, у них ушки поострее. Приглядись, наметывай свой глаз.
Никитишна, приметив растерянность Ивантьева, глазами, носком резинового сапога указала ему на поросенка в самой середине поросячьего ряда, с колко поднявшейся щетинкой на загривке, усмехнулась, как бы молча объяснив: такого на край не вытолкнешь, и аппетитом не обижен, сосет, аж захлебывается. Ивантьев ткнул в него пальцем.
– Молодец, Евсей! Ну, хвалю! – изумился дед Улька. – Наш, природный, соковицкий мужик! – И, быстро выхватив из плотного ряда поросенка, сунул его за полу пиджака, шагнул из хлева, подталкивая Никитишну и Ивантьева. Подняла голову медлительная Катя, грозно хрюкнула, расшвыряла поросят, ринулась к людям, но они уже были во дворе, а дверь закрыта на тяжелый железный засов.
– Забудет, – сказала Никитишна. – Простит... Ульян всегда сам отнимает, мне жалко, не могу.
Поросенка посадили в мешок, проделали дырку для пятачка, чтобы не задохнулся, он притих, напуганный темнотой, и Ивантьев осторожно взял свою первую животинку под мышку. Упругий, тяжеленький, горячий, с неистребимым запахом хлева, поросенок, как ничто другое, напомнил ему детство: холодными веснами такие вот забавные хрячки обитали в кухне, затем их пасли на первой траве за огородом, рубили для них крапиву, а с первыми морозами – забивали, чередуясь дворами. И это были сытные праздники, особенно радостные после скудного квасного лета. Жарилась свеженина, коптились окороки, солились колбасы. Деревня благоухала мясными ароматами, люди, полнясь силами, готовились к одолению зимних стуж.
Шел Ивантьев улицей маленького хутора и вслух читал стихотворение из записной книжки доктора Защокина:
Баба везет поросенка
В переполненной электричке
И кохает его, как ребенка,
По бабьей своей привычке.
Поросенок визжит, корчится.
От мешка полыхает хлевом,
И вагон возмущенно морщится,
Наполняясь единым гневом.
Баба везет, кохает,
Надо – хозяйство зачахнет.
Быть может, одна и знает,
Что мясо сперва воняет,
А после – отменно пахнет!
От своего дома окликнула его Самсоновна:
– Евсейка, чего бормочешь, будто лешак?
Прочел и старухе стихотворение. Возмутилась:
– Дак запрет же возить в электричках! Очумелая баба, што ли?
– Не в этом дело, дорогая, милая соседушка! Глянь-ка, кого я несу. «Надо – хозяйство зачахнет!»
– Ай, Евсейка-рассейка, глупай ты, глупай! Позабыл про глаз мой. Гляну на твое порося – и зачахнет враз. Когда на корм перейдет – покажь, тогда от рахита уберегу, травкой донником будешь подпаивать.
И правда, позабыл. А ведь поверил было и в травы Самсоновны, и в ее черный глаз. Горожанин привыкает к ясности всегдашней, чтоб все как дважды два; но он ведь еще и моряк, а в море часто туманно и зыбко, без веры в свое везение, в милость Нептуна не проживешь, как без суеверий здесь, на этом полувымершем хуторе, среди лесов, полей, болот. Такое везение – соседствовать, дружить чуть ли не с живой ведьмой, побаиваться ее и ждать всяческих чудес!
И чудо тут же свершилось.
Самсоновна пристально оглядела бредущего по улице понурого пса с вислым хвостом, подманила его, пригладила робкие уши, ощупала сильной рукой хребет, сказала:
– К тебе пришел. Бери. Добрый сторож будет.
ЗАПАХ ВСПАХАННОЙ ЗЕМЛИ
Вечерами Федя Софронов пахал огороды хуторянам. Его старенький трактор «Беларусь», свежевыкрашенный в оранжевый, по словам Феди, «международный цвет передовой техники», стрекотал за строениями и заборами, будоража хутор своей напористой весенней суетой; со двора деда Малахова он перебрался на обширный двор Борискина, оттуда к бабке Самсоновне, которая дотемна что-то крикливо наговаривала пахарю – и хваля, и поругивая его (не сработал бы как попадя!), и радуясь сырой потревоженной землице.
Сегодня был вечер Ивантьева. Он заранее разгородил забор, чтобы трактор смог въехать в огород, убрал всяческий мусор на запущенной пашне, вырубил по краям мелкий ольховник и березник, ковырнул раз-другой лопатой: за многие годы отдыха земля одичала, была вязко перевита кореньями трав. Ивантьев ходил по ней, бил в нее каблуком, с осторожной робостью думая: осилит ли легонький механизм эту застарелую почву? И когда громоздкий Федя ловко вкатил горячий «Беларусь», как оседланного коня, в приготовленные ворота, Ивантьев лишь молча развел руками: смотри, мол, сам, работа тут серьезная.
Федя прошагал огород, осмотрел, вернулся к Ивантьеву, спросил, будто удивленно осведомляясь:
– Целина, значит, Евсей Иванович?
– Залежь, – озабоченно ответил Ивантьев.
– Точно, японский бог! Вы, извиняюсь, большой специалист уже. Но залежь крепенькая, после коллективизации не только плугом – лопатой не ковыряли, так?
– Думаю, после войны бросили.
– Опять точно! – Федя наконец улыбнулся, пригладил ладошкой усы и бороду, одарил Ивантьева просторным сиянием глаз цвета жиздринской воды, струившейся синевой за буро-зелеными ресницами сосен, ударил подошвой сапога в землю. – Попробуем, а?
– А возьмет? – кивнул Ивантьев на трактор, полыхавший жаром железа, масла, бензина, подрагивавший в бодром нетерпеливом рокотке.
– Надо бы у себя сначала вспахать...
– Правильно. Я подожду.
– Нет, Евсей Иванович, бывший капитан! Японский бог мне не простит, матросу. Настроился – делай. А риск – хорошо. Рисковать хоть немножко надо, без этого жизнь будет шибко пресная, хуже лепешек у ленивой бабы. Плуг неподходящий – да. Но мы полегоньку, мы со смыслом.
Он подвел трактор к сараю, развернул, опустил плуг, медленно прибавляя газу, направил трактор краем огорода; лемеха углубились, заскрипели, трактор будто присел слегка на задние колеса, напрягся ревом, дымом выхлопной трубы и начал плавно выворачивать пласты лежалой земли – тяжелой, буро-темной, маслянисто лоснящейся. От нее повеяло прохладой, прахом, свежестью глубины, соком резаных кореньев, зеленой травы. Ивантьев поднял комок, размял в ладонях, понюхал: земля, кормившая деда и прадеда, вновь была сочна и сильна. Он обрадовался этому своему пониманию, не подсказанному, не внушенному – всегда бывшему внутри него.
Федя повел обратную борозду, одолел затем еще две и у сарая приглушил трактор – остудить мотор, передохнуть. Выпрыгнул, по привычке всех глуховатых трактористов прокричал:
– Ну, Евсей Иванович, сила солому ломит!
– Спасибо! – пожал заскорузлую Федину руку Ивантьев.
– Если б я эти «спасибо» собирал – у меня б ба-аль-шой короб накопился.
– Это от души. Плата – само собой.
– Плата? – сердито переспросил Федя. – Плата полагается. За такую нервотрепку... Я вот на мелиорации заведу свой механизм и тяну канаву километра полтора, природой наслаждаюсь. А тут крутись по участкам, как единоличник с клячей. На одних разворотах полбака горючего сжигаю. Так что работа – ладно, а за горючку беру, у меня тоже жена, дети. Но... – Федя присел на колоду у стенки сарая, пригласил Ивантьева, – но, Евсей Иванович, с новосела не возьму.
– Да вы что – сговорились? – высказал наконец Ивантьев давно копившееся в нем стыдливое недоумение. – Печь, дрова, поросенок – все, как погорельцу.
– А разве нет? – Федя, дохнув дымком сигареты, прищурился, однако без нарочитой усмешливости.
– Я пенсию получаю – полторы сотни.
– Хорошая пенсия. Но душа дороже. У вас душа выгорела. Мы ее благоустраиваем. А деньги... вон и Самсоновна «Запорожец» купить может.
Ивантьев понял, что напрасно, неразумно, уж очень самолюбиво возмутился: никто здесь не сговаривался, не проводил собрания с повесткой дня: «Оказание срочной помощи новоселу», просто заведено было искони – поддержи пришедшего «на землю», а вернувшегося, блудного – вдвойне, чтобы крепче возлюбил ее.
Они сидели молча, не тяготясь тишиной, слушая клекот воды в водоворотах на Жиздре, всполохи ветра где-то над вершинами сосен, дышали веселым припеком солнца и холодком поздно оттаявшей земли. Все было поздним после гибельно студеной зимы: трава только пробивалась, и скот ею еще не насытился, поля светились разводьями луж; агрономы, не надеясь на сводки бюро прогнозов, сами решали, где пахать, где сеять. Лес зеленел робко, будто опасаясь возврата холодов, заморозки часто белили по утрам землю. Лишь с середины мая солнце повернуло на лето, сухие ветры продули завеселевшее пространство, и люди наконец поверили в тепло, взялись за свои весенние работы. Словно вспомнив, что рассиживать-то особенно некогда, Федя резко поднялся, сказал:
– У Самсоновны примет много. А эта точная: если на Евдокию в марте птица воды не напьется, на Николу в мае скот травы не нащиплется. Трудный годок выбрали, Евсей Иванович. И сад, вижу, погиб.
– Каких-то южных насадил доктор, померзли. Зато антоновка, воргуль живы.
– Эти – да, эти – наши. – Федя покрутил тяжкочубой головой, улыбнулся по-своему – медлительно, чуть застенчиво и хитровато. – Умный Защока, а тут прогадал. Понятно: его наука не сеет, не пашет...
– Другое сеет и пашет.
– Точно: мозги нам засевает. Он для нас – весь мир большой. Верите, когда он здесь, чаи свои распивает, пишет, мыслит – мне лучше в поле работается.
Федя завел свой терпеливый механизм, собранный из запчастей, неузаконенный, самодеятельный, начал новую борозду, протянул ее ровнехонько к дальнему забору, вернулся, крикнул, одолевая грохот: «Везет! Боится – на лом сдам!» – и пошел с большей легкостью – середина огорода была мягче, податливей. Ивантьев взял лопату, принялся разбивать и крошить комья, чтобы потом Федя быстрее, глубже пробороновал, распушил землю.
Уже смеркалось, когда пахарь вывел трактор в переулок, заглушил, отер тряпкой масляные подтеки, затянул болты и гайки, похлопал рукой капот, попинал колеса каблуком сапога; оставшись явно довольным состоянием трудно поработавшей техники, начал насвистывать старинный мотивчик (не в угоду ли Ивантьеву?) «Ой вы, кони, вы, кони стальные...». Ивантьев счел, что Федин рабочий день сегодня наконец-то закончился, и пригласил его к самовару.
Сели под двумя большими яблонями, за старенький, с позеленевшими досками стол, выпили водки, поели отварной картошки, заправленной зеленым луком и свиными шкварками, принялись неспешно пить крепкий чай из больших защокинских пиал, удобных, не обжигающих рук и губ. На скамейку вспрыгнул кот Пришелец, хрипло мяукнул, Ивантьев дал ему шкварок; от калитки пришел пес Верный, названный так по совету Самсоновны, – неизвестной породы, пегий, вислоухий, но и впрямь редкой верности, – явился, был принят, взял под неусыпную охрану двор; подал и ему кусок хлеба, смоченный в сале. За стенкой сарая взвизгивал и хрюкал поросенок Проша, чуя запахи трапезы. Ивантьев выпустил его, и Прошка сумасшедше забегал по двору, разогнал снулых кур у завалинки, белым пятном промелькнул через черную пахоту, поковырял пятачком терпкую, сырую землю, чихнул и, успокоенный, притрусил к столу клянчить чего-нибудь вкусного. Федя обмакнул в молоке корку, скормил ее Прошке с руки, почесал загривок, жестковато прощупал хребет поросенка, сказал с обычной своей полусерьезностью:
– Добрая скотинка, обласканная. Заплатит вам вкусным мясцом, нежным сальцем.
– Как подумаю – резать придется, жалость одолевает.
– Не крестьянин, значит, еще. Меня позовете. Мы любя кормим, любя режем. Главное – дай пожить, еще главнее – убей без муки. Был – и нету.
– У доктора Защокина целый трактат есть. Предлагает человечеству перейти с теплокровной животной пищи на хладнокровную: от скота к рыбе. Разводить хорошую рыбу. Океанской, понятно, не прокормиться, поубавилось ее сильно, да и качества она разного. Когда-то говорили о моряках: весь мир принадлежит им, они жнут не сея, ибо море – поле надежды. И вот уже оказалось, везде нужно не только пахать, но и сеять...
– Верные слова!
– Двойная польза будет: рыбий белок ценнее, легче усваивается, и агрессивности в человечестве сразу поубавится. Так и заявляет: «Стыдно поедать братьев меньших!»
– А рыбка – не родственница?
– Очень отдаленная.
– Японский бог! – Федя рассмеялся, ударил кулаком по столу, из досок посыпалась труха. – И правда: кушаем друг дружку, потому и злые! Защока всех колбасой угостит – сам не ест. Изучает нас, как братьев меньших.
– Все сложнее, Федя. Ему по старости мясо ни к чему. Другим же пока нечем его заменить.
– Не съешь меньшого – не потянешь для большого, так?
Посмеялись и притихли, слушая, как за Жиздрой, в густом ольховнике пробует голос соловей. Щелкнет – пошипит, покурлычет, будто прополаскивая горло настывшим, завлажневшим воздухом. Наконец вывел короткую, удивительно звонкую, чистую трель и надолго замолк, точно испугавшись слишком уж звучного запева. Ему отозвался такой же трелью соловей за излучиной реки. И тогда этот, ближний, словно бы получив полное право на песню, на яростное соревнование, залился таким перебором в несколько разнозвучных колен, что уничтожились все иные звуки на земле: канули в болото лягушки, подавились тявканьем собаки во дворе Борискина, потерялся среди полей запоздалый стрекоток трактора. Светлая, до синих звезд трель – черная, глухая, жутковатая тишина. И снова... резче запахло вспаханной почвой, горькой зеленью трав, листвы, шире, родимее ощутилось непостижимое российское пространство.
– Колдует, – сказал Федя. – Я его знаю, каждый год в том ольховнике. Большой умелец, задурить может – до света не уснешь. И лечит тоже. Я вот когда ездил по Северу и Сибири, к любой птице прислушивался: не соловей ли? У каждой земли – свой голос. А вам, Евсей Иванович, и подавно – только чайки пели.
– Вы на море служили, Федя, я – работал. Вы не успели привязаться к соленой воде. Служба – она всегда как бы над морем, поверху, чуть издали; работа – в самом море. И не всякий, испив горькой водицы до слез горьких, может легко вернуться к сухопутной жизни. Спросите: где труднее? Долго об этом думал, теперь точно знаю: на земле. Вот на этой, другой. Пахать, сеять, выкармливать скот – это не фарта искать. Там – риск, да. Тут – труд и терпение. Там ушел в море – и оденут, прокормят тебя, даже о душе твоей позаботятся, а будет удача – хорошо заработаешь. Тут – ты вечный работник, вечный хозяин самого себя. А это трудно. Море – для легких, земля – для основательных. И еще скажу: красивая сказочка, будто Мировой океан прокормит мировое человечество, начисто развеялась. Кормила и кормить будет земля.
– Вот вы и вернулись, чтобы... – с легонькой, необидной усмешкой проговорил Федя.
– Попробовать себя на главном...
– А верно: пока я бродил – и работы крепкой не знал.
– Маеты – сколько угодно?
– И это верно, Евсей Иванович. А скажите, доводилось вам гибнуть?
– В море постоянно гибнешь, даже в штиль. Что под днищем – никогда не знаешь. Тьмы неведомых существ, тьмы глубин. И суда, случается, бесследно исчезают. Один раз я уже простился с жизнью... Было в середине шестидесятых. В Баренцевом исчезла треска, холодным течением ее оттеснило, и ранней весной нас послали к берегам Лабрадора и Ньюфаундленда. А траулеры были утлые, паровые еще. Тресочку мы поначалу взяли, но налетел холодный циклон, и начали наши суденышки обмерзать. О, Федя, кто этого не пережил, пусть ему никогда и не приснится такое! На глазах обрастает льдом все: палуба, борта, надстройки, мачта, канаты, оттяжки, роба, ломики матросов, которыми они скалывают лед... Траулер грузнет, заваливается, рыба выброшена, палуба – ледяная гора. Люди задыхаются на ветру и соленых накатах, скользят за борт, хоть и привязаны к поручням, надстройкам. Теряли сознание от усталости, бессонницы – и долбили, долбили... Плакали не солеными или горькими – кровавыми слезами... Глохли машины, перевертывались суда...
– Тогда вы и решили?..
– Кажется, говорил уже, что я из тех моряков, которые так и не потеряли почвы под ногами. В каждую экспедицию брал какие-либо цветы, прикреплял банки к переборкам в своей каюте, поливал, ухаживал. Гибли, конечно, – туман, соль, железо... Дольше других держалась герань, эти домашние калачики, раз даже зацвели. Лук, правда, хорошо рос. Словом, возил с собой землю. А тогда поклялся: выживу – вернусь... Раньше обещали богу церковь построить, я – дом поднять на земле. Крепкий дом – благо себе, людям. Сначала дом – потом корабль, самолет, ракета... Как?
– Согласен: дом, – Федя постучал ребром ладони по своей могучей шее. – Вот этим местом почувствовал... Но вы-то долго еще возвращались.
– Пришли от Лабрадора, а наши в Баренцевом хорошую рыбу взяли, без мук великих: течение переменилось, теплое прихлынуло к нашим берегам, треску пригнало... Рыбак не уходит голым, надо было заработать, потом детей поднять, потом из Мурманска в Архангельск переселился, потом ясно стало: без пенсии рыбацкой, надежной, уходить глупо, раз уж море пощадило, как бы само выслугу начислило.
Опять молчали, слушая соловья в ольховнике; ему подпевали ближние и дальние, всяк на свой голос, в полную силу своего умения. Ночь была озвучена оглушающим пением – соловьиная. Чудилось, и звезды крупно мерцают, и речная вода бело всплескивается, и ветер цепко обшаривает черную пустую землю – от соловьиного пения, сотрясающего пространство колдовским, неразгаданным, извечным беспокойством жизни. Федя поднялся, пожал руку Ивантьеву, сказав негромко, что завтра пришлет жену помочь посадить картошку, немо прошагал за калитку, и показалось, его тракторок завелся с меньшей трескотней, а укатил уже и вовсе неслышно.
Ивантьев пересчитал на насесте кур, загнал в сарай поросенка, прилегшего у завалинки, кота Пришельца позвал с собой стращать запечных мышей, псу Верному приказал стеречь двор, на что тот ответил преданным согласием – лизнул руку. В доме было тепло, пахло привядшими цветами мать-и-мачехи, собранными Ивантьевым для приправы крапивного салата, было вяло и сонно. Но длилась ночь долго, хоть и без томления. Просыпаясь, Ивантьев слушал неистовый соловьиный гомон, чувствовал: отзывается ему все в доме – стекла окон, люстра под потолком, иссохшие до звона сосновые стены, и колеблются вроде бы занавески от напора звуков.
Притих Лохмач за печью (убаюканный? очарованный?), молчали мыши. Ночь была бесконечной и освежающей.
Ивантьев встал в шесть утра, по-молодому взбодрил себя зарядкой, обливанием колодезной водой, принялся топить печь, налаживать обед: сегодня придут работнички «обряжать», как сказала Самсоновна, огород, и накормить их надо всеми своими лучшими припасами.
Смолкли соловьи в рощах, солнце подсушило росу, занялся высокий чистый день – из тех крестьянских, которые год кормят. И его огласила иная песня: по хутору шли с тяпками Анна, Соня, Никитишна, что есть мочи выводя: «Это кто же нам счастливую дорожку проложил...» Подоспела на голоса Самсоновна. Во двор Ивантьева ввалились с хохотом, шутками-прибаутками, наряженные в свежие цветные платочки. Самсоновна крикнула:
– Выходь, капитан, матросская команда в юбках явилась!
Смущенный Ивантьев вышел на крыльцо, но не успел поблагодарить женщин за этакое дружное внимание к своей особе, как Соня нарочито тоненьким и сердитым голосом выкрикнула:
– Не, не, Евсей Иванович! Чтоб в морской форме! – Она подтолкнула вперед своих детей, Петю и Верочку. – Хоть фуражку наденьте. А то капризничать будут, работать не дадут.
– Производственность снизим, – подтвердила Никитишна. – А Ульян наказал, что все – по высшей агротехнике.
Нацепив фуражку, Ивантьев рассмеялся своему виду: в поношенной телогрейке, кирзовых сапогах – и новенькой мичманке. Зато женщинам, Пете и Верочке он явно нравился, ему, стоявшему на крыльце, как на почетном возвышении, даже похлопали в ладоши.
– Теперь командуй, – приказала Самсоновна.
Никитишна взялась разбивать, пушить грядки под огородную мелочь, пообещав снабдить капитана-огородника огуречной и помидорной рассадой; Самсоновна, усадив детей у стола под яблонями, присела там же резать клубни для посадки, Ивантьев, Анна, Соня вышли на вязкую, влажную с ночи пашню, взяли первый рядок, быстро приспособились к работе: Ивантьев вскапывал лопатой лунки, Соня брала из корзины картофелины, укладывала их ростками кверху, Анна приваливала лунки землей.
Говорила, смешила, развлекала всех конечно же толстенькая, проворная Соня. Выйдя замуж за громоздкого, чуть медлительного Федю, принеся ему двух синеглазых, беловолосых детей, она, кажется, так и осталась смешливой девчонкой – ни морщиночки на лице, ни грустинки в широких коричневатых глазах. При муже Соня хитровато затихала, а на людях давала волю своей неуемной говорливости.
Она высмеяла бабу Утю Борискину, которая немедля захворала, узнав о решении хуторян скопом помочь новоселу, а сам Борискин выдал ей «липовый бюллетень», чтоб лечилась на личной садово-огородной плантации: и здоровье поправится, и сберкнижка новыми рубликами пополнится. Анну, пытавшуюся защитить бабу Утю, назвала бесплатной домработницей, милой подруженькой, которую надо выручать из кулацкого дома. Затем нарочито мужским голосом напела с десяток страдательных частушек про любовь и сельскую жизнь и выкрикнула, бросив в лунку крупную картофелину:
– Из каждого глазка расти по три клубенька!
– Чо городишь, дурочка? – отозвалась Самсоновна. – Это ж без картохи Евсейка останется.
Анна разгибала спину, опиралась на тяпку, по-своему негромко хохотала, поглядывая на Ивантьева и как бы приглашая к веселью: не правда ли, художественная самодеятельность!
– Тогда, – не сдалась Соня, – от каждого ведра по мешку добра.
– И ето бедно.
– Я вредна? – нарочито не поняла Соня, и всем было ясно, что она своими словечками «в склад» вышучивает всегдашние прибаутки Самсоновны.
– Болтуша, – махнула рукой в ее сторону Самсоновна.
– Зато как посажу – под каждым кустом то яблоко, то груша. – У меня рука легкая, я не сглазистая, я... – Соня запнулась, не найдя слова в рифму, и Самсоновна сердито помогла ей:
– Заразистая.
После общего смеха Соня, забыв о картошке, спросила Ивантьева:
– Евсей Иванович, слыхали, шах бежал из Ирана вместе с шахинькой? Мой Федя читал в газете, один умный американец посоветовал ООН выделить в океане необитаемый остров и там поселять всех шахов, королей бывших, диктаторов разных. И показывать их туристам за деньги. Чтобы сами зарабатывали себе на хлеб.
– Они же опять богатыми станут! – почти искренне возмутилась Анна. – Столько туристов наедет!
Соня призадумалась, пораженная таким вполне возможным ошеломляющим обогащением, и Ивантьеву пришлось успокоить женщин:
– Нет, деньги отдавать нищим народам бывших диктаторов.
– Во, Евсейка правильно рассудил, – похвалила его Самсоновна. – Сразу видно – мужик. У мужика голова всегда луче соображает...
– Не оскорбляй, бабушка, уважаемая старушка, – перебила ее Соня. – Так раньше было, при вашей молодости. Теперь равноправие, и умом сравнялись...
– Услыхал ба Федька, он ба тебе кое-чего сравнял!
– Федя у меня передовой, механизатор широкого профиля, поняла? Он мне газеты вслух читает, пока я ужин готовлю. Недавно про женщину одну прочитал – она и художница, и писательница, и чемпионка по лыжам, и депутатка, и мать четверых детей.
– А четверня небось сопливая с этакой мамой.
– Какая ты, Самсоновна, отсталая! Скажи лучше – мужик так сможет справиться?
– Да чо, дурак он, што ли?
И опять смеялись, дружно работая, вернее, едва замечая работу – она как бы сама по себе ладилась, двигалась. И Ивантьеву подумалось (или вспомнилось?): никакая крестьянская работа не выполнялась без веселья, песен; однообразную, неизменно повторяющуюся люди скрашивали, облегчали посильным словесным творчеством. Всегда, конечно, находились заводилы, запевалы.
От политики и женской эмансипации Соня с необыкновенной легкостью перешла к науке, рассказывала, захлебываясь восторженными словами, как облучают поля лазерными лучами – кукурузу, картошку, пшеницу, всякие овощи, – солнце обогревает днем, а лазерные лучи – вечером, ночью. Двигается вездеход по полю, облучает, и растения прямо-таки на глазах вызревают.
– Неужто? – усомнилась Никитишна.
– Брешет, – констатировала Самсоновна.
– Да это ж по телевизору передавали, сама видела, Федя подтвердит! Сидите в своих халупах с поросятками, цыплятками – никакой электроники вам не надо!
Снова пришлось вмешаться Ивантьеву, объяснить, что действительно существует лазерное облучение полевых культур, а также посевного материала, и имеются хорошие результаты: на двадцать – тридцать процентов больше дают кукурузные, пшеничные гектары. Испытывается лазерный, так называемый монохроматический, красный свет на хлопчатнике, овощах, других растениях. Но бурно радоваться пока не следует: эксперименты ученых – одно, колхозные необъятные поля – другое. И огород Самсоновны богаче родит, чем иное такое поле.
– Правильно, Евсюша, умная головуша! Ето лучами, штоб не руками...
Уже с меньшей охотой поперечила Соня неуступчивой старухе, а потом и примолкла, как и все прочие, начиная утомляться от жарко поднявшегося солнца, парного духа земли, острого запаха зелени с полян и лужаек. Лишь слышались голоса детей: шестилетний Петя пытался оседлать пса Верного, четырехлетняя Верочка ловила кота Пришельца, подманивая его бумажкой на веревочке. Ивантьеву вспомнились защокинские записи о Феде и Соне Софроновых: «Алеша Попович, которому не хватает Ильи Муромца», «Толстушка-хохотушка, а дом ухожен, мужа любит и боится». Стал обдумывать. Выходило так: неглупому, работящему Феде нужен умный начальник, какового, вероятно, у него нет, и вот он сам себе голова, а голова-то у него еще молодая. О Соне тоже метко сказано, но можно прибавить: она остра и сообразительна.
Всадника Петю сбросил со своей холки измученный Верный, Петя сидел, тихонечко ныл, раздумывая, зареветь ему или застыдиться. Верочка наконец изловила кота, однако-тот, бродяжливый, вольный по натуре, нагло царапнул ее и метнулся на чердак. Настало время вызволять детей из непосильной для них самостоятельной жизни. Самсоновна привела Петю и Верочку в тень под яблони, усадила, отерла им концом своего чистого платка запотевшие мордашки, проговорила:
– Слушайте сказку страшную про Митошку и бабу-ягу. А сначала засказ будет, тоже страшенный... Засказывается сказка, разливается по печи кашка, скрозь печь капнуло, в горшок ляпнуло, течи, потечи, идет добрый молодец из-за печи на свинье в седле, топором подпоясался, ноги за поясом, а квашня старуху месит. Он ей сказал; спорынья в старуху! Она как хватит из-за лопаты печь, его печью хлесть, он побежал, портки изорвал... Ну, дале говорить аль хватит?
Дети закивали, чуть ошалелые – в какой уже раз! – от глупой и волшебной путаницы засказа, и Ивантьев, дивясь легкой, прямо-таки песенной речи Самсоновны, попросил:
– Можно погромче?
– Можно, можно, детки большие и малые. Дале так будет. Не в котором царстве, не в нашем государстве жил старик со старухой, и был у них сын Митошка. Ходил он рыбу ловить, и когда он ловил, то мать носила ему покушать. Придет она на бережок и закричит: «Митошка, Митошка, липовый челнок, выйди на бережок, мать есть принесла!» Подслушала баба-яга, подладиться захотела. «Митошка, Митошка, – кричит, – выйди на бережок, дам пирожок!» Отвечает Митошка: «Баба-яга, у тебя толст язык, сходи к кузнецу, пусть перекует». Подладилась хитрющая, изловила Митошку и к себе в дом привела.
Дети слушают, остановив влажные глазенки; Петя, готовый сразиться за Митошку, сжал кулачок, Верочка, подперев ладошками щеки, едва удерживает слезы – так ей жаль доброго и наивного Митошку. Ивантьев, Соня, Анна, уходя в конец огорода, слышат лишь мерный чистый говорок Самсоновны, приближаясь, различают четко произносимые ею слова. А сказка движется своим извечным чередом и ладом. Баба-яга захотела изжарить Митошку, приказала работнице Ульяшке посадить парня в печь; Митошка изловчился и сам поджарил глупую Ульяшку, баба-яга ест мясцо, приговаривает: «Сладко, сладко Митошкино мясцо», а Митошка из-за печи отвечает: «Сладко, сладко Ульяшкино мясцо!» – «Ах ты мошенник! – рассердилась Яга, – мою любимую Ульяшку изжарил!» И приказала второй работнице – Матрешке расправиться с парнем. Митошка перехитрил ее, а затем и третью работницу, Парашку, в печи испек. Ополоумела от злости баба-яга, сама решила сунуть в печь Митошку.
– Истопила печь, три поленницы, стала сажать на лопату Митошку, он опять одну ногу на сошок, другую под сошок, одну руку на лавку, другую под лавку, ей Митошку пихнуть в печь никак нельзя, она и говорит: «Не так садишься-та!» – «Сказал, што лучше не умею, покажи, когда знаешь». Она села на лопату, подобрала свой сарафан, а Митошка покруче как шаркнет бабу-ягу в печь! Она там и сдохла. Митошка пошел домой, а дома отец и мать пирогов напекли, обрадовались и стали жить-поживать лет до восьмидесяти. Все! Сказке конец, делу венец, добрым молодцам урок, молодицам – тоже прок!
Дети, утомленные сказкой, стали подремывать, ибо хорошая сказка – это еще и большая работа для детской души, и Самсоновна увела их в дом, уложила спать. Вернулась, вынула из тазика мокрые тряпицы, развернула, принялась сажать, сеять в бороздки на грядках, вспушенных Никитишной, разбухшие семена гороха, фасоли, редьки, репы, моркови, укропа, петрушки, прочей мелочи. Для капусты, помидоров, огурцов были оставлены особые грядки, их обошла, прощупала тяпкой, рукой Самсоновна, покивала сама себе: мол, мягка, хороша землица, сказала Ивантьеву: