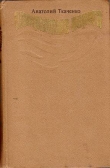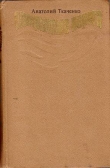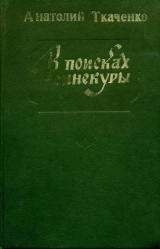
Текст книги "В поисках синекуры"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– Так это живую, на масле дизельном, – с нарочитой серьезностью сострила Анна, явно ища, над чем бы посмеяться, но баба Утя не поняла шутки, возмущенно укорила ее:
– Ты што? Разве можно на том масле?
– Чего тут? – возразил Борискин, не уловив, по своей всегдашней хозяйственной занятости, сути разговора. – В войну на касторке картошку жарили. Правда, слабило сильно...
Пришлось вновь развеселиться всем, выпить «нежинской» под разогретого гуся, а затем начать длительное самоварное чаепитие, во время которого Ивантьев припомнил все же один анекдотический случай:
– На рыболовных судах долгое время поварихами ходили женщины. Потом приказ был – списать женщин, заменить мужчинами. Списали, заменили. Иду я на своем СРТ к Исландии, за тресочкой, тихо, спокойно, экипаж обычно спит на переходах с запасом: грянет рыбалка – глаз сомкнуть не придется. Валяюсь на диване, читаю. Переходы для меня – чтение романов, газет, журналов – всего, чем обогатился замполит в порту. Вдруг без стука впрыгивает матросик, кричит: «Товарищ капитан! Баба на пароходе!» Как, почему, спрашиваю. Пошел, объясняет, в душевую, открыл, а там женщина моется, забыла, наверно, дверь задраить. Лицом, говорит, вроде смахивает на нашего кока. Ладно. Вызываю через некоторое время кока. Является крепенький паренек с волосами под бокс, в брюках, капроновой курточке. Пригляделся. Да какой же это паренек – самая обыкновенная девица! Лицо, правда, обветренное, загрубелое, как у всех, а другое – фигура, глаза, движения... и распарилась только что в душе до девичьего румянца. Словом, слепой и то бы давно заметил. Но не мы, кому заранее было известно: на борту – духа женского нет. Прямо говорю: рассказывай, дорогая, как обманула кадровиков? Всхлипнула, заплакала. Оказалось все просто: фамилия у нее Павлюк, имя Александра. Нарядилась парнем, назвалась Александром, сдала документы; паспорт ее не изучили в обычной укомплектовочной спешке – и прибыла коком на мой траулер. Работала, правда, старательно, еду готовить умела. Говорю ей: придется списать. Залилась слезами: одинокая, ребенка оставила с матерью в какой-то смоленской деревне, хотела деньжат подработать, дом поправить, корову купить (это было в начале шестидесятых), две экспедиции ходила поварихой, потом приказ – списать женщин, решила обмануть, море, работа по душе. Просит не списывать. Вот и представьте мое положение. Как поступить?
– Оставить, обязательно оставить! – сказала Анна.
– Ой-ей, чего бабы вытворяют, – пригорюнилась баба Утя.
– Так она ж похожа на девушку-гусара в кутузовском войске, Дурову по фамилии, – спокойно констатировал Борискин, а баба Утя немедля прибавила:
– Точно уж, дура! И еще хулиганка!
– А дальше? – попросила Ивантьева взволнованная Анна, привыкшая, вероятно, к всегдашним, незлым перебранкам хозяина и хозяйки. – Вы же не списали, правда?
– Предлагаете, значит, оставить?
– Да. Смелым, умным надо прощать!
– У нас, Аня, совпадают кое-какие взгляды... Вы деревенская, извините?
– Даже местная. Только с другого берега Жиздры.
– Вот и моя душа тогда дрогнула: дом поправить, корову купить... Человек в море за этим пошел... И приказал я: считать Александру Павлюк Александром Павлюком!
– Ура! – вскочила, обежала стол и пожала руку Ивантьеву восторженная Анна.
– Строгим выговором отделался... А порыбачили мы тогда хорошо, два плана взяли. Богатой невестой вернулась в свое Курьяново наша Александра. Долго мне письма писала.
– И замуж вышла?
– Конечно.
– И коровку купила? – спросила баба Утя.
– Да. И дом новый построила.
– Тогда за нее, – предложил хозяин Борискин, беря бутыль рубиново-красной вишневой.
Но в дверь постучались, вошла молодая сноха деда Малахова, сказала, что они уезжают, удивилась – почему Анна не готова, ведь договорились ехать вместе. Анна подхватилась, быстро собралась, пожелала всего доброго застолью и уехала на «Жигулях» догуливать Новый год в современной, почти городской культуры главной усадьбе.
А здесь наладилась мирная беседа пожилых людей о дворах, хозяйстве, небывалых морозах этой зимы, которые оказались посильнее, чем в декабре сорок первого года, прозванного немцами «генералом Морозом», о трудной зимовке скота на фермах, фруктовых деревьях – выживут ли? – и прочем тягучем, бесконечном, как сама крестьянская забота.
Баба Утя удалилась кормить птицу, свиней; Борискин подбросил угля в незатухающий отопительный котел, сказал:
– В хозяйстве так: одно продашь – другое купишь. Угля, например, очень много идет.
– Неудивительно, – согласился Ивантьев и спросил: – Как вы смогли так расшириться? Говорят, все на рынок везете, обогащаетесь. Но ведь не только из-за этого спину ломаете?
Борискин задумался, чуть пригорюнившись, проговорил со вздохом:
– Просто душа мужицкая. Фельдшерил – скучал, не мое дело было. Понюхал земли, навозца – на свет белый народился.
– Вас можно раскулачивать.
– По старым временам – да, созрел.
– Вроде и по теперешним нехорошо излишне наживаться.
– Э-э, Евсей Иванович, вы еще не вернулись из своих морей. – Борискин тихо и грустно посмеялся. – В крестьянском деле надо расти, как растет все живое. Так нельзя: две курочки, две грядочки, одна коза... Не берись лучше. Все пропадет. Мужик, извини, не дачник, ему шириться надо, видеть свой труд, иметь большой интерес. Меня хоть завтра ополовинь, да только дом, землю оставь – снова окрепну. Или умру в работе. Подумай, Евсей Иванович, в свободную минутку над этим.
Думал Ивантьев, бодро шагая домой, а мороз сухо, колко, горячо потрескивал, снег под валенками вжикал – аж в зубах ломило, солнце обжигало ледяным пламенем, и сыпался, сеялся, веялся из бездны чистого неба крупный иней, серебря снежные крыши домов, дорогу, черные ели, дымчатые березники, заливая бело-огненным сиянием поля, всю беспредельность зимнего, звонкого российского простора.
ДУХ ДЫШИТ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ
Ивантьев только и делал теперь – думал, читал, образовывался. На письменном столе доктора-филолога, в ящиках стола он обнаружил немало интересных, никогда не виданных книг по истории литературы, агрономии, лесоводству; особенно увлекся он «Растениями в быту»; запоминал целые страницы, читал вслух, делал выписки.
– Надо же! – говорил он коту Пришельцу и еще кому-то невидимому, но постоянно вроде бы присутствующему в светлом, теплом, живом доме. – Обыкновенный одуванчик, который ногами топчут... А что написано о нем! «Его, как и подсолнечник, с полным правом можно назвать солнечным цветком. Если присмотреться, то луг, на котором поселился одуванчик, весной несколько раз в день меняет свою окраску. До восхода солнца он зеленый. Повыше поднимется солнце – весь луг загорится, запылает золотисто-желтыми цветками. К вечеру он снова зеленеет, в это время одуванчик закрывается на ночь, сжимая свои лепестки, словно засыпая, чтобы проснуться вместе с солнцем...» Поэзия, правда? Дальше пойдем: «Древние греки млечным соком одуванчика лечили болезни глаз. Одуванчику исстари приписываются различные целебные свойства. Когда-то его считали даже «эликсиром жизни», придающим человеку силу, бодрость, снижающим усталость...» Хорошо, прекрасно! Но вот, вот главное! Черт меня побери, если это мне хоть во сне приснилось! «Одуванчик давно культивируется в Западной Европе, особенно во Франции и Испании, как салатное и овощное растение. В зеленых листьях и бутонах одуванчика содержатся витамины, каротин, соли, протеин, углеводы; в млечном соке – кислоты; в корнях – полисахариды. Салаты из одуванчика, по утверждению американской энциклопедии плодово-овощных культур, способны «удовлетворить самый высокий вкус». Каков скромняга одуванчик! Да я из него корыто салата нарублю и бочку бутонов намариную! И не надо культивировать, на любой лужайке снимай урожай.
Его неописуемо удивляло, что листья пастушьей сумки в Японии и Индии жарят с мясом, добавляют в супы; сорную сурепку на Среднем Востоке разводят специально для салатов, приправ; в салаты пригодны клевер, подорожник, первоцвет, вероника, крапива; розеточные листья какого-то жерушника болотного «издавна высоко ценились в Греции, у римлян, в Индии. В хозяйствах Парижа жерушник выращивается для поставок на столичный рынок»; некая сныть, растущая чаще всего в дубравных лесах, идет на окрошку, ботвинью, приправы – она излюбленное овощное блюдо башкир, чувашей, татар, мордвы... Ему немедленно захотелось узнать, спросить у кого-нибудь: не забыто ли башкирами, чувашами их «излюбленное блюдо» сейчас? Даже заметку о диком луке он перечитал несколько раз: «В России простой народ ест сырой лук с хлебом, солью и квасом; это придает здоровье, сообщает свежесть лицу и сохраняет зубы».
– Сварю квасу! У Самсоновны возьму квасовый рецепт. Борискин продаст луку. Хлеб и соль имеются. Буду «сохранять» оставшиеся зубы. А с весны начну просвещать хуторян. Собственным примером. Не с голоду же французы едят одуванчики, а японцы – пастушью сумку. И предки соковичей наверняка кое-что знали о лесных и луговых растениях, да потомки начисто позабыли. Суетятся, правда, старухи, сушат травки на лекарства и припарки.
Пошел к соседке Самсоновне поговорить, пообщаться. Встретила она его у двери крикливо, удивленно:
– Вот легкай на помине. Я ж до тебя собралась! – и сунула ему в руки что:то круглое, обернутое холстинным полотенцем. – Смакова это, от Расеи для Евсеи, покушай фруктовый хлеб, оченно полезный. – Она хихикнула по своей привычке, договорила: – От моей души от всеи.
– Ну, вы прямо поэтесса! Каждый раз к Евсею прибавляете новое словечко. Благодарю.
– И тебе спасибо. Таким уважительным соседушкой бог наградил. Давай-ка чай пить будем.
Пришлось раздеться, пройти в горницу, сесть к столу, на котором тяжело громоздилась ваза довоенного изготовления со снопом фиолетовых бессмертников. Невольно подумалось: «А нельзя ли ими супчик заправить?..» Развернул темную булку смаковы, пахнущую кисловато, рябую от семечек малины, спросил:
– Что-то слышал о фруктовом хлебе, но смутно представляю...
– Да что представлять? Варю с яблоков, смороды, малины. Раньше, Евсей, и стекла не было мариновать фрукты, сушили, значит, да варили, навроде консервов своих. Теперь не умеют, хлопотно. А смакова, я тебе скажу, оченно полезна – что от желудка, что от простуды. И заместо сладкого к чаю – зубов не попортишь.
Самсоновна принесла на тарелочке ломтики смаковы, заварила две большие чашки чаю. Густо заварила, она пила чай крепкий – «для силы и веселого карактера», да и сама была хоть и сухой, морщинистой, однако крепкой еще, лупоглазо зоркой, носато хищноватой, не жаловалась на болезни. Таким был и дом ее: стар, прочен, прост, безунывен. По стенам – застекленные фотографии всех родных и близких со времени появления в России фотографического дела, в красном углу – икона закопченная над оплывшей воском лампадкой; комод, шкаф для чистой одежды, на подоконниках – зелень цветов, пол устлан тряпичными пестрыми ковриками. И бедно, и как-то несокрушимо надежно; произойди в мире любые потрясения, исчезни автомобили, телевизоры, небоскребы из стекла и алюминия, а дом Самсоновны останется таким же, ибо все здесь вековечно, выверено полезностью, легко восстановимо.
Смакова была резко кисла и сладка, припахивала медом, и, как ни пытался Ивантьев сравнить ее с повидлом, вареньем, сухофруктами, ничего не выходило: вкус был неповторим, объясним – одним словом, «смакова»: и смак, и мак, и прочие сладости в нем, кои можно только смаковать.
– Вкусно, – кивнул Ивантьев.
– Дохтор Защока сказывал: попью чайку со смаковой – всю ночь пишу-думаю, бодрительный фрукт.
– Я только что читал его книги про растения разные, огорчался, что многое забыто, а у вас вот фруктовый хлеб, травы, вижу, насушены, и весной вы зелень дикую берете, наверно?
– Крапиву. Щавель на грядке всходит.
– А эти – одуванчик, подорожник, пастушью сумку?
– Для лекарствов.
– Во Франции, Испании – блюда готовят.
– Ресторанныя?
– Да, и ресторанные.
– Хи-хи, Евсейка! – искренне развеселилась Самсоновна. – Ты еще в этом деле – простейка. Возьми одуванчик, спробуй – молочко горькое, как полынь. Штоб приготовить, мочить листики надо, а то отваривать да приправлять разно: уксусом, перчиком, сахарком, майонезом вашим. Тогда, может, покушаешь. Да и то если французом шибко захочешь сделаться. Брали, Евсейка, чего полекше, побыстрее сготовить. Весной-то, летом когда было блюда вкусныя придумывать?
– Ну, клевер, он не горький, коренья разные?
– Клеверов цвет ребятишки и теперь кушают, корешки цветка сараны – тож, кислицу еще... А што правда, то правда – много всего позабыли. Хорошо, хочь на лекарства начали собирать, таблетками налечимшись. Интересуешься травками – одобряю, оченно доброе дело. Дам тебе зверобою, мяты, стрелолиста, бессмертника, расскажу, чего для чего. И этих, на кушанья, дам. – Старуха пошуршала в своих мешках за печью, вынесла две связочки сушеных растений. – По-нашему, называется тенник и копытянка. Тенник – папоротник, значит, его Защока называет еще орляком, говорит, в Японию на экспорт отправляем. Ты вот вымочи сначала, потом суп вари, может, понравится. Копытянку растирают сухую и, будто перчиком, посыпают свои блюда ресторанныя, раз хочешь дикого овоща. А травки я тебе покажу, рада буду. Мои-то, одры городские, смеются: отсталость, толкуют, в век космонавтов. Ничего, думаю, застареете – припомнятся вам зверобои, валерианы.
– Вы правы, Самсоновна, дорогая. Не смеяться надо – слушать, учиться.
– Я вот и глаз отвести умела, и зуб заговорить. Борискин против меня борьбу вел, знахаркой обзывал. Я ему доказала. Одного ребеночка лечил, лечил по науке – толку никакого. Я вижу – напуганный ребеночек, сказала матери, штоб ко мне приводила. Неделя прошла – поправилось дитя. Дурной глаз в нем переглядела, душеньку его пуганую утешила. Защока говорит: никакого колдовства – внушение, наукой доказано. Теперь Борискин сам ко мне ходит, а тогда кричал: ты докажь, как делаешь, чтоб описать можно было! Писак газетных подсылал. Рази могу рассказать, если сама не знаю как? Умела – и все.
– Забыли? Отказались?
– Преследывали. Зареклась.
Ивантьев едва не усмехнулся, услышав «преследывали» – слово, чуждое лексикону Самсоновны, нарочито усвоенное ею. Однако не нашел скорого, вразумительного ответа. Сам бы он охотно пришел на бабкины «заговоры», «отводы», но верить в это при нынешнем уровне медицины вроде бы стыдновато. С другой стороны, признан, существует лечебный гипноз. Почему же горячим, темным, упорным глазам Самсоновны не обладать гипнозом? Внушать она умеет, да еще как! Всякий раз согласишься, поддакнешь ей, и любое ее желание выполнишь: копал картошку, чинил сени, латал забор... Хуторяне откровенно побаиваются Самсоновну, а молодежь, колядуя, как заведомой ведьме вредит ей. Но Анна пришла потом, извинилась... Характера, властности старухе не занимать, и детей своих наверняка сама отправила в город, по всеобщей моде; не захоти она этого – все бы сынки и дочки около нее гнездились. Хватилась, конечно, да поздно: «одрами городскими» стали. Вот и прозвала их едко, с явным намеком: как там ни подстраивайтесь, а настоящими горожанами не будете, имея сельские души.
Подумал так Ивантьев и вновь поразился внезапной мысли, глянув на хмурый, бородатый, белоглазый лик иконы: уживались же как-то знахарки, ведьмы – чертовы подружки – с иконами в доме, верой в душе? Самсоновна проследила за его взглядом, сказала:
– Никола святый. Соковицкий угодник. У нас и престольный на Николу.
Спрашивать ничего не стал, простился, ушел. Несколько дней уяснял для себя, постигал духовную сущность села. Чего только здесь не намешано! От языческих страхов до Христа, от домового до газеты и телевизора. И попробуй что-либо изгнать силой – увязнешь в неразберихе. Лишь время меняет привычки, верования. Почему же все-таки так целен, прочен сельский человек? Как ни мозгуй, выходило одно: жизнь на природе, труд, размеренный сменой времен года («по весне паши, по лету спеши, по осени пляши»), взаимосвязанность и взаимозависимость («переборет народ любой недород») определяли нравственную, моральную стойкость крестьянина. Бог нужен был ему для дела, пользы: надзирает, дурные помыслы угадывает. Нечистая сила – тоже: вредит, а ты не плошай, перебарывай ее. Впрочем, все это «глубокомыслие» он оставлял на праздники, свободное время, коих у него было немного, как у самой природы.
Ивантьев трудился с утра до ночи, что поначалу его удивляло – столько в доме и во дворе нескончаемого дела! – а потом начал привыкать к деревенскому быту: вставал пораньше, топил печь, готовил завтрак, ставил щи на обед, мел, прибирал кухню и горницу; кормил кур, чистил во дворе дорожки от снега: в тихую погоду надевал старенькие широкие лыжи доктора Защокина и шел рубить жерди для поправки изгороди вокруг огорода: чтобы не портить живого леса, выбирал тонкие сухостоины, их и тащить легче. К концу февраля морозы ослабли, гуще повалил снег. Ивантьев принялся обстраивать, утеплять вторую половину сарая: дед Улька пообещал дать поросенка от своей породистой, огромной свиньи Дуни. Первое время, понятно, придется дома подержать нежную скотинку, но в мае, как только отойдут ночные заморозки, можно будет переселить окрепшее порося в персональную квартиру.
Конопатя дыры меж бревен, он не услышал стука калитки, шагов по скрипучей дорожке и поднял голову, когда кто-то загородил свет в проеме двери, хрипло сказав:
– Добрый день, дорогой Евсей Иванович! Вы ли здесь трудитесь?
Ивантьев узнал по голосу доктора Защокина, но подумал, что ослышался, – неужто рискнет старик на такое дальнее для него путешествие, да в такую зиму? – и пошел навстречу, гадая, не дед ли Улька вышучивает его, а перешагнув порог, едва удержался от желания обнять и расцеловать маленького человека в кроличьей шапке, меховой куртке, теплых ботинках – доктора филологических наук Виталия Васильевича Защокина. Это был он. И бородка заиндевела, и очки заплыли матовостью, как окошки зимнего дома, и улыбка сухонькая, прежняя, но словно бы застывшая на морозе. Ивантьев потряс ему холодные ладони, взял решительно под руку, повел в дом, где сам, не давая старику опомниться, раздел, разул, дал шерстяные носки взамен отсыревших вигоневых, и затеял ставить самовар. Именно самоварным чаем ему хотелось угостить для начала дорогого гостя.
Защокин обошел дом, все осмотрел, вернулся на кухню, сел к столу, проговорил негромко, точно опасаясь кого-то разбудить:
– Значит, Евсей Иванович, дух живет, где хочет?..
– И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, – досказал Ивантьев в тон гостю. – Так, что ли?
– Да. И еще скажу: дух живет в человеке, с ним приходит и уходит...
– И слышать его может только человек...
– Он же может знать, откуда приходит и куда уходит дух.
– Дух – душа?
– О, нет! Сначала душа, потом мысль... Душа и мысль есть дух, который живет, где хочет.
– Сложно для меня, Виталий Васильевич.
– Дом был мертв. Вы оживили его. Он вас принял уже?
– Дом – да. Домовой тревожит... извините, в вашем образе.
– Это не я. Кто-то мудрит, баламутит домового, он шалавый, наш домовой, – столько переменилось жильцов, никому не верит. – Защокин повернулся, погрозил пальцем в сумерки за печью. – Слышишь, Лохмач? Тебя обогрели, обласкали, а ты мелко хулиганишь. Пришел хозяин – возрадуйся ему. – И доверительно Ивантьеву: – Тут до меня разгульная семейка жила – пьянки, дебоши. Вот он и свихнулся, веселия хочет, тарарама. Может, и алкоголиком стал. – Снова в сумерки за печь: – Приказываю: шкуру мою зря не трепать!
Они вместе расхохотались, обрывая таинственную, без уговора затеянную игру, и Защокин, утерев платком слезящиеся глаза, проговорил уже серьезно:
– Приехал вот, Евсей Иванович. Не мог не приехать. Морозы были – еще терпел... А тут прямо-таки потянуло: как там мой квартирант, не замерз ли, не оголодал? Едва сумку довез с колбасой, мясом... Молодец вы, Евсей Иванович, не думал застать вас в таком благополучии. Печь, чистота, самовар, дрова наготовлены...
– И курочки скоро занесутся, и поросенка возьму. А самоваром наградил меня Федя Софронов. Смотрите, тульский, девятьсот первого года, с медалями. В металлоломе откопал. Говорит: зачем механизмы покупать, когда столько запчастей валяется.
– Да, японский бог, хваткий парень, хоть на вид и акселерат, как прочие его современники. Тракторок не реквизировали еще?
– Стоит в сарае. Зимой он мотоцикл гоняет на свою мелиоративную базу. Заходит. Скучновато, жалуется, снегозадержание да ремонт техники. Как он мне помог!.. И все будто истосковались от малолюдности... Зовет телевизор смотреть, а мне тишины, дела какого-нибудь хочется. Взял у деда Ульки пилу, стамеску, рубанок, хочу табуретку смастерить.
– Так вы не знаете – в Иране революция.
– Что-то Федя толковал...
– Шаха сместили. Понимаете – шаха! Воистину народ восставший неудержим. Ведь шах и мистикой не брезговал, чтобы доказать свою духовную, предначертанную аллахом связь с народом. Говорил, общается с подданными экстрасенсорно – на расстоянии, видит каждого, знает его мысли, радости, беды. Но конечно, тайную полицию имел мощную. На аллаха надейся, а страх нагоняй!
– Республика будет, что ли?
– Исламская. Да ведь аятолла – тоже вождь, только религиозный... Не думаю, чтобы исламское фанатичное единодушие, ненависть к западной цивилизации принесли блага стране.
– И получается: долой диктатора, да здравствует диктатор!
– Иной.
– Но не изобрел же он исламского автомобиля, катается на западном?
– Вот именно. Надо не сталкивать лбами богов, а самим брататься. Цивилизация все-таки для всех едина, определена самой природой – на квадратном колесе не поедешь. И многоженство Магомета не святее аскетизма Христа. Объединимся – спасемся.
– Спасибо, Виталий Васильевич. Вот я и просвещен уже. У меня ведь многолетняя привычка: на судне почту получаешь раз в несколько недель, изучишь кипу, ждешь следующей. Я и тут вроде бы ждал почты с Большой земли.
Защокин кивнул, усмехнулся, набил трубку табаком «Каравелла» из пластикового пакета, пустил по кухне синий ароматный дымок, в который Ивантьеву захотелось окунуть голову – так потянуло закурить. Плавая, он много раз бросал курить, опасаясь застарелого бронхита, но так и не расстался с сигаретами: в море табачный дым тоже частица земли. А тут, захваченный новой жизнью, дыша лесом, травами, запахами двора, он и не вспомнил о табачном опьянении. Лишь сейчас, при домашнем благоденствии, повлекло затянуться разок-другой; дым во все времена скреплял мужскую дружбу.
– Глотните, – предложил Защокин, заметив страдания давнего курильщика, и протянул трубку.
– Устою.
– Тоже хорошо.
Пили чай из красно сияющего медью самовара; он грел им руки, лица; он переливал свой жар в их тела, да еще посвистывал легонько, поощряя к беседе. Смаковали смакову. И маленький, лысый, уютно неторопливый старик, доктор-филолог Защокин, говорил, переходя от мысли к размышлению по внутреннему наитию, помогая молчаливому Ивантьеву, морскому каютному бирюку, тоже говорить, мыслить, а то и спорить, ибо какая беседа при полном единогласии? Да и не бывает двух абсолютно равнозначных индивидов, иначе прекратилось бы всякое движение и развитие в природе. И шутить не забывал Защокин. Впрочем, шутил он всегда, слушающему его надо было самому отсевать серьезное от шутки.
– Помните старую мудрость, Евсей Иванович? Умный шагает вместе со временем, сверхумный опережает время, хитрый старается использовать время, глупый всегда поперек времени... Вы почувствовали: пошла обратная волна, пусть слабая, из городов в деревни, к природе, к земле – и вернулись в родной дом. Не схитрить, как дачник, а трудиться. Пример – уже большая польза.
– Ну какая от меня польза? Просто долг перед предками...
– Долг – хорошо. Однако и он как дышло... Это давно знали. У старого русского писателя Фонвизина есть шуточная «Всеобщая Придворная Грамматика». Так вот в главе третьей «О глаголах» написано так:
«В о п р о с. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?
О т в е т. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: быть должным. Я должен, ты должен, он должен, мы, вы, они должны.
В о п р о с. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?
О т в е т. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.
В о п р о с. А в будущем?
О т в е т. В будущем спряжение сего глагола употребительно: ибо само собою разумеется, что всякий непременно, в долгу будет, если еще не есть».
Остроумно, не правда ли? С таким «долгом» лучше, конечно, сидеть в городской трехкомнатной, неподалеку от гастронома.
– Да, остро и умно сказано, – подтвердил Ивантьев. – И о самом придворном этикете метко у Фонвизина, да позабыл...
– За справками обращайтесь сюда, – Защокин привычно стукнул запястьем в свою лысину. – «Придворная грамматика есть наука хитро льстить языком и пером... говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна» и так далее. Но не подумайте, что Фонвизин был таким уж безрассудно смелым низвергателем устоев. Сие в России никому не дозволялось. В «Предуведомлении» он говорит, что Грамматика «частно не принадлежит ни до какого двора: она есть всеобщая, или философская. Рукописный подлинник оной найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор», и уточняет: «вскоре после всеобщего потопа». Так что до вашего двора, Евсей Иванович, сия Грамматика тем более не принадлежит, вам тут некому льстить, разве курочкам с петушком да прочей животинке, если обзаведетесь.
Защокин покопался в сумках, из которых московские продукты были уже перегружены в холодильник, достал тяжеленькую темную бутылку.
– Бренди, по глотку. И тост имеется.
Ивантьев налил две рюмочки. Защокин сказал:
– Будем считать – половина вашего долга выполнена: блудный сын вернулся.
Стало чуть теплее, туманнее, и Ивантьев решился наконец выговорить то, что давно держалось на уме, но все не выпадало для него подходящего времени.
– Согласен, Виталии Васильевич, вернулся. А укорениться, пожалуй, будет непросто. Приезжал ко мне милиционер Потапов, вы, конечно, знаете его, с главной усадьбы.
– Как же! Друзьями числимся. Я ему сигарет махорочных, «сурьезных», как он. их называет, столько перевозил... В столицу приезжая, несколько раз ночевал у меня.
– Он вежливый, да. Дело в другом. «Живет, – говорит, – кто-то у доктора, слышу, а не вижу. Дай, думаю, посмотрю. Ну, нормальный, вижу, солидный пенсионер моложавый. А без прописки все одно не полагается. Оформиться надо». И предупредил: «Ой, трудно будет! Колхозные владения – только для членов колхоза, никаких приписок, продаж посторонним...» Попросил Потапова дождаться вашего приезда, летнего конечно. Он посочувствовал, согласился: запишу временным сторожем. Чайку попили, поспорили о летающих тарелках.
– И что Потапов?
– Видел, говорит, сам, приземлялась на луг за свинофермой. Ночью. Стрелял. Но пуля в стволе осталась.
– Знаю. Как собеседник – так тарелки. Клянется, божится, что трезвый был. Водил меня на этот луг. Какой-то круг выжжен, не то молния шаровая взорвалась, не то метеорит врезался. Приезжали географы, что-то там установили для себя... С инопланетянами ладно, у них прописка внеземная пока, а вас надо устраивать. Потапов прав. Летом и решим. Если не перегорите крестьянством, буду узаконивать вас. Хозяином. Будете принимать дачника?
– Да я вам домик срублю, под соснами, в углу огорода, с видом на Жиздру. Живите, работайте!
– Ну и договорились. А пока сторожите. Кто же откажется от такого сторожа, еще и бесплатного!
Ужинали, опять самоварничали, а когда стемнело, пришла продавщица Анна. Положила на стол хлеб, ветчину, кусок свежего пошехонского сыра, сказала, что видела Виталия Васильевича, шагающего к своему дому, и решила поддержать продуктами двух одиноких мужчин, ибо Евсей Иванович не отоварился сегодня даже хлебом. Ее усадили пить чай, угостили рюмочкой бренди, московскими бутербродами. Анна была одета по-рабочему: в мужском свитере грубой вязки, шерстяной юбке, валенках; волосы туго повязала платком, поверх надела лисью лохматую шапку. Киоск-магазинчик стар, топить – «обогревать зиму», шутила она, надежнее тепло одеться. А стоять за прилавком приходится – нет, не из-за местных жителей, этим бы она сама по домам разнесла, – мимо хутора проезжают леспромхозовские рабочие, возят сено, удобрения колхозники, им требуется «для сугрева и зажевать», хоть прячься – все равно найдут. Но говорливая, шутливо настроенная Анна и в таком наряде выглядела румянощекой красавицей с сельской картины художника Пластова, о чем и сказал ей Защокин, прибавив:
– Аня, вы совсем выздоровели, не Евсей ли помог? – И вдруг рассмеялся, вглядываясь в ее лицо сквозь сильные окуляры очков, будто облучая ими: – Евсей Иванович, гляньте! У нее же веснушки высеялись! Коричневыми снежинками. Ай как мило! И в глазах крапинки. Глаза-то уже зеленью зацвели. Можно считать – все, мы перезимовали!
Ивантьев и Анна смеялись смущенно, Защокин – наслаждаясь каждым вдохом и выдохом, сняв очки, чтобы не свалились, да еще наговаривая: мол, в хороший дом, к умному хозяину должна прийти женщина, так полагается, так было и всегда будет на Руси, потому что «свято место пусто не бывает», тянется к нему все живое: пришла кошка, придет собака, поселится животинка во дворе, овощ на огороде... как же без хозяйки? Хозяйка хоть с другого конца государства, а придет, да вот, можно считать, пришла; правда, бывший капитан в годах, но поседел он не от старости – от соли морской, если его подраить, жиздринской водицей прополоскать, а важнее всего – приласкать, на вторую, сухопутную жизнь сгодится. Так что Анне надо подумать, этаких холостяками не оставляют, и смущаться незачем, побыла замужем, насмотрелась, поняла: «Муж не тот, что картиной писан, а тот, что на роду записан»; и приданое будет – дом подарю...
Посмеиваясь и отшучиваясь, Анна заспешила уходить, Ивантьев проводил ее до калитки, неловко извинился за себя и Защокина. Шел назад с желанием укротить доктора – не ожидал от ученого человека намеренного сводничества, – но увидел старика вдумчиво серьезным, с трубкой у носа. Он хмуровато заговорил:
– Извините, Евсей Иванович, увлекся. Филолог в переводе с греческого – любящий слово. Для меня слово-образ, суть. Слова «дом», «хозяин», «Русь» повлекли образ единения семьи... Семья отмирает в городах, делается сожительством равных, скрепленным лишь детьми, чаща одним, на время выращивания. Как у меня, скажем. Сыну пятьдесят, жене моей семьдесят – и мы все порознь. Квартира – не очаг, вид из окна – не родимый двор, работа у каждого своя. Город делает человека клеткой своего организма, а клетка, как известно, может только функционировать. Урбанизация буквально грянула на человечество, не было времени приспособить ее к себе, и мы затерялись в собственном скоплении. Вот и рвемся в такие дома, на природу, чтобы ощутить себя индивидуумами... Но вы, Анна – иные люди. Посмотрел на вас – и родились те сказанные мною слова. Не смог удержаться: захотелось дома, семьи, единения для вас. Всего, чего сам не имел. Понимаю, красивая фантазия, ну и любопытство, конечно: как это воспримется ею, вами? Не печальтесь очень, Анна менее вас смутилась, женщин такие житейские разговоры не обижают, поверьте мне.