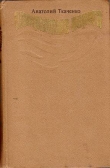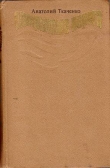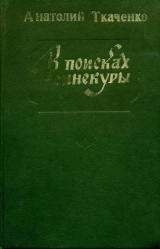
Текст книги "В поисках синекуры"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
5
Время углубилось в зиму, снежную, метельную. Улицы едва успевали расчищать, а переулки замело почти наглухо. К магазинам, аптеке, в сторону Палашевского рынка были протоптаны тропы, очень похожие на деревенские.
Авдей сходит в булочную, молочную, поможет дворничихе размести снег возле подъезда и сидит у стола, читая или просто глядя в заиндевелое окно. Нравится ему зима, что-то истинно российское, извечно живительное есть в ней. Дышишь ее холодом, смотришь в ледяные снега, а на душе тепло, молодо.
И потому еще хорошо Авдею – он стал менее одинок: то Вячеслав зайдет проведать, то жена его Светлана спросит, не надо ли чего в гастрономе попутно купить. Вечером можно подняться на четвертый этаж, посмотреть цветной телевизор (не часто, конечно, чтобы не слишком надоедать), а главное, поговорить с Алиной о ее жизни. Всякий раз она хочет оставить его ночевать, исхитряется, как шутит Вячеслав, «присвоить деда». Однажды пожаловалась Авдею, смигивая на щеки капельки слез: «Они говорят, я их сама выбрала, а тебя выбрать насовсем не разрешают». Как-то Авдей спросил Алину, хорошо ли ей в детсаде, она ответила: «Вовсе не детсад у нас, там никакого садика нет. Детпавильон просто». И непременно упрашивала рассказать перед сном сказку, это стало обязанностью Авдея, ибо сказок отец и мать не знали, да и рассказывать не умели; если что вспоминали из прочитанных книжек, то второпях, лишь бы поскорей усыпить. Алина чувствовала, и Авдей понимал ее: сказка должна рассказываться дедушкой или бабушкой, и больше никем на свете; чтобы говорил очень старый, а слушал очень маленький человек. Только меж ними может зародиться, жить сказка.
Зимой, особенно в холода, Авдею казалось: проживет он еще очень долго и умрет безбольно, никому не досадив своими недугами; лишь бы шла, тянулась, не кончалась сухая, хрустящая снегом пора. Но февраль вдруг сразу отеплел, застонали суставы в исхоженных ногах Авдея, по утрам стало тяжело подниматься с кровати, влекло к дреме, недвижности – немощь усыпляла его. Как раз этого боялся Авдей, помня свою главную старческую заповедь: хочешь жить – двигайся.
Он взял у дворничихи лопату, расчистил площадку в сквере, сбил со скамейки тяжелый пласт снега, сел погреться под ясным, чистым, чуть завесеневшим солнцем.
Была суббота, и вскоре сквер наполнился ребятней. Пришла Алина с лопаткой, удивилась нарочито серьезно:
– Ты уже здесь?
– Ага, на своей даче.
– Почему меня не позвал?
– Высоко живешь. Подумал: из окошка увидишь.
– И увидела.
– Молодчинка. Работай теперь помаленьку, а я подремлю.
Забылся Авдей легко, и грезилось ему все давнее, молодое: он за рулем грузовика где-то в майской, пылающей красными маками степи... он на собственной развеселой свадьбе за год до войны... он посреди богатого южного базара выбирает арбуз... А это что-то другое, вроде плачет Алина... Очнувшись, Авдей долго не может привыкнуть к резкому свету, потом видит: деревню Алины, с ровным рядком домиков, дворами, деревьями-веточками, начисто разбомбили снежками мальчишки.
Авдей поднялся, прихватил лопату, намереваясь распугать дворовых вояк, но в сквере никого не было, кроме Алины.
– Где же они? – спросил он.
– В космос улетели.
– Какой еще космос?
– Так сказали... – И она глянула из-под кулачков нареванными глазами туда, где недавно играли мальчишки: мол, посмотри сам, высокая снежная ракета исчезла с их космодрома.
Авдей сел, помолчал, соображая, как успокоить Алину, и наконец сердито проговорил:
– Вернутся. Космос таких не примет: они землю разорили.
Алина перестала всхлипывать, настороженно ожидая более убедительных слов.
– И мы им уши надерем.
– Хорошенько, да?
– И работать заставим, чтоб сначала на земле все ладно стало. Так?
– Так, – согласилась Алина, снова беря лопатку.
ПОЖАР
Повесть
ГЛАВА НАЧАЛА
1
Сначала можно было подумать, что в межгорном урочище, названном когда-то давно Святым, туристы или геологи развели большой дымный костер – греться прохладными ночами, отпугивать липкий гнус в знойные дни; но уже на третий день стало ясно: загорелась тайга. Дым оттуда наплывал не сухо-древесный, а жирный, с запахами горящей хвои, подлеска, торфа.
Посланный из ближнего лесхоза лесник вернулся, едва волоча ноги, полуослепший от дыма, испуганный: «Все горит, низа, верха, – повторял он. – Видел – вода в речке кипела...» Вскоре была сброшена на очаг загорания пожарно-парашютная команда. Выплеснув все химикаты, испробовав тушение захлестыванием, отжигом, окапыванием, пожарники вышли из тайги более измотанными, чем лесник, таща на носилках сломавшего ногу товарища. Наконец опытный летчик-наблюдатель, ежедневно облетавший задымленное межгорье, уверенно заявил: «Пожар крупный, класса Д, прогрессирует, необходимы срочные, широкие меры».
Тогда-то в квартире Корина и зазвучал тревожно-прерывистый, настойчивый звонок телефона. Он взял трубку, зная уже, что будет говорить с кем-то из высокой инстанции, а значит, его недолгому отдыху, как и прежде, наступит нежданный (и всегда ожидаемый) конец. Голос в трубке был тверд, краток: «Немедленно вылететь на место пожара, организовать штаб тушения, определить нужное количество людей, техники и так далее. Доложить. Выделен вертолет».
Ничто не удивило Корина. Уж такая у него была профессия – специалист по стихийным бедствиям; или, как сокращенно он себя называл, «спецбед».
2
Вертолет, дрожа, звеня дюралевыми внутренностями, повисел над одной поляной, перелетел к другой, но опустился лишь на третью, зорко обозрев ее, более просторную, с ручьем на краю темного ельника.
Корин выпрыгнул в багульник, жестко захрустевший под ногами, шагнул от вертолета, дышавшего бензинным перегаром, помахал, разминаясь, руками, уловил легонькое свежее дуновение со стороны ручья, огляделся неспешно, подумав: пилот умно, со знанием выбрал место – тут хоть поселок строй на долгое и счастливое жительство!
Он умылся холодной зеленоватой водой, в которой заметил блестко промелькнувших хариусов на чистом галечниковом перекате, напился этой тайно журчащей воды и пошел по отлогому склону к середине поляны, где из громоздкой глазастой машины люди выгружали различное снаряжение, негромко, словно чуть испуганно, переговариваясь. Шел, слушал невнятное, сухо-скрипучее стрекотание кузнечиков, почти не оживлявших знойно-пустой июльский воздух, слушал хрустение блеклого разнотравья под своими ногами: «Сушь, сушь...» Это звучало во всем вокруг, от этого занемел, почернел ельник за ручьем, привял лиственничник по другую сторону поляны, поникли березы над желтой горячей осыпью... А дальше он не смотрел. Знал: там горит тайга. Но пока не смотрел, понимая давно: в стихию надо входить неспешно, не себя к ней, а словно бы ее приручать к себе. Иное дело – работать, поспешая.
– Товарищ Корин! – окликнул его пилот, дюжий, смуглый, в белейшей рубашке, синих брюках и лаковых полуботинках парень, бывалый, из таежной десантно-пожарной службы и потому позволяющий себе этакую вызывающую элегантность: блеск при тяжкой, потной работе. – Завтра, товарищ Корин, будем вторым рейсом... ну и так далее. – Он свойски, понимающе улыбаясь, протянул руку. – Устраивайтесь, счастливо переночевать в Святом урочище... Извозчики вас не подведут.
Корин, держа его ладонь в своей, глянул в упор, изучающе, не мигая, спросил:
– Может, пойдешь ко мне, на мой вертолет? Летнабом? Мне там выделяют, кажется, Ка-26.
– С радостью. Жажду героизма! – тряхнул светлым чубчиком на тяжеловатой голове пилот.
– А серьезно?
– Да, – уже без усмешки подтвердил, слегка вытянувшись, парень.
– Скажите на авиабазе – беру вас.
– Есть! – и он побежал к свистящей лопастями винтов машине.
Овеяв поляну знойным вихрем, вертолет косо соскользнул с нее, отчаянно низко перевалил рослый лиственничник и скрылся в мареве, мгле, блеклой непроглядности горячего полдня.
Двое рабочих рубили жерди в ближней рощице, трое расстилали палатку, определяя ей подходящее место, а рыжеволосая, в джинсах, на вид спортивная, девушка, или молодая женщина, настраивала гудящую эфиром рацию, выбросив антенну на ольховый куст.
В аэропорту Корин не успел познакомиться со своей штабной группой, ибо припоздал немного; в тряской, гремящей коробке вертолета не очень разговоришься, и сейчас он сказал женщине:
– Добрый день. Давайте зна...
Женщина быстро выпрямилась, повернулась, засияла легкой улыбкой крупных свежих губ, воскликнула, явно заранее приготовившись к этому:
– Станислав Ефремович!.. Так и думала – не узнаете!
Он оглядел ее медленно, зорко-прищуренно – так он, по своему обыкновению, напрягал память – и, конечно, узнал, но фамилии вспомнить не мог, а женские имена у него всегда перепутывались, и потому выжидательно проговорил:
– Да, кажется, знакомы...
– Я же у вас радисткой была, на Урдане, вместо Малышкиной, которая заболела... Под конец, правда, чуть не сгорела... Такой пожарище потушили! – Она несмело протянула ладошку. – Вера Евсеева. – И рассмеялась: – Видите, руку подаю, а тогда так боялась вас... Глянете, скажете – меня трясет всю.
– И в огонь от страху полезли?
– Рацию, документы спасала. И от страху, да. Подумала, отругаете вы меня, прогоните домой...
Корин усмехнулся, теперь многое припомнив. Это было пять лет назад, на Урданском горном массиве, километрах в восьмистах от нынешнего места загорания, и она, Вера Евсеева, сидя у рации в штабной палатке, не заметила, как огонь по сухой траве подобрался к палатке: неподалеку ударила молния. Все были в зоне главного пожара, отлучилась куда-то и повариха. Задыхаясь от дыма, сбивая огонь брезентовой курткой, Вера перенесла на островок посреди мелкой речки почти все имущество, но едва не сгорела сама – в тлеющем платье бросилась к речке и лежала в воде, пока низовой, беглый огонь, пройдя поляну, не заглох средь топкой низины... Тогда, в суете, запарке Корин едва ли успел похвалить Веру за ее рискованный поступок – героизма, каждодневного, более отважного, было предостаточно – и теперь смотрел на нее с ощутимой виной: конечно, он и к медали ее не представил, девчонку, девчушку, этакое глазастенькое, губастенькое существо, которое воспринималось как-то не само по себе, а в «комплекте» с радиостанцией; некая приемно-передающая часть пожарного штаба...
Вера Евсеева стояла перед ним, стараясь не смущаться, но ее стеснение выдавали закрасневшиеся щеки, и руки она то сцепляла пальцами, то откидывала назад, не зная, как и о чем говорить. Он понимал: это в ней давнее, урданское смятение-воспоминание. Ведь из прежней маленькой Верочки вызрела женщина; хоть она немного прибавила в росте, зато, будто восполняя это, налила себя необыкновенной, видимой крепостью, точно гимнастка-разрядница. Была она столь естественна в своем смущении, так мало угадывалось в ней городского кокетства, что он подумал: нет, эта, пожалуй, не запросится домой.
– А вы совсем-совсем такой же! – выговорила с удивленной искренностью Вера.
– Да? – шутливо изумился Корин. – Стихия вечно молода, вот и мне не дает состариться. Так?
Вера резко кивнула, волосы упали ей на лицо, она таким же резким движением головы откинула их назад, мельком, по-женски запоминающе оглядев его разом всего.
И Станислав Ефремович Корин как бы увидел себя ее глазами: рослый, жилистый, пятидесятилетний, с жестким седоватым бобриком волос, карими, почти темными глазами, с крупным, чуть пригнутым носом, продубленной кожей лица, в рубахе-штормовке с закатанными рукавами, прочных парусиновых брюках и тяжеловатых ботинках на толстой подошве. Страшноват, конечно, И вид его обычно отпугивал женщин (зимовщик, рыбак, бродяга какой-то!). Но хорошо знал он: некоторых привлекает такая внешность, и именно таких они называют своим веским, единственным словом – мужчина. Нечто подобное, вероятно, невольно чувствовала к нему Вера Евсеева. Это умилило Корина, он вспомнил даже что-то литературное: в женщине не умирает восторженная девчонка... И, твердо решив, что с Верой-радисткой вполне можно работать, сказал:
– Начнем. Так?
Она отчаянно тряхнула длинными волосами.
3
На закате, сине-дымном, душном, Корин, взяв бинокль, поднялся по отлогому склону ближней сопки до безлесой багульниковой поляны; отсюда неплохо проглядывалась обширная долина Святого урочища; в конце дня к тому же пожар усилился, словно чувствуя приближение прохладной, росной ночи.
Урочище было плотно задымлено. Лишь по краю огня выплескивались красно-оранжевые всполохи, похожие, как это не раз замечал Корин, на солнечные протуберанцы. Пожар неспешно, однако мощно и напористо съедал там ельники и пихтачи. До него километров пятнадцать, движется он, при теперешнем затишье, не более километра в сутки, конечно, в сторону лагеря, развернутого Кориным. «Спецбед» всегда утверждался перед фронтом пожара. Это прибавляло решимости ему, его людям: огонь идет на нас.
В темноте протуберанцы взвивались выше, и чудилось теперь, что Святое урочище раздвоила гигантская трещина, из которой выплескивается глубинное земное пламя. Корин стоял, смотрел, дышал горьковато-хвойным воздухом дальней гари, набираясь воли, готовя себя к тяжкой и долгой работе. Когда ощутил пожарище неким живым, грозным, безжалостным существом, зашагал вниз, к лагерю.
Подсушенная зноем хвоя лиственниц осыпала его с легким вялым шуршанием, пересохший багульник потрескивал под ногами, словно скрипуче, жалобно выговаривая: «Сушь, сушь...»
ГЛАВА СБОРА
1
Края штабной палатки приподняты, снизу проникало легкое дуновение, можно было терпеть жар от нагретого брезента, но набивалась мошкара, зудела под куполом, липла к рукам, лицу, лезла в глаза. Кто-то очень точно назвал одним словом эту едкую смесь кровососущих насекомых – гнус. Вялость, тоска одолевают человека, измученного гнусом. Даже Вере Евсеевой, знавшей тайгу, порой делалось невмоготу, она вскакивала, хватала полотенце, размахивала им, наговаривая:
– Гнусь, гнусь паршивая!
И опять присаживалась к рации, которая почти не затихала: шли радиограммы из гослесохраны, лесопожарной службы, авиабазы. В полдень, как по расписанию, приглашал Корина на переговоры председатель специальной комиссии при крайисполкоме – и тогда Вера выбегала наружу, отыскивала в лагерном гомоне, суете Станислава Ефремовича, звала к рации.
Над лагерем зависали, приземлялись и взлетали вертолеты, овевая поляну таким буйным ветром, что тучи мошкары отступали в лиственничник, отчего, чудилось, светлел воздух. Рация глохла от грохота, Вера снимала наушники, раскрывала тетрадь входящих и исходящих радиограмм, перепечатывала их на машинке, подшивала в отдельные папки; в особой у нее – приказы и распоряжения Корина, что и кем выполняется. Она была, как себя называла, радистка – секретарь – машинистка – медсестра – активистка. Санпункт, конечно, пожарным отрядам придается, и курсы медсестер она окончила лично для себя: разве помешает это, если твое дело – стихийные бедствия?
Когда выпадали свободные минуты, Вера брала тетрадный листок и писала письмо Ирине – подруге со школьных лет; вместе они учились и в пединституте, но Вера ушла со второго курса, а Ирина окончила факультет иностранных языков, немного попреподавала и устроилась переводчицей в экскурсионное бюро.
Писать Ирине – страсть, хобби, слабость Веры, и еще привычка: все запечатлевать на бумаге. Она слала ей письма отовсюду: из домов отдыха, туристских походов и непременно из таежных пожарных отрядов. Подруга отвечала редко, страдая вечным «дефицитом времени», зато потом, встретившись, они охотно перечитывали Верины письма.
И сейчас, выключив рацию, Вера быстро, четко писала:
«Ирка, дорогая Ирочка!
Третий день я в Святом урочище, это не так далеко от горящей тайги, пожар огромный, аж страшно подумать, и гарь оттуда идет синяя, жуткая, такого пожара я еще, кажется, не видела, а тут еще мошка мучает и духота, понимаешь, даже мох на болотах высох за три бездождевых месяца, багульник хрупает под ногами, как пересохшая солома, и запах от него – голова кружится, буквально балдеешь, а по ночам жутко в палатке, кажется, подкрадется и накроет всех огонь, но я ведь знаю, что горение ночью затихает, это в одном кинофильме показано, как к спящим геологам подобрался большой пожар, ведь это невозможно, потому что от такого пожара на много километров расстилается дым...»
Вера остановилась, сказав себе: «Тьфу! Прямо без точек гоню! Надо серьезнее».
«Ира, я, наверное, попала в настоящее дело. Тут такое творится! Вертолетами людей, пожарный инструмент, продукты перебрасывают. Всю большую поляну занял палаточный городок, группы пожарных уходят на тушение, но даже хоть сколько-нибудь не удается локализовать (прости за пожарный термин) огонь. Будут приниматься серьезные меры. Разбушевалось Святое урочище! Да, кстати, я узнала, почему оно называется Святым, завхоз нашего отряда рассказал. Будто когда-то давно здесь жил одинокий монах, из старообрядцев вроде, к нему ходили верующие, он лечил травами, заговорами, и одна девушка была влюблена в него. Это, конечно, легенда... Смерть же монаха – так и вовсе жуткая мистика. Загорелось урочище, сильно горело, зверя, птицы много погибло, стал пожар подходить к селениям, тогда этот святой монах бросился в огонь, и пожар остановился, потух. А девушка та с ума сошла – вроде бы ей, по верованию, надо было в огонь идти... С тех пор, говорит завхоз, даже старики не помнят, чтобы Святое урочище горело, любую сушь выстаивало. До этого года... Извини, кто-то идет к палатке».
Наклонившись, в палатку боком вдвинулся Дима Хоробов – пилот личного вертолета начальника, отряда Корина.
– Разрешите, если не помешаю, так сказать! – заговорил он, зычно произнося слова, словно и здесь грохотал над ним винт вертолета.
– Вошел ведь. И не кричи.
– Так звонка же у вас нет, Верочка. И постучать не во что, хоть бы дощечку какую приспособили. Все образованные вроде, а культуры маловато.
– Вот и приспособь, – сказала Вера, пряча письмо и искоса, как бы нехотя, оглядывая громоздкого Диму, присевшего на застонавший раскладной стульчик. – Там какую-нибудь планочку лишнюю отвинти в своей железной стрекозе.
– Что вы, Верочка! Вертолет не автомобиль. Это у шоферюг некоторых такое правило: зазвенело, выпало что-то, а колеса крутятся – значит, лишняя деталь отвалилась, можно ехать дальше.
Дима, сняв форменную фуражку, мощно обмахивался ею, освежаясь и заодно отпугивая гнуса: лицо у него смугло-румяное, волосы причесаны, белая рубашка под галстуком прохладно свежа, синие форменные брюки остро отглажены, носки – шелк, полуботинки – лак. Парень что надо. В таких влюбляются, по таким сохнут. Об этом сразу подумала Вера, как только увидела Диму Хоробова. И пилот он отличный, воздушный работяга, не без молодецкой отчаянности, конечно, за которую ему, пожалуй, нагорало от начальства (потому-то, может, и взял его Корин – На пожаре не рискует тот, кто не тушит огонь). Хорош Дима, «так сказать», если применить его любимую приговорку, однако очень уж избалован женским вниманием. Знает, что нравится, что может выбрать в невесты самую раскрасавицу, и не торопится жениться. Гуляет, познавая прекрасную половину рода человеческого. И это быстро поняла Вера и не ошиблась, решив: будет ухаживать! Первые «приступы» она отбила легко, а на «пробные» прикасания, похлопывания по плечу ответила: «Что, к товарцу прицениваешься?..» Дима не слишком смутился, но стал звать ее на «вы», думая, конечно, что делает это нарочито; она же, порадовавшись маленькой победе, говорила ему подчеркнуто «ты». Словом, какая-то игра «он – она» началась (да разве что и когда ей могло помешать!), и в этой игре Вера пока чувствовала себя старшей, хоть и была моложе Димы года на три.
– Ладно, без звонка и стука обойдемся, – сказала она. – Здесь не дамское общежитие. А клочок брезента ты можешь раздобыть – занавеску повешу. Вот моя раскладушка, вот рация, вот стол начальника, вот дверь, в которую входят все, кому не лень. Прошу завхоза – обещает, некогда ему.
– Какой вопрос, Верочка! Ваше желание – закон. Куплю, украду, отрежу край вертолетного чехла...
– Ну, без подвигов только.
Приложив руку к сердцу, чуть тряхнув головой, Дима улыбнулся своей, хоробовской, улыбкой – ровный блеск зубов, румяные, мальчишески доверчиво расслабленные губы, влажный синий прищур глаз. Вера отвернулась, подумав: «Чарует, заверчивает вертолетчик!» Нет, он ей неопасен, и все-таки, помимо воли своей, она понимала: приятны ухаживания Димы.
Зашипело, затрещало в наушниках, и из них, сквозь многоголосье эфира прорвались позывные: «Отряд, Отряд!.. Я – Центр, я – Центр!.. Примите радиограмму!»
Дима поднялся, сказал, подавая Вере бумажку:
– Нельзя ли маме весточку?
– Маме?.. Маме можно. А что передать – тут ничего, кроме адреса.
– Ну, жив-здоров, так сказать, чего и ей желаю...
– Сочиню и «целую» прибавлю.
Он рассмеялся, вышел, так тряхнув полами палатки, что они затрепыхались, как на ветру.
Вера приняла радиограмму, в которой сообщалось об отправке химикатов и ранцевых опрыскивателей, и, когда, рация затихла, стала дописывать письмо:
«Да, Ирочка, любую сушь выстаивало Святое урочище, а в этом году загорелось. Завхоз сказал: святость, значит, от того монаха сгоревшего кончилась. Я, конечно, не верю ничему такому, но, знаешь, робеешь как-то невольно, еще при таком бедствии: а вдруг была эта святость?.. Дикости в нас еще много, правда?
Но мы будем тушить, а не молиться. И начальник у нас, ой, Ирка, какой, даже не знаю, как сказать! Ну, непохожий на других. Исключительный. Я тебе о нем рассказывала, он еще себя «спецбедом» называет, работала с ним немного на Урдане... Как узнала, что его в Святое посылают, – попросилась в отряд. А когда назначили, чуть не расплакалась от счастья. Может, я тогда, пять лет назад, влюбилась в него? Потому что помнила его, сравнивала с другими... И видеть его, работать с ним очень хотелось. От таких, Ирка, силы душевной, воли набираешься.
Пока заканчиваю, обнимаю и целую. Еще бы что-нибудь тебе написала, да вон идет повариха Анюта, такая тощая, как мужик, жилистая бабец, работящая, но шумная и скандальная, жена нашего завхоза Политова, которого вертолетчик Дима называет Поллитровым, будто бы тот когда-то запивал сильно, лечился и теперь презирает всех, поклоняющихся «зеленому змию». Все, все! А то не кончу. Приветы знакомым и твоему экскурсбюро!
Твоя Верка Евсеева».
2
Едва войдя в палатку, Анюта Политова вскинула руки со сжатыми кулаками, расставила ноги, как бы для большей устойчивости, и начала выкрикивать басовито, точно перед многолюдной толпой:
– Товарищи уважаемые! Я трудовая женщина, всякую работу делала, в особенности поварскую! Умею там борщ сготовить, кулеш заправить, по двести человек кормила, тыщу смогу! Для начальства бефстроганы всякие, антрекоты закручу – вкус первой категории. Один раз министру угодила. Не вру, вот вам истинный крест! – Анюта широко, будто отмахиваясь ат гнуса, крестится и вновь воздевает руки. – Трудилась с малых лет, до гроба буду упираться... Извиняюсь, работать. Но, товарищи уважаемые, прошу, требую создать нормальные, человеческие, гигиеницкие условия. А что получается на сегодняшний текучий день? Котлы посреди лесу, и никакого навесу, как про меня шутют. Вода закипит – комарье в кипяток валится. Мильенами! Пока заправлять крупу, лапшу – густо в котлах. Шутники опять шутют: тыща мошек заменяют пару картошек, без гнуса не будет мясного вкуса. Шутют, конечно, весело, а жрать не хотят, плюются. Потихоньку лося завалили, мясо приволокли, я – в котел, начальник Корин покушал – допрос учинил, двоих в город отправил за истребление беззащитной природы. Понимаю, хищничество. Там огонь зверей гонит, тут люди ружьями их встречают, а для кого же мы лес тушим, если в нем живности не станет? Но, уважаемые товарищи, пусть начальство консервами хочь мясными обеспечит! Я работала на пожарах, и с Кориным тушила, так не было ж такой критицкой обстановки. Чего там другое, а кухню из досок можно сколотить!
Анюта задохнулась от длинной запальчивой речи, опустила руки, сцепила их на животе, часто дыша. Но только Вера попыталась сказать ей хотя бы два-три слова, как Анюта вновь вскинула руки и с большей запальчивостью продолжила свое басовитое выступление:
– Знаю, знаю! Скажешь, у тебя муж завхоз, у него и проси кухню. А я его вижу, мужа? В тайге где-то, пожарникам снаряжение доставляет. Явится, рухнет в палатке, из ружья над ухом стреляй – не услышит. Личность не узнаю, от гнуса распухла. Когда пил сильно, веришь, и то так не опухал... А Корина боюсь, глянет молчком, пройдет, и язык у меня отымается. Глаз у него сильный. Медведя бы не испужалась, вот те крест, я б ему черпак в рыло, кулеш на уши... Ой, деушка, бегу, убегаю! Сам идет! Легок на помине, как бес. Потом заскочу, поговорим про жизнь маленько!..
3
На столе из двух пустых ящиков и двух плах, покрытых полиэтиленом, Корин разложил топографическую карту Святого урочища. Другая карта, большая, географическая, была приколота к стенке палатки, и на ней светилась красная звездочка – место пожара, – где-то на южном стыке между Сибирью и Дальним Востоком, в горах, глубинной тайге.
– Вера, – сказал Корин, полуобернувшись, – попросите у Анюты чаю, да покрепче. – Вера вскочила, молча выбежала из палатки, Корин кивнул ей вслед. – Радистка у нас – ас. Только... – Он обвел нарочито суровым взглядом мужчин: диспетчера (своего заместителя), командира бойцов гражданской обороны, инструктора пожарно-парашютной команды, начальника добровольной пожарной дружины. – Только без ухаживаний, любить платонически, для вдохновения. Всякое прочее – после тушения пожара.
Лесные пожарные заулыбались; более молодые – инструктор и дружинник – широко, радуясь маленькой разрядке; сорокасемилетний диспетчер Ступин – скудно, за компанию. Он недавно вернулся с облета урочища, был утомлен, небрит, и глаза у него слезились: вертолет попал в зону плотного дыма и гари.
– Леонид Сергеевич, говорите, – сказал ему Корин, отойдя к торцу стола.
Ступин взял карандаш, вытянул руку и чуть издали, чтобы всем было видно, начал водить поверх карты, на которой четко проступали нанесенные границы огня.
– В тылу пожара, вы знаете, – гольцы, безлесые сопки, когда-то ранее выгоревшие. Туда огонь не пойдет. Справа река, широкая довольно, через нее пламени не перекинуться. Слева, на подступах к хребту, – мари, озера. Они пока держат огонь. Но – сушь. Может заняться верхний слой сфагнума [1] 1
Торфяной мох.
[Закрыть]. Надо успеть остановить пожар, пока влага держится на марях. Группы, посланные к кромке пожара, как вы знаете, ничего сделать не смогли. Лишь у реки, где удалось установить мотопомпу, залили полукилометровый участок, но огонь обошел его, людей пришлось спасать вертолетом. Вывод один: нужна протяженная опорно-заградительная, минерализованная полоса. От нее – мощный отжиг. И начинать с центра, как положено. Другого выхода не вижу.
Корин сел на листвяжный чурбак-табуретку, все опустились на такие же чурбаки. Молчали, отмахивая гнуса кто чем – газеткой, кепкой, беретом.
Вера внесла чайник, расставила по краям стола эмалированные кружки, налила их доверху крутым чаем, проговорила: «Пейте, уже с сахаром» – и пошла к рации, хрипло звавшей: «Отряд!.. Отряд!..» Быстро убавила громкость, надела наушники, и в штабной палатке вновь стал слышен нудный, несмолкаемый, знойный зуд гнуса.
– Обсудим, примем решение, – проговорил Корин, неспешно набивая табаком короткую, с тяжелым чубуком, трубку, называемую им дымокуркой, и своей неспешностью как бы предлагая не торопиться с высказываниями; пожарные раскурили сигареты, овеяли себя дымком; Корин дал подумать еще немного, затем сказал: – Вам слово, Алексей Иванович.
Командир бойцов гражданской обороны майор запаса Мартыненко поднялся резко, как по команде «Встать! Смирно!», на жест Корина, можно, мол, и сидя, он крутнул не менее резко головой, что означало: у них, бойцов, сидя не говорят, и вообще, главное – дисциплина. Был он росл, сух, в легкой, защитного цвета, куртке, таких же брюках.
Его бойцы, хорошо обученные пожарному делу, тушили кромку пожара на правом фланге, у реки, задерживая, сколько могли, наступление огня. Они – самая организованная группа в отряде. Это знал Мартыненко, И, когда Корин предложил ему взять десятка два прибывших из города студентов, он уклонился, сказав, что «жидко не бывает крепко, пусть попривыкнут, подсмолятся – тогда посмотрим, кого в дело». Настаивать Корин не стал. Почти на каждом пожаре, ином стихийном бедствии ему приходилось знакомиться, начинать работу с новыми людьми, и он не спешил командовать, покрикивать, ясно понимая: сперва прояви себя. И сейчас он приглядывался, примеривался к Мартыненко, вслушивался в его голос, отмечал особую привычку говорить – кратко, четко, без запинок.
– Думаю так: прав товарищ Ступин. Нужна заградительная полоса. Отжиг. Хорошо бы иметь один бульдозер. Можно и взрывчаткой. Но побольше завезти. И организованно. Только организованно. Прибывающих на тушение сколачивать в группы, давать инструкторов. А то – курорт какой-то. Загорают, купаются, в обнимочку ходят. Мужички грибами запасаются, дамочки – ягодами. Все у меня, товарищ Корин.
Тут же встал Олег Руленков, инструктор пожарно-парашютной команды, темноволосый и голубоглазый парень, из бывших военных десантников, о котором Корин подумал при знакомстве: вот ведь, пожалуй, боялся десантных войск, а отслужил – и не расстался с парашютом. На вид он был вроде бы вяловат, медлителен, но только на вид: такие флегматики быстро превращаются в холериков, когда видят настоящее дело. Это он, Олег, с небольшой командой пожарных-парашютистов пытался тушить загорание в Святом урочище, а потом несколько суток выходил к ближнему поселению, волоча на носилках сломавшего ногу товарища (из-за густого дыма вертолет не мог обнаружить их). Словом, первый здешний пожарный, и, по праву первого, он стал говорить более пространно:
– Хочу поделиться своими личными впечатлениями. Бывал я на разных загораниях, тушили, хоть и трудновато приходилось. И сюда полетели уверенные, что потушим. Но огонь на огонь, видать, не приходится. Такого еще не видел: вроде медленный, а нагрев жуткий! Какой-то раскаленный ад внутри. Взорвешь дерн, подчистить не успеешь – он уже за твоей спиной. Не от огня – от нагрева загорается труха, хвоя. Товарищ наш ногу сломал, можно сказать, на ровном месте – просто злое невезение... И теперь вот бьемся изо всех сил. Вода, химикаты, захлестывание – нипочем. Вы видели когда-нибудь, чтобы почти без ветра огонь шел, еще и поверху? Будто само солнце деревья поджигает... Опорную минерализованную полосу, отжиг – и скорее. Что будет, если задует ветер?.. А он в Святом идет с севера, от гольцов.