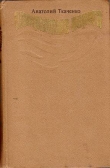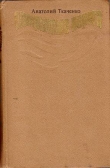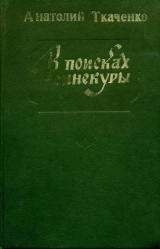
Текст книги "В поисках синекуры"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Это психоз, Савушкин. Запрещаю мыслить, воображать. Дважды в сутки снотворное ему. А сейчас – укол пантопона. Последний раз.
И покой снизошел на Савушкина. Исчезли боли, страхи, сомнения. Неощутимым сделалось тело. Савушкин обратился в некий дух Савушкина, коему не стало преград, запретов. Невесомо он прошелся по узкой палате, дивясь ее нежилой пустоте, затем проник сквозь бетонные стены здания, плавно опустился на траву у самого леса и зашагал себе желто-зеленой просекой в синий просвет за черными елями. Щебетали птицы, шумела высокая трава, грустно аукала кукушка. Савушкин шел и знал, что уходит от всего тяжкого, мучающего его, и надо идти, долго идти. Ширился синий свет, заливал березники, высвечивал ельники. Вот уже зонтики пестрые зачастили по сторонам просеки – огромные шляпки на тонких ножках, а там, на холме, поляна – зеленая, в белых ромашках. Савушкин слегка оттолкнулся, полетел, воздушно опустился посреди поляны. Отсюда виделись поля, луга и снова поля... От радости, счастья, желанного облегчения его захлестнули рыдания, Он повалился на землю, приник к ней, ощутив ее спасительную прохладу, и впал в пустое, беспамятное забытье.
Через несколько дней Савушкин умер, так и не обретя сознания. Были предположения, что в беспамятстве он сильно ударился головой о железную дугу кровати, кое-кто думал, будто сделал он это намеренно, однако утверждать что-либо твердо обоснованное никто не решался.
Одно было ясно: он не вынес сильнейшего психического потрясения. Расспрашивали сестер, нянь, дежурных врачей. Узнали наконец и это: больного навещал некто В. Бакин. Пригласили его на беседу.
Витька признался, что рассказал Савушкину о гибели доктора наук и девушки, а на все прочие вопросы отвечать не стал. Его журили, на него покрикивали. Витька выдержал, промолчал: ему жаль было друга Дёму, Малюгина, Анфису.
В ПОИСКАХ СИНЕКУРЫ
Повесть
ПЕРСИКИ
Персики были румяные, с медово-восковой желтизной, налитые нежной тяжестью, и Арсентий Клок, выбрав самый крупный, мохнатенький, впился в него зубами; обильный сок залил ему рот, он зажмурился и охнул от невыразимого удовольствия. Шершавую кислую косточку он старательно обсосал, затем метко выплюнул в набитую всяческим мусором бетонную урну-цветок. Тряхнув бумажный кулек, он вынул еще один, такой же теплый, как бомбочка, персик, понес к губам, намереваясь сперва поцеловать южный солнечный плод... и услышал вдруг резковатый женский голос, явно окликавший его:
– Парень!
Он полуобернулся. У прилавка с ворохом сияющего винограда «чауш» стояла молодая женщина; опуская пакет в туго нагруженную матерчатую сумку, она со смешливым любопытством исподлобья поглядывала на него.
– Ты бы хоть помыл свои фрукты, – договорила женщина и кивком указала в конец огромного, гудящего движением и голосами рыночного помещения, где, должно быть, находились туалетные комнаты.
– Благодарю, – ответил Арсентий Клок, ловко обгладывая персик. – Но мытый фрукт, извините, запах теряет.
– Где так наголодался? С Севера, что ли?
– Угадали... угадала, – поправил себя Арсентий, аккуратно выложил косточку на ладонь и бережно опустил в урну. – Простите за «ты»... Вы не старше меня... то есть совсем молодая.
– Как сказать! Если тебя побрить, в галстучек нарядить... Проездом, значит? В южные края длинные рубли проживать?
Клок утер губы клетчатым платком, недавно купленным в аэропортовском киоске, и, нарочито медленно складывая его квадратиком, упрямо разглядывал настырную незнакомку, желая смутить ее своей многоопытной бывалостью: мол, дамочка симпатичная, откуда у тебя этакая невоспитанность – приставать к первому встречному-поперечному? Или у вас в столице так полагается: чужака видите издалека и церемониться с ним нечего, он как бы вполцены среди большой вашей цивилизации? Зато я видел разные земли, горы и степи, север, юг и всякое такое, отчего у тебя глазки подкрашенные, веселенькие очень даже загрустили бы. И на тебя похожих перевидал немало, будь уверена. Что ответишь на это Арсентию Клоку, неустанному страннику, может, хоть улыбочку сотрешь со своего напомаженного личика?.. Но женщина не собиралась смущаться или печалиться, напротив, едва удерживая стиснутыми губами смех, она чуть отшагнула, чтобы лучше видеть его, сурово настороженного и, наверное, потешно ершистого, в куцей поношенной курточке, узеньких мятых брюках, с бородой под моложавого батюшку. Тогда Клок прямо, нагловато сказал:
– Не угадала. Хочу поселиться в Москве. Кстати, не подскажешь, где можно снять комнату?
– Так у тебя здесь никого?
– И вообще на всей планете – одна матушка, и та в городе Улан-Удэ.
– Кто же тебя поселит, пропишет?
– Не знаю. Не задумывался. Мне надо пожить в столице... ну, для завершения образования как бы. Найду работу. Кто-нибудь пустит квартировать. Надо, понимаешь? А если очень надо – все уладится.
– Ой, потешный! С такими планами – и сразу персики кушать!
– Мечта была. Я три года оттаймырил безвыездно. На Таймыре трудился.
– Так уже вечер почти. Куда же ты со своим чемоданишком?
– На вокзал пока. Подскажи, как проехать до самого большого, Казанского, кажется?
Женщина, уже было озаботившаяся неустроенностью новоявленного столичного жителя, опять усмехнулась:
– Значит, вокзал, вокзал – моя гостиница, любой на лавочке подвинется?
Арсентий мотнул жестким, свисающим до глаз чубом, легко рассмеялся и, заметив, что женщина шагнула в сторону двери, явно соглашаясь указать ему дорогу на вокзал, быстро подхватил свой обшарпанный, под рыжую кожу, чемодан и попросил у женщины ее сумку.
– Разрешите... Давно не ухаживал за дамами.
– Берите, – слегка помедлив, согласилась она, вставляя ему в ладонь петли сумки. – Какой даме не надоела эта ноша?
Они вышли на бульвар, сутолочный в этот предвечерний час, с непрерывными потоками людей и машин. Женщина шагала легко, как бы находя средь толпы лишь ей видимую свободную тропу, а Клока толкали, на него наскакивали, и один злой старичок сказал ему: «Прется, как бульдозер!» Женщина взяла его под руку, повела, и тротуар будто расширился, стал просторнее. Она объяснила ему, что в больших городах «по прямой» не ходят – лавируют, ускоряют и замедляют шаг, рассчитывают свое движение (подсознательно, конечно). Один «прямолинейный» может нарушить поток целой улицы. Это кажется только – толпа толкается; мечутся впервые попавшие в нее.
– Вот видишь, мы уже «вписались».
– Научусь, пойму, – согласился, обильно потея, Клок. – Улан-Удэ тоже город. Поменьше, правда, и давно я там не был.
– А в метро ты ездил?
– Где? – Он мотнул головой себе за спину, как бы указывая на всю свою прожитую жизнь, – Там еще не построили.
– Ой, тогда пойдем к троллейбусу!
– Может, такси? В Домодедово говорю: вези меня к персикам – чуть под стеклянную крышу рынка не въехали.
– Вот у остановки и половишь. Они таких угадывают, в любой «пик» берут.
Около павильончика из стекла и железа с таблицей движения троллейбусов томилась длинная очередь. Женщина пристроила Клока в конец ее, затем объяснила, на какой номер ему садиться, взяла свою сумку, пожелала удачного устройства в столице и почти приказала сбрить или хотя бы укоротить бороду, ибо с такой растительностью его будут пугаться московские старушки, которые иногда сдают одиноким и смирным пустующие комнаты.
Клок посмотрел женщине вслед: уходила она быстро, одета была просто – темноватое демисезонное пальто, меховая шапочка, коричневые туфли, – ничем не выделялась в толпе и скоро исчезла средь людской толчеи. На мгновение у него затосковало сердце: странная, сама окликнула, посмеялась над ним, посочувствовала, надавала советов, вроде бы все поняла – и ушла. Что-то в ней такое есть... ну, привычно общительное, не дамочка она вовсе «шибко интеллигентная», знала жизнь поскуднее, попроще... Очередь, однако, подвигалась, Клок оказался уже где-то посередине длинного ряда удивительно дисциплинированных москвичей, и иные заботы начали одолевать его. Он поднимал чемодан, делал несколько шагов, вновь ставил; троллейбусы подходили набитые по самые двери, влезть удавалось пяти – десяти человекам. А широченная улица грохотала автомобилями, дурманила бензинными газами, слепила лаком кузовов.
Он совсем забыл о женщине, когда услышал как бы из дальней дали, из прошлого ее голос:
– Вы еще стоите?
Она была без сумки, пальто сменила на кожаную длинную куртку, и шапочка вроде другая, и вместо туфель – сапожки.
– Стою, – покорно подтвердил Арсентий Клок, усиленно соображая: та ли это женщина, не бредит ли он от едва одолимой усталости? В двое суток переместись с Таймыра в столицу, да одолей по пути несколько аэропортов, да поспи под рев авиамоторов – любая канитель привидится.
– Пойдемте, – твердо сказала женщина.
Он пошел рядом с нею, на свободном тротуаре она остановила его, попросила опустить чемодан и, глядя ему в глаза чуть расширенными, вовсе не смешливыми, своими влажными и синеватыми глазами, заговорила быстро, слегка заикаясь:
– Я тут недалеко живу... Пришла, чай пью и не могу успокоиться... У меня же комната пустая... А вы стоите, или на вокзале... Дико, ненормально... Оделась, прибежала... На вокзал бы поехала... Сама не знаю – аж сердце закололо... Вы согласны? Комната у меня отдельная, в ней мама жила...
– Говорите «ты», – попросил он, еще ничему не веря. – Почему «вы»? Может, это вовсе и не вы?
– Я, я. Только мне очень нехорошо стало. Ты не телепат?
– Нет, нормальный.
– Тогда бери чемодан.
По подземному переходу они перешли на другую сторону широкой, яростно грохочущей улицы, которую женщина назвала Садовым кольцом, узкими переулками углубились в старинный квартал с каменно прочными, архитектурно вычурными (так показалось Клоку) почернелыми домами. И вошли в один такой же, закопченный, но старчески гордый своей осанкой – готическим орнаментом стен, строгой сощуренностью стрельчатых окон, заостренной крышей, напоминавшей некий старинный шелом. Лестница была мраморная, широкая, с истертыми ступенями, дверь – дубовая, на две створки, словно малые крепостные ворота.
В прихожей женщина включила свет, разделась молча, то же сделал послушно Клок – снял свою всесезонную куртку, хотел сунуть под вешалку чемодан, но хозяйка придержала его.
– Неси сразу сюда. – И открыла крайнюю в пустом просторном коридоре дверь. – Осваивайся. Можешь душ принять. По коридору налево... Потом накормлю чем-нибудь.
Клок оглядел комнату, не решаясь куда-либо присесть: все было начищено, расставлено по разумно определенным местам – книжный шкаф, письменный стол, зеркало с туалетным столиком, застеленная зеленым пледом кровать, – все вроде бы намеренно малого размера, и лишь черный массивный рояль налево от входа занимал почти треть комнаты, был главной вещью в ней, и Клоку подумалось, что в деревенских домах столько места и почета обычно отводится русской матушке-печке.
«Ой ля-ля! – сказал он себе, присаживаясь на краешек стула. – Как же ты, Клок, очутился здесь... рядом с роялем... такой сам неэлегантный?.. И что теперь будешь делать – раскладывать таймырский затрапез по стульям и прочей полированной мебели или слезно отпросишься на общественный Казанский вокзал?»
Вошла тихонько хозяйка, села напротив него, усмехнулась, приглядываясь.
– Ага, бывалый сибиряк загрустил. Не ожидал такого гостеприимства от родной столицы. Но ведь если очень надо – должно все уладиться. Так, кажется, ты выразился?.. Ладно, иди умывайся, и будем персики есть.
– Персики?
– Да. Твои. В сумке моей оказались.
– А-а... сунул. Некуда было деть.
– Из-за них вот еще... Подумала: может, на последние купил?
– Что ты! Я даже богатый!
– Я тоже не на пенсии... Ты вот лучше предложи познакомиться.
– И верно! Вот абориген! – Клок вскочил, протянул руку, назвал себя и, услышав, что женщину зовут Люся, а фамилия у нее Колотаева, не удержался прямо-таки от мальчишеского восторга, ибо с задушевным другом Васькой Колотаевым они одно время добывали золотишко в Якутии. Люсе пришлось долго уверять его, что к тому Колотаеву ни она, ни ее родственники не имеют и малого отношения, но Клок все удивлялся непостижимому совпадению, говорил: «Надо же! Такое редко бывает! Такое вообще не бывает!..» – пока Люся не остановила его, резковато окликнув:
– Арсентий!
Он примолк чуть растерянно, мигом вспомнив, где и с кем говорит.
– У тебя документы хоть в порядке?
Клок молча вынул из бумажника паспорт, трудовую книжку и положил перед Люсей Колотаевой на краешек рояля.
КВАРТИРА
Когда Арсентий Клок летел в Москву, он живо, даже с подробностями, представлял себе, как без передышки примется изучать, постигать столицу: во-первых, посетит Красную площадь и другие исторические места, затем Третьяковскую галерею и прочие музеи, осмотрит главные улицы, основные проспекты (лучше на такси) и, конечно, побывает в Большом театре... Кто же, навещавший Москву, не восторгался этими достопримечательностями?..
Но прошло уже несколько дней его столичного жительства, а Клок дальше гастронома на Садово-Самотечной никуда не ходил, не ездил. Набирал в большую оранжевую сумку хозяйки квартиры продуктов, таких разнообразных, красиво упакованных, очень дешевых здесь (по его прикидке), возвращался и готовил «вечерний обед», как сам наименовал его, потому что Люся уходила на работу к девяти утра и являлась домой после шести вечера. Готовить Клок умел – за годы своих странствий по Сибири, Средней Азии, иным местам он перепробовал немало экзотических кушаний, случалось и самому бывать в поварах – и всякий раз старался удивить Люсю чем-нибудь необычным: рыбой «по-камчатски», запеченной в капустных листьях (за неимением листьев лопуха), картофельными варениками с зеленым луком, сначала отваренными, потом поджаренными, узбекским пилавом, казахским бешбармаком из баранины в жирной наперченной шурпе... Запахи, ароматы просачивались на лестничную площадку. Соседки стали наведываться вроде бы к хозяйке по каким-либо придуманным делам. Клок общительно приветствовал их и отвечал, что его двоюродная сестрица на работе. Бородатого верзилу-братца женщины разглядывали с превеликим интересом, понятным сомнением, но способы приготовления восточных кушаний записывали, старательно, и вскоре необычные запахи, ароматы завладели едва ли не всем громоздким, старчески дремотным домом.
Арсентий же Клок, приготовив «вечерний обед» и неразборчиво перекусив чем-нибудь, начинал активно жить в пустой, тихой, какой-то умудренно-задумчивой квартире. Все тут было прочно, основательно, надолго: стены крепостной толщины, потолки с тяжеловатой лепкой, кафель в ванной медово-желт и окостенело вечен, паркет темен, отлакирован натираниями до сумеречного мерцания; кухонный буфет из мореного дуба, вздымая к потолку витражные, искусно точенные ярусы, был вполне обособленным архитектурным сооружением, в котором (так и чудилось!) обитали маленькие, одетые по-старинному чопорно и красочно людишки; они лишь днем прикидывались вазами, рюмками, бокалами... По квартире ходил Клок неслышно, точно опасаясь кого-то разбудить, ему казалось иной раз: выглянет он в коридор, и его спросят: «А вы зачем здесь?» Он подшучивал над собой: «Почти как таежник живу – без шороха и звука».
Он медленно открывал дверь комнаты Люси Колотаевой, осторожно включал магнитофон, садился в мягкое глубокое кресло и слушал все, что извлекал из пленки дорогой импортный аппарат: рок– поп– и диско-музыку, ансамбли, квартеты, секстеты, песни Высоцкого, Окуджавы, Новеллы Матвеевой и других, ему неизвестных певцов и певичек... Везде, всегда ему не хватало музыки. И часто тревожил его один и тот же сон: сверкающий концертный зал, чистая вечерняя публика, манекенно строгие музыканты, и он, Арсентий Клок, в изящном темном костюме, белой сорочке и галстуке, с платочком в левом кармашке пиджака, занимает свое кресло, готовится слушать, обмирая сердцем, неведомую, неземной силы музыку... и просыпается. Всегда на этом месте, с неутоленной тоской... Сидел он у магнитофона и час и полтора. Сидел, ждал, пока жалобную тоску в груди вытеснят звуки мелодий, ритмов, голосов и станет легко, возвышенно, все понятно, доступно ему, более совершенному Арсентию Клоку.
Осматривать комнату Люси он стеснялся: ведь она была уверена, что он без нее не входит сюда (он, такой застенчивый!), и, торопясь на работу, разбрасывала свои женские вещички куда придется. Да и «уголок» ее, как Люся называла свою комнату, в отличие от старомодного, несколько музейного «уголка» ее матери, был подчеркнуто, даже стандартно современным (Клок видел такие комнаты и в Якутске, и в Иркутске, и в родном Улан-Удэ). Но одно привлекало, всегда притягивало его взор – богатый набор камней, образцов, кернов... Геолог Люся Колотаева, точнее, геохимик, навезла все это из своих экспедиций. Уж так случилось: мама была пианисткой, учительницей музыки, а дочь стала путешественницей. Не оттого ли, что и отец, и дед с бабкой, старые московские интеллигенты, не знали, пугались иной, внестоличной жизни?
Узнав в первый раз о профессии Люси, он бурно обрадовался – как при знакомстве, когда услышал, что она однофамилица его лучшего друга, – хлопнул Люсю ладонью по плечу, выкрикнул: «Ясно, почему ты меня на рынке приметила – за работяжку геологического приняла!» Люся сказала, чуть скривив губы от боли:
– Клок, будешь махать своими рычагами, я тебе тоже врежу – по скуле, чтоб мозги твои встряхнуть! – Она засмеялась, а он притих, смутился до погорячения ушей, обещая научиться вести себя культурно. – Нет, нет, – попросила Люся, – ты не очень меняйся, культурных и без тебя много, просто помни – я не друг твой Васька Колотаев, хоть тоже Колотаева.
Камни-минералы лежали по всему подоконнику, в решетчатых ящичках на письменном столе и под столом – колотые, пиленые, шлифованные, многие с наклейками-надписями; были сердолики, агаты, яшмы – эти Люся называла полудрагоценными. Клок брал в ладонь розоватый сердолик или дымчатый агат, разглядывал, поглаживал пальцами и думал: сколько он видел таких камней на речных и морских берегах! Никто их не подбирал, даже не заговаривал о них. По незнанию, конечно. Да и вид у них, необточенных, бледнее других цветных камушков...
Он ловил рыбу, валил лес, мыл золото, в Туркмении копал оросительные каналы, последние три года, для передышки, отсидел на Таймырской метеостанции радистом-наблюдателем, но геологических партий сторонился: был уверен, что идут туда натирать плечи лямками рюкзаков юные романтики да застарелые неудачники: вроде бы труд, трудности, риск, а все – вполсилы, не очень серьезно. В подсобники-послушники он считал себя совершенно непригодным.
Побывав в Люсиной комнате, Клок некоторое время вышагивал по коридору, сцепив руки за спиной, от тумбочки с телефоном у входной двери до двери ванной, просто так, слушая глуховатый, старинный шорох паркета и заполняя собой сумеречное пространство; думалось при этом нечто неясное, скорее ощущалось: вот, мол, хожу по коридору, квартире старого дома в глухом переулке – сюда даже грохот города едва пробивается, – и ничего, не трушу. А сколько людей топтали эти полы, дышали воздухом этих комнат? Страшно подумать! Было и вовсе неясное что-то, вроде упрямого желания приучить к себе стены, мебель, большие и малые предметы квартиры, заявить кому-то невидимому, но неусыпно наблюдающему за ним: «Меня пригласила Люся... да... она хозяйка... и я буду жить здесь, сколько она захочет...»
Звонил телефон, Арсентий вздрагивал, потом бежал к тумбочке, хватал трубку.
– Клок? – тихо, почти таинственно окликала Люся. – Как ты там?
– Нормально...
– Что приготовил?
– Секрет.
– Ой, есть хочу! В столовку не пошла... бутерброд жую.
– Скорей приезжай.
– Сразу после работы!
Люся трудилась в управлении, уже третий сезон не выезжая на полевые работы, временно освобожденная: сильно простудилась в Кызылкумах, искупавшись в родниковой речке, вернулась с радикулитом и теперь «совершала экспедиции (по ее словам) на Кавказские Минеральные Воды». Тупела, нудилась от канцелярской суеты, кому-то старшему «подрабатывая» диссертацию. И тут Клок – из тундры, лесов, гор... «Тебя же ведь послали ко мне, – смеясь, говорила Люся, – правда?» – «Кто?» – не понимал он. «Ну, они...» Клок беспомощно разглядывал свою хозяйку, выжидал. «Они, леса и горы, да?» – почти шепотом спрашивала она, и он молча кивал, уже всерьез веря, смущенный ее верой, что послан к ней всем громадным сибирским пространством, жаждущим избавления от глухомани, дикости. Люся восторженно радовалась его молчаливому, суеверному пониманию,, приглашала на кухню, вынимала из серванта два фужера (которые днем были конечно же хрустальными фужерами), наполняла их вином и, дзинькнув стеклом о стекло, просила выпить за то, чтобы будущим летом она непременно побывала «в поле».
В «свою» комнату Клок приходил, когда ранний сентябрьский закат, невидимый в низком небе огромного города, вдруг зажигал тревожно бесчисленные окна соседних домов; квартира делалась розовато-нежной, согревалась иным, небесным светом, и чудилось... оживали в ней старинные ароматы, запахи духов, одеяний всех женщин, некогда обитавших здесь. Он садился к роялю, осторожно, с робостью трогал пожелтевшую кость клавишей. Думая о своей одинокой женщине-матери, так упрямо желавшей, чтобы он научился играть «хотя бы для себя», он замедленно, одолевая тяжесть, немоту пальцев, принуждал старинный инструмент звучать мелодией полонеза Огинского. Именно звучать. Назвать исполнением свою игру он не смог бы даже под дулом пистолета: учился музыке кое-как, а в долгих странствиях лишь изредка видел на сценах сельских клубов сиротские, «для культуры» поставленные пианино.
Полонез – матери. Всем другим женщинам, оставленным сыновьями. Это плач по несбывшимся надеждам, мольба о прощении; матери учат сыновей быть удачливыми, счастливыми, а бывают ли сами счастливы? Он же и вовсе обездолил родную мать своим бродяжничеством...
Но есть еще более горькая недоля у женщины, горше, чем потерять сына. Не стать матерью.
И для них этот полонез.
Люся Колотаева заплакала, угадав его думу, когда он, по внезапному наитию, наиграл ей полонез. Тут же рассказала ему: она прожила замужем шесть лет, и муж ушел от нее, вернее, разошлись мирно-согласно, потому что не было у них детей. И виновата она, Люся: в новой семье бывшего ее мужа растет ребенок. Так и сказала: «Пустоцветная я». Не поверил он тогда, не верит сейчас, что эта тридцатилетняя, почти по-мужски сильная, безунывная, со всегдашним юным загаром женщина не может, не способна... (как он выразился для себя) «породить жизнь, будучи такой живой». Но много ли он знал о семье, семейных сложностях, если обходился временными знакомствами, «сезонными женами», опасаясь закабаления – женитьбы?.. Он едва не заплакал вместе с Люсей, никак не утешив ее, и при ней стал побаиваться подходить к роялю. А она просила. И всегда – полонез Огинского. Люся, конечно, играла, и не хуже его, но почему-то говорила, что, сама играя, плохо слышит себя. Он то соглашался, то отказывался, стыдясь своего варварского исполнения, и начал тренировать руки, настраивать слух в одиночестве.
Случилось, звонила и вваливалась в квартиру соседка Валентина, молодая домохозяйка, курносенькая, толстенькая, любопытная, из деревенских недавних москвичек, садилась, слушала, больше, однако, разглядывала «чудного квартиранта». При ней он играл смело, грубовато, и Валентина искренне восторгалась:
– Какой вы интересный, Арсентий Степанович! И на рояле можете, и на кухне... Где научились?
– Родился таким.
– Надо ж! А мы своего Генку заставляем – не может. Отец лбом, лбом его в пианино – ревет, а кроме как «чижик-пыжик», ничего не выучил.
– Лбом не надо. Может, у него математические извилины.
– И я говорю: он лошадей любит, и задачки хорошо решает.
Клок смеялся, охотно смеялась и Валентина, не зная точно чему, за компанию. Потом подхватывалась, делала нарочито испуганные глаза и неспешно удалялась, наговаривая, что скоро явится с работы Петр и «заревнует ее насмерть», если застанет с Арсентием Степановичем, хоть он сосед и братец их хорошей знакомой, а все равно холостой мужчина...
И наступал час «пик». Там, в неведомом городе. Шум-гуд усиливался, плотнел, словно бы напрягал стены дома, они вздрагивали, изредка еле заметно покачивалась люстра – под старым кварталом, говорила Люся, проходит линия метро, – слышались голоса со двора, шаги по лестницам, звякала железом дверь лифта. Но тишина не покидала квартиры, лишь делалась иной, более чуткой, как бы настроенной в резонанс звучанию города – этаким огромным всеслышащим ухом.
Он садился в кресло лицом к окну, за которым с третьего этажа длинно проглядывалось каменное ущелье переулка, густо-синего вдали, смутно пестреющего движением, сидел, переносясь воображением в суету, громыхание улиц, затем говорил себе: «Вот сейчас она вышла из управления, идет к метро (десять минут)... теперь едет (подождем двадцать минут)... вышла на «Маяковской», идет к троллейбусу, здесь очередь, стоит (минут десять – пятнадцать)... едет, снова идет (еще десять минут)... подходит к дому, вот вошла в подъезд, лифт не стала ждать («Ходить, ходить люблю!»), бежит по лестнице, стучат ее шаги... сейчас позвонит. Нет, не она... Но сейчас, сейчас! Где-то простояла лишних пять минут... Вот».
И – звонок.