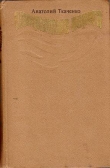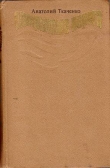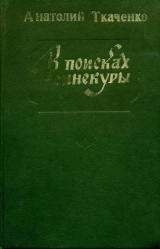
Текст книги "В поисках синекуры"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Ирена Постникова приподняла платок, затенявший ей глаза, и все увидели: лицо у нее искусано гнусом, рябое, губы опухли, набрякшие веки слезятся; была она не первой, как говорится, молодости – лет сорока, но из тех волевых, до крайности эмансипированных, которые скорее помрут, погибнут в тайге, средь арктических льдов, в песках Каракумов, чем откажутся лететь, ехать, идти, куда бы их ни направили.
– Может, чайку вам? – жалостливо спросил заботливый преподаватель стройучилища.
– Нет, сначала работа, товарищи. Как раз вы в сборе. И командир ваш в сторонке, занят беседой с диспетчером. Идеальная обстановка: я обращаюсь сперва к народу, потом к начальникам. Непосредственный контакт. Сама жизнь, из первых рук, без навязывания героев. Вам лучше знать их. Назовите отличившихся, расскажите какой-нибудь интересный, может, да, я не боюсь этого сказать, героический эпизод, связанный с риском для жизни. Ну, кто смелый?
После короткого молчания послышался вполне серьезный, с покашливанием, голос невидимого в толпе шутника-говоруна:
– Как же, товарищ Постникова, есть у нас один, можно сказать, жизнь двум зайцам спас, рискуя собственной, человеческой. В плане защиты фауны и флоры можно подать. А то шумят там, что мы тут кабанов да лосей поедаем... Расступитесь, товарищи, покажем нашего рыцаря.
Охотно раздвинулись, образовав этакий неширокий коридор, и в конце его Ирена Постникова увидела чумазого, насупленного парнишку, сидящего меж трех чурбаков.
– Он?
– Он, он! Только скромный. Едва в чувство привели. До потери сознания действовал... Между прочим, вот, посмотрите. – Постниковой передали узелок, пахнущий растревоженным муравейником. – Командир Руленков тоже находчивость проявил: нашатырного спирта не оказалось – муравьиным уксусом в чувство привел и человека и животных. Полезный опыт в таежных условиях.
Она осмотрела, тоненькими пальцами настороженно ощупала платок, поднесла к носу, едва удержалась от чихания, стиснув губы, мелко наморщив лоб.
– Аркаша, готовь камеру! – скомандовала, подходя к Стацюку; и его тоже внимательно осмотрела, даже потрогала слипшиеся на макушке кудрявые волосики, спросила строго, как учительница чем-то крайне удивившего ее ученика: – Правильно они говорят?
– Ну, вопче-то так было... – нагловато глянул на нее окрепший Стацюк.
– А встать ты можешь?
– Могу, наверно.
– Хотя сиди. Аркаша, давай кадр – отдых после возвращения из опасной зоны. Тут и зайцы рядом.
Бородатый утомленный оператор, в клетчатой кепке с длинным козырьком, молча, равнодушно-отрешенно поднял кинокамеру, припал к ней глазом и, держа на губах чуть брезгливую мину – не все ли равно, где, когда и кого снимать, такая работа! – застрекотал аппаратом, отшагивая в сторону, назад, подходя почти вплотную к объекту. Стацюк при этом пучил темненькие глаза, хмурил сурово бровки и складывал губы капризно-брезгливо, подражая оператору.
Из палаток выходили отдыхавшие пожарные, толпа густела, бурлила говором, похохатывала. А Стацюка уже вели к пожарищу, запечатлевали на фоне выжженной земли и черных деревьев, давали ему в руки вяло дрыгавших ногами зайчат, просили с ненавистью погрозить кулаком в сторону побежденного огня, но, когда понадобилось взять у него интервью, он уныло залопотал, пряча шаловатые глаза:
– Ну, вопче-то так было... зайцев вижу, интересно, живые, думаю, шапки заячьи бывают... а с кошками завязал, не трогаю... собак по обману старшего товарища крал, художественной литературой тот обманул: читай, говорит, бравый солдат Швейк для офицеров не шавок каких-нибудь – породистых уводил... вопче-то трудовое воспитание полезно...
Огорченная Ирена Постникова отстранила микрофон, поняв, что ничего разумного из Стацюка не выжмешь, обвела взглядом пожарников.
– Кто-нибудь может внятно произнести несколько слов?
В толпе поспорили, попрепирались и наконец вытолкнули на «съемочную» площадку своего главного говоруна. Он оказался увалистым, с хитро прищуренными, ясно-голубыми глазами парнем лет тридцати.
– У вас что, все герои недоростки?
– Им больше надо, – пошутил кто-то.
– Ладно. Фамилия?
– Коновальцев Иван Калистратович.
– Ну, Калистратович, громко, четко, толково.
– Могу. – Коновальцев вставил правую руку в бок, левой потянулся к микрофону, однако Постникова не доверила ему, он все-таки вцепился в рукоятку пониже ее руки, заговорил с самым серьезным видом и сознанием высокой ответственности: – Кто не знает, товарищи, какие огромные убытки народному хозяйству приносят пожары? Миллионы кубометров погибшего «хлеба культуры». А без культуры нет цивилизации, без цивилизации нет прогресса, без прогресса нет движения мирового человечества к светлому будущему, а также к иным цивилизациям в нашей галактике и в масштабе всей вселенной. Недавно выступавший перед нами лектор из города Бурсак-Пташеня правильно отметил: в данный момент мы на передовом фронте с разбушевавшейся бездушной стихией. Мы глубоко сознаем это и не жалеем труда и сил на спасение «хлеба индустрии», а также культуры. От лица всей нашей группы заявляю: у нас нет симулянтов, мы трудимся с высоким духовным подъемом. Даже ранее малосознательный пэтэушник Стацюк проявил чудеса героизма, спасая богатую флору тайги...
Свое интервью Коновальцев выкрикивал так вдохновенно, что диспетчер Ступин, глянув в сторону толпы пожарников, спросил недоуменно:
– Митингуют, что ли?
– Интервьюируют, – ответил Руленков.
– Да там, кажется, и твой шалопай в героях.
– Пусть. Мама увидит в телевизоре – обрадуется. Кроме слез, ничего не знала от своего сынка.
– А это кто так декламирует? – Ступин даже привстал с чурбака.
– Есть такой шутник-верховодник. В огонь пока не лезет, больше по части громких выступлений. Испытаю, назначу старшим бригады, может, дури поубавится... Да, Леонид Сергеевич, вы предупредили корреспондентку, чтоб не заявляла там – пожар потушен?
– Всю дорогу, пока от Мартыненко шли, твердил: окарауливаем, огонь остановлен, но не уничтожен. Сушь. Ветер. Мол, сами видите. В такой жаре лес загорается от скопленного электричества в воздухе, шаровых молний, да и черт его знает отчего – загорается, и все. Обещала точно обрисовать обстановку.
– И я предупрежу.
Они замолчали, придвинувшись к дымку тлеющего торфа. Олег Руленков, поглядывая на диспетчера Ступина, сожалеючи вздыхал: усох Леонид Сергеевич, истомился, ломаные-переломаные кости, конечно, побаливают, сердце бывшего летчика-аса подношено. Волей, характером живет. И на земле точен, аккуратен. Лесную форму, как раньше пилотскую, носит. В дыму, копоти, по чащобам, а смотри – пиджак почти без пятен, брюки не мяты, сапоги хоть и обшарпаны, да чисты, фуражка... зеленая фуражка – свежа, незапятнанна, как совесть и честь его, праведного работника лесоохранной службы.
4
Бурсак-Пташеня явился в группу Василия Ляпина под вечер, как раз к ужину; вокруг котлопункта было тесно, шумно: из каждой бригады пришло по два-три человека с бачками, сумками, чайниками – получали кашу, хлеб, чай, выпрашивая с шутками-прибаутками у юной поварихи из кулинарного техникума погуще, помяснее, покрепче. Бурсак-Пташеня остановился на чистой ягельной полянке, поставил к ногам потертый в переходах «дипломат», снял легкую капроновую шляпу, отер несвежим платком лысину; он собрался порадоваться простору, надышаться не столь дымным воздухом, но, потянув чутким носом-пуговкой, едва не зажал его пальцами: от сумеречно-синей мари и оловянно-тусклых, запавших в торфяники озер ветер принес душный, тошнотный смрад. Бурсак-Пташеня повел головой в одну, другую сторону, соображая, чем, почему так смердит, и все стоял не двигаясь, почти всерьез страшась: шагнет – и рухнет в зловонную яму.
Его заметили толпившиеся у походной кухни, подивились, кто острословя, кто сочувствуя: из лесу вышел толстый, в желтой рубашке, синем галстуке, в джинсах на отвислом животе, мятый, усталый человек; стоит посреди ягельного бугорка, не то чего-то испугавшись, не то важно озирая пространство.
– Эй, дядя! – крикнул ему пожарный-дружинник Валерий Самойлов. – Топай живее, пока всю кашу не выгребли!
Бурсак-Пташеня помотал головой, зажав платком нос.
– Понятно. Им воздух наш не по нутру. Братцы, у кого маска под рукой, отнесите товарищу. – Валерию хоть и не доверили бригаду, как другим дружинникам, но при случае он командовал студентами из пополнения, чувствуя себя если не командиром отделения, то ефрейтором вполне. – Чемерисов, помоги. Между прочим, на гуманитария учишься, а от миски оторваться не можешь, когда человек на твоих глазах погибает.
Сутулый длинный Чемерисов молча взял маску, пошел неспешно к толстому человеку, гам они возбужденно начали говорить, размахивать руками; было видно: Чемерисов пытается натянуть лысому, крикливому маску, тот сопротивляется, обидчиво пятится; наконец студент взял его под руку, повел, что-то объясняя, успокаивая.
У костра Бурсак-Пташеня отдышался уже привычным для него дымным воздухом, приободрился, предложенной кашей пренебрег, зато съел трех больших вареных карасей, кои тут всем приелись, а потом долго, с причмокиванием, насыщал свое обезвоженное лесным переходом тело крутым чаем.
В это время Василий Ляпин, обойдя пять бригад почти на десятикилометровой полосе между пожарищем и марью, медленно подходил к своей палатке рядом с котлопунктом, где и был центр, штаб его участка.
– Василий Филиппович, ужинать! – позвала его повариха.
Он сел за стол, смастеренный из тоненьких березовых жердинок, напротив багрово разогретого чаем гостя. Ему подали кашу, рыбу. Бурсак-Пташеня пригляделся, уверенно спросил:
– Товарищ Ляпин?
– Кажется, я.
– Почему, извините, кажется?
– В такой преисподней все покажется... Шел сейчас, вижу – синий дымок полоской стелется, по сфагнуму... Душа моя в пятки ушла: пропустили, загорание! Послал ребят с опрыскивателями. Вернулись, говорят: «Товарищ командир, ошибка – туманец над озерцом». Скажу я вам... извиняюсь, кто вы, по какому делу?
– Лектор из города.
– Скажу я вам, товарищ лектор, городской пожар при современной технике, пусть даже самый опасный, – забава против лесного. Где вы видели, чтоб выгорали города? Кирпич, камень... Ну, там этажи, бывает, валятся. А тут? Как в окружении, котле. Откуда вдарит огонь – одному богу известно, а он помалкивает. Простое дело – умом подвинуться.
Бурсак-Пташеня развеселился, охотно принимая за шутку нарочито грустные, как ему подумалось, слова Ляпина. Сжав кулачки, он потряс ими над столом, возбужденно сказал:
– Вы такой... такой крепкий. Вы подкову согнете!
– Может, согну. Да зачем бесполезно? Пожар бы согнуть.
– Так уже... – Бурсак-Пташеня кивнул в сторону черного леса.
Ляпин угрюмо оглядел его, цветасто-мятого, бодренького, затем, смягчаясь, горестно усмехнулся, спросил:
– Вы лектор, значит, знания распространяете?
– Правильно говорите.
– Можно вам прибавить немножко пожарных знаний?
– Рад буду. Знание – сила!
– Видите дым до неба? Вот когда небо будет чистеньким над Святым, тогда и отпразднуем нашу силу. А покуда, извиняюсь, я пойду передохну.
– Товарищ Ляпин! – Бурсак-Пташеня вскочил как подброшенный, обежал стол, загородил дорогу командиру группы, вставив в бока руки, словно желая быть пошире. – А лекция?
– Что лекция?
– Актуальная тема: «Лес – хлеб индустрии». Для воспитания высокой сознательности, морального духа.
Ляпин огляделся, устало и чуть виновато развел руками. Пока они ужинали и беседовали, люди разошлись: кто на дежурство ночное, кто отдыхать. Лишь у походной кухни мыли посуду, котел, убирали в торфяной погребок продукты повариха и две ее помощницы, тоже ученицы кулинарного техникума; им помогал безотказный, застенчивый студент Чемерисов, почти по пояс занырнув в котел, и Валерий Самойлов, охотно жертвовавший личным отдыхом ради волнующего общения с девушками. Ляпин указал лектору на них.
– Всего-то? – изумился Бурсак-Пташеня.
– Вы же понимаете...
– Понимаю, понимаю. Качество главное, не количество. И это... путевочку подпишите?
– Давайте.
Лектор положил на «дипломат» листок, дал Ляпину шариковую ручку, показал, где расписаться, тут же проговорив:
– Благодарю. Осознаете важность мероприятия, в отличие от некоторых вышестоящих, неосознавших...
Взяв его аккуратно под локоток, Ляпин склонился к нему, негромко, точно внушая великую тайну, сказал:
– Советую, товарищ Пташеня: улетайте скорее.
5
Начав облет опорной полосы с левого фланга, побывав в группах Ляпина и Руленкова, к середине дня Корин приземлился у реки, на участке майора Мартыненко. С ним были корреспондент радио и телевидения Ирена Постникова и оператор Аркадий Аркадьевич, почему-то не назвавший своей фамилии. Корин уговорил их хотя бы временно покинуть опасную зону: «Вызову, приглашу, если локализуем пожар». Хотел вывезти и Бурсака-Пташеню, но тот убежал, сказали, спрятался где-то в тундре, завидев вертолет начальника отряда.
Мартыненко чуть на отдалении коротко пожал Корину руку и, по военной привычке, четко, ясно доложил:
– Группа бдительно ведет окарауливание, установлены посты, действуют дозоры, в утренние и вечерние часы отделения из бойцов гражданской обороны отправляются в глубь пожарища на подавление старых очагов, тушение новых загораний; многие, пополнившие группу, получили хорошую противопожарную подготовку, действуют находчиво, смело; но есть и безответственный народ: двое наквасили ягодной браги в бочонке из-под повидла, пили сами, тайно подпаивали малостойких; пара влюбленных переплыла реку и сутки скрывалась в тайге, пришлось посылать бойцов на розыски; один психованный гражданин ушел в лагерный медпункт и не вернулся... В общем же обстановка боевая, люди ответственно относятся к делу, можно и дальше успешно действовать.
– Так. Благодарю. А это... – Корин повернулся в сторону домика-светелки, рубленного из листвяжных, добела очищенных бревнышек. – Самодеятельность малостойких?
– Разрешил, Станислав Ефремович. – Мартыненко покашлял с непривычным для себя смущением. – Мастера, в свободное от дежурств время. Красиво. И польза оказалась: живут в тереме влюбленные, те, которые сбегали...
– Вы серьезно?
– По-другому не могу. Свадьбу в группе сыграли, с песнями, танцами, но без спиртного. За это ручаюсь... Категорически не соглашался сначала, убедили товарищи, и сам Ступин дал добро: пусть, жизнь не остановишь, а так – на глазах будут. И точно – самые примерные стали.
– Если так...
– Так, так, Станислав Ефремович, вы меня знаете, противозаконно не допущу: поклялись перед коллективом после тушения расписаться.
У домика уже расхаживали Ирена Постникова, согбенный оператор; пилот Дима Хоробов что-то громко объяснял им, советовал, тыча пальцем в бугор, вероятно, с какой точки лучше заснимать строение; Постникова отшучивалась, мол, нам, корреспондентам, лучше это знать, и сияла Диме накрашенными губами, подведенными синью веками: вертолетчик вовсю раскручивался, чаруя, обвораживая работницу телерадио элегантными жестами, вдохновенно-возвышенными, чуть-чуть, для шарма, грубоватыми словесами воздушного аса. По ее повелению оператор Аркадий, муж Ирены, как выяснил Дима (потому-то он и не называл своей фамилии), запечатлел их у резного фасада терема.
А вот привели и молодоженов – светлоголового верзилу-акселерата и чернявую девицу баскетбольного роста. Засняли их в разных положениях: на крылечке в обнимку, над обрывом реки и даже выглядывающих из окошка домика, для чего пришлось прорвать прозрачную полиэтиленовую пленку, заменявшую стекло. Пара оказалась самой современной, объектива не боялась, роль влюбленных сыграла – дай бог, без обмана! – вполне артистично, как по киносценарию.
Корина, отказавшегося «запечатлеться для истории», Мартыненко провел по своему участку опорной полосы, показал особо опасные места, где пришлось выжечь уцелевшие при отжиге вершины крайних лиственниц, а затем усадил за стол у своей палатки и попросил девушку-повариху подать чая.
Чай кипятили днем и ночью, он был спасением в дымно-знойном Святом урочище, некогда богатом чистоструйными потоками: ручьи обмелели, родники едва пробивались сквозь зачерствелую, иссохшую почву. Корину приходилось непрестанно просить у снабженцев чай, те дивились, куда идет такая прорва, но завозили; чай был в лагере отряда, на всех котлопунктах, и людям не приходилось пить пустую кипяченую воду. А кипятить приказано было строжайше.
Молча отхлебывали из эмалированных кружек, отдыхали. С Мартыненко не поболтаешь на какие-либо отвлеченные темы, он и сейчас, в эти тихие минуты, наверняка думал о деле, как и что у него на участке, все ли учтено, предусмотрено. Единственный из руководителей групп он без «но», «знаете», «увидим» заявлял: «Выстоим, потушим!» Чтобы отвлечь Мартыненко, суховатого по характеру, сухопарого внешне, а теперь и вовсе исстрожившего себя ответственностью, от забот, Корин спросил сколь мог участливо:
– Алексей Иванович, как у вас дома, в семье?
– Порядок, Станислав Ефремович. Жена нянчит внучку, дочь в геологической экспедиции, сыну-студенту приказал прибыть на тушение, он в группе Ляпина – чтоб никаких поблажек, по всей строгости, попросил. И жена у меня, Маруся, боевая, прилетела бы, да внучку не на кого оставить.
Прост, ясен, прям майор запаса Мартыненко. И семья у него, должно быть, такая же: все они счастливы доступным, возможным, посильным. Пусть и не похож на него Корин, но не такого ли счастья желал он себе?.. Внезапно вспомнилась Вера Евсеева – обдало прохладой, юной легкостью: вот же, протяни руку, начни сначала, и все у тебя будет, хоть ты староват для нее, но ведь не болен, не дряхл, а главное, главное – любовь ее... И тут же горечь поднялась из самой непроглядной глуби души его: к чему это? Зачем? По какой слабости, праву, силе, безволию?.. Жизнь необратима, у каждого – одна. Не раскается ли Вера? Можно ли ему, «делочеловеку», как он называл себя иногда, «спецбеду», вновь стать существом, способным восторгаться, быть нежным, наивно счастливым? «Любви все возрасты покорны...» Да. Но и возраст – времени. Жизни.
Корин поднял голову, чуть тряхнул ею, словно освобождаясь от дум; не мог он понять, уяснить себе: плохо или хорошо ему при теперешнем душевном беспокойстве? Порой он соединял, смешивал его с тем, внешним, нагнетаемым затаившимся пожаром.
– А знаете, что-то тяжко сегодня... – вдруг проговорил уныло Мартыненко.
Ветер неприметно стих, к жаре прибавилась застойная знойность. Зло ярившийся гнус пропал, стрижи низко промелькивали над матово-бледной, издали недвижной эмалью реки. Воздух ощутимо, громоздко отяжелел, в нем накапливалось нечто взрывное, электрическое; казалось, чиркни спичкой – все небо займется пламенем.
Корин глянул в задымленную просеку речного русла, затем чуть выше, где проступало чистое небо, и вдруг увидел: из-за гольца вздымалась буро-черная туча, похожая на рваную, вздыбленную мглу.
Он указал туда рукой. Мартыненко лишь покачал смятенно головой в низко надвинутой фуражке, мрачно нахмурясь.
– Хоробов! – позвал Корин пилота, балагурившего с корреспондентами на песчаной речной отмели после коллективного купания. Дима не успел подойти вплотную, как Корин приказал: – Немедленно в лагерь. И увози гостей. – На немой, слегка растерянный вопрос Димы: «А вы?» – ответил: – Остаюсь здесь.
Будучи истинным авиатором, Хоробов не стал расспрашивать, уяснять: почему, как, зачем? Он уже глянул в ту сторону, куда неотрывно смотрели Корин и Мартыненко, с него мгновенно слетело беззаботное развеселие. Не уговаривая, почти насильно он втолкнул в кабину вертолета Постникову, ее мужа и минут через пять, разрывая винтами тишину, падучий зной, оторвал колеса машины от посадочной площадки.
Вертолет прогудел, прострекотал над тайгой и затих, уйдя к лагерю отряда.
Туча грозно росла, громоздясь на Святое урочище.
ГЛАВА ОГНЯ
1
В природе бывает так: от застоя, томления, недвижности она как бы взрывается, чтобы уравновесить себя, – длительный покой сменяется бурным возмущением стихий. И тогда над землей проносятся ураганы, штормуют моря, выходят из берегов реки, грохочут обвалы, горят леса.
Это ее естественное состояние. И бедствие для всего живого, живущего. Но кто скажет: не человек ли, самый живой из живущих, стал вызывать теперь сверхвозмущения природы, вырываясь из ее уравновешенного круговращения?.. Обводненные пустыни, высушенные болота, порубленные леса, обмелевшие реки, отравляемый океан, отяжеленный угольной и нефтяной гарью воздух...
Человек проникает всюду. Он опустился в глуби земные, он пронзил снарядами атмосферу: так и чудится – остались в меркнущей голубизне незаживляемые дыры-раны.
Может, человек спешит покинуть планету? Но кто же уходит из гостеприимного дома, опустошив его? Или все-таки возникнет индустриальная экоструктура и природа примирится с нею, а человек научится безбедственно существовать в ней?
Кто может сказать?
Ясно одно: мы не вырвались пока из природы, она в нас, вокруг нас. Она порождает нас и растворяет в себе. И потому нам надо обращаться с нею на ВЫ. Остерегись, о гордый человек! Ибо...
...тебе неизвестно, как, в каких сферах зародилась эта буро-черная туча, хоть ты и обозреваешь планету своими искусственными спутниками.
Зародилась, вздыбилась, пошла по межгорью сухим ураганом, подняла все легкое, сыпучее, перемешала, взбурлила, раздула тление, искры в ревущее пламя, понесла его, швыряя клочьями, на живые леса.
2
«Ира! Дорогой Ирун!
Давно я тебе не писала, и было ну совершенно некогда. Сначала самое, самое главное: я сказала Ему... нет, Он сам догадался, что я Его люблю. Он пожал мне руки, кажется, огорчился: что такое с этой радисткой, не в горячке ли какой? Но я все равно самая счастливая сейчас в нашем отряде, а может, и на всей земле. Мне стало так легко, так захотелось жить и делать всем-всем только самое хорошее, доброе. Ведь я прямо задыхалась, не спала, ходила как помешанная, на повариху Анюту накричала ни за что, будто она меня подкармливает самым вкусным, отрывая у других. И думала, думала до дури в голове: Его любят все женщины здешние, в городе и по всей стране... Кто увидит – сразу полюбит. Он единственный, настоящий... ну, в общем, женщины, ты знаешь, замечают, угадывают таких. Нет, не ревновала, этого я не умею. Просто говорила себе: Его обманет какая-нибудь сердцеедка, и Он никогда не узнает даже, что только я, одна я любила его, буду любить, пока дышу, вижу белый свет.
Вот так мечусь, а войдет Он в палатку, спросит о чем-нибудь – сразу успокоюсь, говорю, делаю, выполняю все как нормальная, только хочу, чтобы Он долго-долго не уходил, чтобы сам увидел, понял... теперь мне все равно, Ирочка, что со мной будет дальше. Я люблю. И Он знает это.
Ты всегда была разумная, замуж вышла обдуманно, ребенка родила, развелась, когда захотела. У тебя – надежный друг, ты свободна, довольна. Ты похожа на мою маму, только ты красивее и у тебя воли побольше. Она тоже с другом жила, а потом этот «друг семьи» стал приставать ко мне, уговаривал выйти за него замуж. Мама его прогнала, но и сама свихнулась, говорит, любила. Теперь она «подруга» то одного, то другого, но тебя, Ирочка, это не касается, ты очень волевая, выйдешь замуж, когда захочешь.
А меня не вздумай жалеть. Я рада, что так получилось: ушла из института, окончила радиошколу, попала на Урдан... Я встретила человека и пойду за ним, куда он меня позовет. Хочу, чтобы позвал. Чувствую душой, сердцем – позовет!
Ты пишешь, Ирка, будто мы здесь долго возимся с нашим пожаром. Не мешало бы и тебя мобилизовать на подмогу, да ты отвертишься, не народилось еще такое начальство, которое бы ты не перехитрила. Ты артистка, правда? Ты не зря хотела в театральное училище, и совсем зря провалили тебя... А у нас здесь невесело, это уж точно, почти как в древней Никоновской летописи: «...бысть сухмень велика по всей земле... и реки многи пересохша, и озера, и болота; а лесы и боры горяху...»
Ты подсказываешь даже: есть же «встречный огонь» в романе хорошего писателя Шишкова, примените... Тебе кажется, мы тут ничего не понимаем и не хотим побыстрее одолеть пожар. Да это просто красивая легенда – твой «встречный огонь», ей уже больше ста лет, и она, как написано в специальной брошюре, «применима только на книжных страницах». Представь: перед фронтом пожара будто бы копают канаву, в нее собирают вал из сухого хвороста, лесного подстила и поджигают этот вал в момент приближения большого пожара и появления «встречной тяги». Два огня сталкиваются, пожирают друг друга, бедствию конец. Здорово, правда? На это и ловятся писатели да корреспонденты, не ведающие, сколько бед принес людям этот придуманный «встречный». Один вот как художественно изобразил (выпишу тебе несколько предложений): «...когда огонь добирался до сердца березы, она вспыхивала красивым белым пламенем... Стройные лиственницы пылали, как факелы... потом сразу рассыпались грудой искрящихся, словно драгоценные камни, углей... В одну секунду все дерево (это про осину) занимается пламенем и падает, вздымая каскады искр... (а потом она) долго змеилась, точно нежась в пламени». Зато тис еще долго сохранял свою форму. И вообще у этого писателя-«пожарника» вековой лес сгорал, «как восковая свеча в натопленной бане».
А ведь такого не бывает, дорогая Ирочка. Стволы живых деревьев не горят, не горят Даже при самых сильных пожарах, у них лишь обугливается кора и сгорает хвоя, листья да кончики веток. «Деревья умирают стоя» – хорошо кто-то сказал. И это сильней, верней, ужасней всех жутко-красивых выдумок.
Мы сделали все правильно, провели отжиг, я тебе писала. Остановили пожар, теперь окарауливаем. Пожар окарауливаем, живой лес, поселки, города и тебя тоже, Ира, так что будь спокойна и счастлива в личной жизни. Друг тебя любит, я – тем более...
Минуточку, вроде бы к штабной палатке направляет свои развалистые стопы вертолетчик Дима Хоробов. Когда я вижу Диму одного – у меня сразу екает сердце: не случилось ли что с нашим, моим начальником? С Ним? Остался на опорной, ушел отдохнуть в свою палатку?.. Нет, днем Он не отдыхает. А если заболел, срочно увезли в город?.. Вот уже грустно мне, уже в глазах мутнеет, а тут духота такая... Все, Ира, кончаю письмо, побегу навстречу Диме. Приветы всем знакомым и твоему экскурсбюро!
Твоя Верка Евсеева».
Но выйти она не успела. Пока заклеивала конверт, писала адрес, мельком оглядывала себя в зеркальце, откинутые полы палатки закачались, послышался стук – у входа была прикреплена фанерная дощечка с надписью: «Без стука не входить!», подвешен на шнурке деревянный молоток (об этом лично позаботился пилот Хоробов), – и Дима, просунув голову, словно поклонившись, непривычно спешно спросил:
– Можно, Вера?
– Входи. Вижу, жду.
Он сел на чурбан у стола, сдернул фуражку, потянулся кружкой к ведру с водой, зачерпнул, стал пить звучными крупными глотками; затем смочил носовой платок, отер им лицо, шею, руки. Отдохнув минуту, молча перевел взгляд на карту Святого урочища с четко прочерченной опорно-защитной полосой; смотрел, морщил лоб, что-то обдумывая.
А Вера смотрела на него. Изменила Диму таежно-пожарная жизнь: пообтерся пилотский элегантный костюм, от белой рубашки пришлось отвыкнуть, да и лаковые туфлишки заменить – удобнее были грубоватые, на толстой подошве, туристские ботинки. Его светлые, по-мальчишески вперед приглаженные волосы еще более выбелились, смугло-румяное лицо стало коричневым, и голубизна глаз вроде бы размылась слегка, съеденная дымом. Но конечно, и этот, теперешний, Дима Хоробов был внушителен, красив, а мужественности прямо-таки вдвое прибавилось. С характерцем этот вертолетчик, подумалось Вере, от него нечто такое исходит, необъяснимое, делаешься маленькой, беспомощной, и, помимо воли своей, хочется попросить у него защиты.
– Что-то случилось, Дима? – спросила она негромко, словно заранее уговаривая не пугать ее.
– Пока ничего, Вера. Но я отправил в город и корреспондентов, и защитника природы; жаль вот – лектор сбежал... Над гольцами туча нехорошая. Закрепил своего жука-трепыхалку, посоветовал Политову приборочку сделать – что спрятать, что укрепить. На всякий непредвиденный случай, так сказать. Понял, хлопочет.
– А он?..
– На опорной. Собрание проводить не стали.
– Дождика бы из той тучи.
– Кстати, запроси погоду.
– Утром давали – без изменений, – сказала Вера, но все же включила рацию (теперь она выходила на связь через каждые два часа); из динамика хлынул густой шум, треск грозовых разрядов, Вера позвала:
– Центр, я – Отряд, прошу прогноз погоды.
Сквозь гул, почти осязаемую тяжесть эфира пробился строгий женский голосок:
– Давали же.
– У нас тут...
– Повторяю: на ваш район температура двадцать восемь – тридцать градусов, безоблачно, ветер до умеренного, давление... – И там, за лесами, долами, сопками выключили передатчик.
– Запиши еще раз, – посоветовал Дима.
Вера склонилась к журналу, куда она заносила все переговоры с Центром, а Дима сказал:
– Станислав Ефремович говорит: на Востоке считают, что есть пять вещей, известных одному только аллаху: день смерти, пройдет ли дождь, пол ребенка во чреве матери, события завтрашнего дня и место, где должен умереть каждый человек. Такая вот мудрость, Вера. И заметь, дождь, в смысле погода, – на втором месте. Как видим, сие загадочно и в наш век атома, информационного взрыва, экологического кризиса, стрессовых и прочих перегрузок. Но «кавэант консулес» – пусть консулы будут бдительны. Твоя палатка крепко стоит?
– При нем ставили. Сам следил.
– Значит, надежно. А ты почему его никак не называешь?
Вера усилила звук в динамике, палатка наполнилась грохотом.
– Послушай, там что-то страшное творится.
– Туча. Может, пронесется стороной.
– А дождь?
– Видел с воздуха – сухая... А ты не ответила. Ведь и бог имя имеет. Ну, Христос, скажем.
Она промолчала, внимательно глядя на Диму, стараясь угадать: допытывается он чего-то или, по обыкновению неотразимого Димы-пилота, хочет повеселиться, подшутить над нею слегка, бездумно передыхая.
– Ведь я знаю... – сказал он с грустным вздохом.
– Догадалась, что знаешь, – ответила Вера.
Дима опустил руки на колени, свесил голову и, глядя исподлобья влажной, усталой голубизной глаз, заговорил:
– Я какой философ, Вера? Но книжек перечитал немало, пожить успел в меру своих сил и возможностей, так сказать. А вот к людям недавно стал присматриваться. Раньше как: красивая девушка – ухлестнуть, неглупый крепкий в деле парень – подружиться. Чтоб все любили тебя, радовались, страдали из-за того, что ты есть на свете. Необыкновенный. Супермен, современно выражаясь. Все, довольно на ближайшие годы молодой жизни... И вот – пожар, отряд, таежная работа, Корин, другие, ты... Попал в экстремальность. Нет, поначалу мало чего понимал – работы хотелось упорной, и все. Тебя приметил – прекрасно, думаю, лично для меня командирована эта крашеная шатенка, извини, современно-спортивной внешности и общительным стилем поведения. Разыграем любовь как по нотам! Ну и дальше, ты знаешь, – с лету, по-авиаторски: цель вижу, пикирую! Получил отпор – пошел на новый заход. Капризничает девочка, решаю. Опять неудача... Ладно, Олег Руленков надоумил. Пригляделся: все ясно без дополнительного освещения. И погрустил, и поиздевался над собой, понял для себя: влюбленный человек выпадает из житейской игры, он – неприкасаемый. Позавидовал Корину, тебе, конечно, Вера. Вспомнил: была и у меня любовь, пусть мальчишеская, но звонкая, как утренний полет в голубое небо, как обещание светлой вечности. А я победами занялся... Ты остановила меня, спасибо.