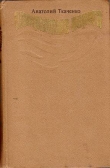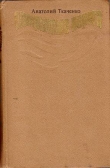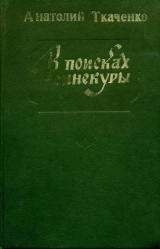
Текст книги "В поисках синекуры"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Да что ты, Дима! – Вера, занемев, потупив глаза, слушала его, а сейчас выпрямилась, лицо ее ожило, щеки запылали, она приложила к ним ладошки. – Я сама не знаю, как получилось... Это тебе спасибо, ты так говорил, не каждый может так о себе. Ты добрый, умный. А я что, я самая обыкновенная.
– Нет, – остановил ее Дима, – гляжу на тебя и вижу: все у тебя особенное. Глаза твои серые чуть позеленели, точно зацвели, сделались больше, чтобы все видеть, все вмещать в себя; губы без помады, так сказать, крашены и волосы не из журнальчика «Силуэт», а свои. Ты вернулась к себе, той, настоящей, и сделалась особенной. Извини за такое сравнение, но другого я не могу найти: ты напряглась, как мой вертолетик, каждым винтиком, проводочком, чтобы взлететь, одолеть притяжение земли для счастливого полета... Ты особенная, ты – любишь. Я понимаю теперь: только любящая женщина – женщина.
Вера подошла к Диме, подняла ладошками его голову» поцеловала в лоб, в обе щеки.
– Ты как поэт. Тебе я верю. Ты таким оказался... для тебя я все сделаю!
Дима поцеловал ей руку, с кроткой улыбкой попросил:
– Можно, Верочка, чаю?
Она засмеялась, легко выбежала из палатки; ее смех слышался от кухни, где она говорила с поварихой Анютой и звякала чайником; вернулась едва ли не бегом, наполнила кружки, бросила в них, по таежной привычке, большие куски колотого сахару, включила и настроила приемник на «Маяк»: в знойный воздух палатки, сквозь возмущенный эфир, как по заказу, потекли прохладные звуки «Танца маленьких лебедей».
Слушая, они легко говорили о всяческих пустяках – какие фильмы идут в городе, кто из знакомых и что купил, достал дефицитного, импортного, хорошо бы успеть на московскую эстраду... и разом заметили: бурно зашумел лес, стал меркнуть день, будто внезапно наступило солнечное затмение.
3
Одолев гольцы, буро-черная туча как бы упала в просторное межгорье, растеклась кипучей мглой и начала быстро накрывать Святое урочище, вздымая пепел, золу притихшего пожарища. Первые всполохи ветра просвистели в обгорелых вершинах елей и лиственниц, всколыхнули зеленые ветви деревьев за опорной полосой, приглохнув в гущине живого леса. Но вот ударил шквал с запахом дыма, хари.
Корин встал, сказал вскочившему Мартыненко:
– Объявить по всей линии, всем группам: усилить окарауливание, выставить весь наличный состав.
Мартыненко быстро передал приказ связным, собрал командиров подразделений, и минут через десять бойцы гражданской обороны, люди из многочисленного пополнения уже покидали палатки, разбирали лопаты, метлы из стальной проволоки, ранцевые опрыскиватели, выстраивались вдоль минерализованной полосы в зоне отжига.
За дымным шквалом прошел второй, третий – и хлынул мощным напором ураган. Потемнело, затмилось все так, что люди, стоявшие в цепи, едва различали друг друга, голоса их глохли в шуме, реве, грохоте падающих на пожарище деревьев. Снесло палатку, вздыбив ее парашютом, кинуло наземь, поволокло; в сумеречном воздухе белыми тревожными птицами заметались листы бумаги, клочья газет. У котлопункта завизжала повариха, ловя убегающее от нее скоком ведро.
Корина чуть не накрыло краем палатки, его схватил под руку Мартыненко, повел к домику-терему, где они укрылись у заветренной стены. Отсюда, с возвышения, лучше видна была зона отжига, и вместе они, не сговариваясь, стали туда всматриваться: не промелькнет ли огонь? Когда, в каком месте? Чтобы сразу же забить, погасить его. Будучи опытными пожарниками, Корин и Мартыненко знали: чудеса хоть и случаются, но не очень часто, тем более на таежных пожарах; ураган такой силы, без дождя, может раздуть, разжечь любое, самое слабое, тление.
И они, кажется, вместе заметили красноватые проблески в дыму, черноте гари у самой земли: вспыхнут, загаснут, вновь запламенеют...
– Вон, Станислав Ефремович, под остовами елей... – негромко, как дурную весть, сообщил Мартыненко.
– Вижу, – едва внятно выговорил Корин.
К огню кинулось несколько человек в масках, с метлами, ранцевыми опрыскивателями, забили, залили его «мокрой» водой.
– Не поверил бы, если б не увидел, – изумился Мартыненко. – По отжигу, по золе, можно сказать, ползет. Ну, зараза...
Корин только кивнул и указал ему вправо, в заросли опаленного ранее ольховника: по темным стволикам ползли, вроде бы нежно облизывая, красно-желтые, пугливые языки, вспрыгивавшие от задымленной земли. Туда тоже бросились люди. А вот еще правее, недалеко от рубленого домика, запылал, словно кем-то подожженный, валежник. Он был не виден людям в цепи, и Корин крикнул Мартыненке:
– Пошли!
Схватив лопату и метлу, они подбежали к валежнику. Горел он пока несильно, занявшись где-то внутри, в тлеющем подстиле. Корин расшвырял ветки лопатой, Мартыненко забил пламя метлой. Затем они окопали очаг, забросали его разрыхленной землей. Перешли к другому выплеску пламени, навалились, одолели, задыхаясь дымом.
Боец-пожарный принес им маски, брезентовые рукавицы, на ноги несгораемые унты, и они прошли в центр опорной полосы, чтобы лучше видеть фланги.
Минуло не менее двух часов. Ураган усиливался. Связные сообщали: люди стоят, надежно, кое-где к опорной проскальзывал огонь, но его погасили; особенно трудно тем, у кого нет масок: задымленность густела. Слушал Корин это и понимал: долго не продержаться. Ну, час еще, полтора, если начнет стихать ветер.
Глубинное нутро пожара накалялось все жарче, в нем горел бурелом; там бушевало пекло, от него накатывались волны удушливого зноя. Жар приближался. И когда по вершинам необгоревших лиственниц понеслись хвостатые огненные кометы, Корин не удивился этому и не испугался. Случилось обычное: при ураганном ветре низовой пожар перешел в верховой. Теперь горело все, что могло гореть, снизу доверху.
– Отступить на опорную! – приказал он.
Люди забивали, забрасывали землей, заливали «мокрой» водой потоки пламени, текшего к минерализованной полосе, но против верхового огня они были бессильны. Оттого, пожалуй, с риском, отчаянным остервенением кидались на этот, доступный, огонь, породивший тот, над их головами. Вон кто-то, крикливо выругавшись, метнулся навстречу огню, начал топтать его, бить плашмя лопатой; парня охватило дымным смерчем; к нему подбежали трое, вывели из опасного места и тут же принялись бинтовать ему обожженные руки. Еще на одном смельчаке задымилась одежда, а другой опалил лицо, волосы – пришлось окатывать его водой.
Корин подозвал Мартыненко, хмуро сказал ему, с явным упреком, досадуя, что такой бывалый командир не видит очевидного:
– Прекратить глупое геройство.
Вся надежда теперь на опорную полосу: хватит ли ее ширины, пространства, чтобы ветер не перенес сорванные горящие ветви, клочья мха, птичьи гнезда на живую, нетронутую сторону Святого урочища? Корин с горькой усмешкой вспомнил инструкцию, которая рекомендует для отжига вовсе не рубить просеку, «поскольку любой разрыв в лесу усиливает ветер и горение». Он все-таки по наитию решил рубить, и вот видел: просека недостаточно широка. Но кто мог предугадать этот ураган?..
Не Корин первый, не Мартыненко заметили то, чего страшились все. Внезапно, как-то неестественно звонко из дымной мглы, сквозь шум, треск, грохот леса пробился выкрик:
– Лю-у-ди-и... Он та-а-м, прошел!..
Огонь был за полосой, кровавыми сгустками, аспидной чернотой дыма пятнал живой полог леса – пока еще робко, словно не веря своей дикой ненажорной удаче, но уже вольный, неостановимый.
Присев на чурбак у снесенной палатки, Корин вздрагивающими руками набил табаком трубку, склонился, пряча лицо от ветра; надо успокоиться, минуту-две передохнуть, подумать, как быть дальше. Кто-то присел рядом – вероятно, Мартыненко, и Корин сказал:
– Людей за полосу не пускать.
– Уже распорядился.
Корин приподнял голову, удивленно скосил глаза: сбоку сидел диспетчер Ступин. Одежда на нем хоть и запачкана сажей, но лицо выбрито, чистое, пожалуй, умывался в ручье. И спокоен. Натура истинно делового человека: чем трудней – тем хладнокровней. Корину стало почти легко, он порадовался даже: вот ведь везение какое – этот неведомый для него ранее, невезучий летун Ступин! Пробеги он по опорной потный, испуганный, задыхающийся – и паника неизбежна. А диспетчер прошагал хоть и спешно, однако так, что каждый увидел: ничего гибельного пока не произошло. Корин пожал Ступину руку.
– Благодарю, Леонид Сергеевич.
Подошел Мартыненко с обгоревшим рукавом форменной куртки, ссадиной на подбородке, в явном возбуждении. Увидев невозмутимо разговаривающих начальников, он устыдился своего вида, отряхнул, одернул куртку, а руку с обгоревшим рукавом спрятал за спину и нахмурился, старательно выказывая свое спокойствие, что и на самом деле заметно успокоило его. Мартыненко присел, пригнулся к ним.
– Будем отходить, – сказал Корин. – К марям.
Ступин согласно кивнул.
– А по реке? – спросил хрипло Мартыненко.
– Плоты срубить не успеем, берегом едва ли... – Ступин поднял глаза на Корина, и тот договорил за него:
– Берег местами закрыт скалами, с воздуха осмотрел.
– Понятно.
– На сборы полчаса. Продукты разобрать в рюкзаки. Ранцевые опрыскиватели наполнить водой. Взять весь пожарный инструмент. Отходить бригадами, в порядке их размещения. Пустить по линии связных с этим приказом. Все.
Они поднялись, пошли к бревенчатому сараю-складу возле котлопункта. Корин проговорил:
– Мне тоже рюкзак.
– Есть, – отозвался Ступин, уходя вперед, теряясь в дымных всполохах.
И тут послышался тонкий, жутковатый, похожий на плач крик. Приглох. Вновь прорвался сквозь шум, грохот урагана, словно силясь одолеть его, умолить, остановить. Возбужденно зазвучало множество голосов. Было похоже: люди сбиваются, скучиваются в толпу.
Вскоре Корин увидел: дюжий боец гражданской обороны держал худенького светловолосого паренька, заломив ему руки за спину, пригнув головой едва ли не до земли, а двое других прыскали в чумазое лицо паренька воду из ручья консервной банкой, наговаривая при этом:
– Тише, тише, студент...
– Ну, испугался, бывает...
Глянув из-подо лба налитыми краснотой глазами, паренек узнал Корина, дернулся, заговорил часто, с надрывным плачем:
– А-а... начальник, начальник... ты куда нас завел... Горим, везде огонь... сволочь ты, начальник... орден зарабатываешь, начальник... тебя вывезут, нас бросишь, как собаки сгорим... Не меня держать надо, тебя, начальник... эти болваны не понимают... Тебя в огонь, чтоб первый сгорел...
– Паникер, трус! – выкрикнул Мартыненко, став между Кориным и студентом, как бы разделив их. – Связать его, пусть отдохнет, успокоится.
Корин оттеснил Мартыненко, сказал:
– Отпустите.
– Так он помешанный, – смущенно проговорил боец, заломивший студенту руки. – В огонь кидается, вас казнить агитировал.
Корин промолчал, только кивнул, соглашаясь, но и подтверждая свои слова. Боец с опаской, неохотно отпустил студента. Тот выпрямился, передернул плечиками, как тощими крылышками выпущенный из ладоней птенец, шагнул было к Корину, но наткнулся на его взгляд и уже не мог оторвать своих набрякших, понемногу обретающих ровный сероватый цвет глаз от коринских недвижных, напряженно тяжелых. Когда студент, будто набравшись успокоения, вяло потупился, Корин проговорил с явным облегчением.
– Дать ему глоток спирта для бодрости.
– Есть! – почти весело согласился Мартыненко.
– А вы слушайте. – Корин положил руку на плечо студента, чуть откачнул его, чтобы видеть лицо. – Говорю перед всеми. – Он оглядел столпившихся пожарных: их было много, усталых, с закопченными лицами, в обгоревшей одежде, настороженных, мрачных, наивно, любопытно посмеивающихся; голоса их глохли в шуме леса, реве ветра, дальние едва различались сквозь дым и хмарь. – Тем, кто меня не услышит, передайте мои слова. Буду идти последним. Выйдем, я в этом уверен. А вас, – Корин резко качнул, как бы встрепенув, студента, – приглашаю идти со мной. Все, товарищи. Выполняйте распоряжение своего командира.
4
По всей опорной полосе люди двинулись в одну сторону – к марям, озерам; из плена горящей тайги на простор влажной тундры. Справа дымил, курился сгоревший лес – то частоколом, то черной колоннадой обуглившихся лиственничных и еловых стволов; слева – полыхал зеленый лес, вздымая к небу огромные дымы с кровавыми факелами огня понизу.
Люди шли медленно, глядя себе под ноги, ибо теперь тлело, схватывалось внезапными едкими огнями все, даже, казалось, сама дорога – полоса, очищенная до минерального слоя; надвинули противодымные маски; у кого не было защитных касок, прикрывали головы кусками фанеры, сырым лиственничным корьем, просто запрокинутыми саперными лопатами; бушевавший ветер; точно взбесившись от огненного зноя, заблудился во мгле и дул как бы со всех сторон разом, бросая на опорную, взвихривая над нею полыхающие ветви, горючий лесной подстил.
Были раненые, обожженные, отравившиеся дымом; с одних сняли рюкзаки, и они шли налегке, других вели, поддерживая, помогая идти; нескольких положили на носилки, укрыв палаточной тканью, несли посменно, осторожно: у этих тяжелые ушибы, вывихи.
Глубокой ночью группы Мартыненко и Руленкова вышли на марь. Бойцы добровольной пожарной дружины Василия Ляпина встретили их выстрелами из ракетниц.
ГЛАВА ОТСТУПЛЕНИЯ
1
Как только разразился ураган и небо затмилось мглой, в лагере отряда поняли: едва ли удержатся на опорной группы, окарауливавшие пожарище. А значит, огонь двинется в глубь урочища, к лагерю. Завхоз Политов и пилот Хоробов собрали совещание, пригласив инструкторов, старшин резервных групп; говорили, спорили недолго – все понимали: связь прервана и с командиром отряда, и с Центром, срочных указаний ждать неоткуда. Тем более безумно ожидать приближения пожара. Было решено: готовить лагерь к эвакуации. Когда, каким способом отступать – вертолетами ли, если стихнет ураган, пешком ли по таежным тропам – станет ясно позже. А пока – готовиться.
Маленький, толстый, одышливый Политов живо принялся за неотложные хозяйственные дела; казалось, порывами ветра его переносило от штабной палатки к столовой, где крикливая повариха Анюта, враз присмирев, послушно выполняла приказания супруга, оттуда к дощатому складу, затем на вертолетную площадку, и опять по тому же кругу. Он почти не говорил и вовсе не покрикивал; если видел, что медленно укладываются в мешки продукты, не очень сноровисто заколачиваются ящики с имуществом, он брался подсоблять, и его одышка, мокрая от пота лысина, кротко посверкивающие за пучками колючих бровей серенькие глаза устыжали молодых и пожилых отрядников, те начинали живее пошевеливаться.
Дима Хоробов помогал Вере Евсеевой. Уложили, запаковали в полиэтилен и ящики все штабное имущество; только радиостанцию оставили включенной: вдруг возникнет в возмущенном эфире «прозрачное окошко», сквозь которое прорвутся позывные Центра или тоненький голосок переносной рации с опорной полосы. Однако небеса гремели разрядами, электрическая буря, сотрясавшая их, подавляла все электромагнитные волны, излучаемые антеннами.
Палатку рвало ветром, сумерки густели, дымный знойный воздух выжимал из глаз слезы, дышалось часто, с хрипом, словно в самих легких курилась едкая хвойная прель. Вера сидела возле включенного приемника, терпеливо крутила колесико настройки, но одета была по-походному: в старенькие джинсы, такую же рубашку-батник, волосы туго повязала косынкой – чтобы подняться в любую минуту, свернуть радиостанцию, идти, куда прикажут. Дима то выходил из палатки, то возвращался узнать, не ожила ли связь, и всякий раз Вера, коротко, сухо кашляя, спрашивала его:
– Как, Дима?..
Он грузно присаживался к столу, отдыхал, говорил затем, неспешно рассуждая:
– Нормально. Думаю, огонь перешел за опорную, сильно припекает.
– А они, Дима?..
– Выйдут. Там Корин, Ступин... И вообще, Вера, всегда помни хорошую песню наших предков: «И в огне мы не утонем, и в воде мы не сгорим...»
– Ты можешь шутить, когда...
– Когда надо шутить, чтобы, так сказать, не растерять присутствие духа. У нас почти все готово, будет приказ – снимемся. Не будет – сами решим... Здесь нам не выстоять. Для новой опорной – ни рельефа, ни времени, ни людей.
– Только бы вышли. Только бы все живые, – сказала Вера и задохнулась, всхлипнув, приложила к глазам платок: ей показалось, будто за палаткой сверкнул огонь: – Что это?..
– Сухая молния. Может, шаровая.
– Сухая и тихая. Ужас!
Дима увидел глаза Веры. Из потемок угла на него глядели два влажных, красноватых, недвижно светящихся пятнышка. Индикаторы, подумал он, и еще подумал, что впервые видит горящие человеческие глаза – от дыма ли, от страха, от чего-либо другого, непонятного ему... Дима встал, не мог не встать, пошел к этим глазам, чтобы успокоить, пригасить их, ибо жутковато, необъяснимо тревожно, как перед гибельным предчувствием, сделалось у него на душе. Он безотчетно протянул к ним руки, но его ладони перехватила Вера, стиснула удивительно сильно и спросила, умаливая его, точно саму судьбу:
– Он придет?..
– Ты веришь? – едва нашелся Дима.
– Да, да...
– Придет!
Дима все-таки осторожно коснулся пальцами ее век; горячие, они скользнули вниз, прикрыли глаза, и Вера отвернулась к приемнику: в палатку тяжело протискивалась повариха Анюта, одолевая хлопающее на ветру полотно, придавленное к земле булыжниками.
Наконец вошла, сдернула с головы платок, утерла им потное лицо. «Уф!» – выдохнула из себя, уселась на чурбан-кругляк и еще минуту молчала, что могло означать; очень утомилась, так намоталась – языком шевельнуть не могу. Но конечно, заговорила, а заговорив, как пластинку запустила внутри себя, где все заранее записано.
– Товарищи уважаемые, я трудовая женщина... – Анюта споткнулась, вспомнив, вероятно, что ее и без того все в лагере называют не иначе как «трудовой женщиной». – Ну, я про то – всякую беду видала, на всяких бедствиях этих, стихийных, присутствовала. А чтоб кухню раньше времени прикрывать – такого не знаю. Ладно, отужинают люди. Так это ж – ужин, его насколько хватит? До утра, ясное дело. Проснутся люди в этакую коптищу-дымищу, чем я их угощу? Мой начальник-руководитель, супружник дорогой, категорицки распорядился: закрывай свою кашеварную контору! Я ему: без любой конторы можно, без этой – скоренько скрючишься... Перепужался мой Политов, очень пужливый стал после лечения алкогольной болезни, ему никак нельзя руководство поручать, волнуется шибко. Он по хозяйству умелый, когда умный, строгий начальник над ним. Ты хоть молодой, Дима, да образованный, управляй сам, не дели власть на двоих, если такая трудная обстановка получилась. Вот те крест истинный, Станислав Ефремович один котел да оставил бы на утреннюю горячую пищу, окромя чая. Пускай погорят эти котлы, зато люди пойдут али полетят сытые. Правильно я говорю, товарищи уважаемые? Особенно ты ответь мне, начальник Дима.
– Согласен, Анна Степановна. Не будем горячку пороть, нам и так горячо... Пойду, обсудим с вашим супружником.
– Во, втолкуй ему в лысую голову: первое – еда для человека. Накорми – потом требуй.
Хоробов вышел, и Анюта быстренько пересела поближе к Вере. Повздыхала горестно, покачалась на чурбаке, спросила с нежным сочувствием и неодолимым женским любопытством:
– Небось страдаешь?
Вера промолчала, ни говорить, ни принимать сочувствия она не хотела. Анюта конечно же знала все: что-то выведала, о чем-то догадалась, подследила, подслушала – словом, была «в курсе». Отнекиваться, стыдиться, просить ее не лезть в чужую жизнь – бесполезно. Лучше молчать. Анюта сама все объяснит, расскажет, посоветует.
– И-и... – пропела та, впадая в печаль великую. – Жизнь-жестянка, чего она с нами не выделывает. Кого полюбишь, кого на дух не примешь – знать не знаешь до срока, до времени. Вот возьми меня. Все многие годы, можно сказать, страдаю со своим Семеном, особенно когда выпивал сильно, а судьба, значит, не ушла, не бросила. Любила, жалела, свою вину знала: не родила ему детишек. Так вышло-получилось: в войну, девчушкой, токарничала на заводе, вот такенные железяки подымала... – Анюта развела руки, показывая, чуть толкнула в плечо Веру, мол, не спишь ли. – Подымала и надорвалась... Какие ж дети после этого, когда я была изработанная, тонюсенькая, как былинка?
Анюта всхлипнула, спрятала в платок лицо, склонила голову, удерживаясь от плача, и Вера положила ладонь на ее по-старушечьи плотно зачесанные сухие волосы. Не ожидала она, что вот так вдруг расплачется эта могутная женщина, неунывающая мама отряда, обидеть которую, кажется, не смог бы сам дьявол из преисподней. Подумалось: вот теперь бы ей повстречаться с тем мастером... И еще подумалось: в любые беды, несчастья, бедствия женщины не забывают о жизни – своей, личной, счастливой или неудачливой, будучи ну совершенно уверенными, что их жизнь, пусть и маленькая, очень важна, просто необходима для большой, всеобщей. Оттого, вероятно, женщины не умеют хранить душевные тайны, и самая молчаливая хоть раз, хоть перед кем-нибудь, хоть за минуту до смерти, а исповедается.
– Анна Степановна... – окликнула ее Вера. – Вы же меня пришли успокоить. Так ведь? И вот сами...
– И вправду так, Верочка. – Она медленно выпрямилась, повязала голову светлым платком, словно подмолодилась, и глаза ее, омытые слезами, свежо глянули. – Да у баб как? Чего скорей почувствуешь, то и выложишь. Нажаловалась Диме на своего Семена, а вспомнила нашу с им жизнь, пожалела его: обиженный он. Потому терпела от него все, он для меня и как дитя неудачливое, и как любимый человек по жизни. Рассуди теперь все это, развяжи наш узелок. Умных умнее жизни не бывает... Вот я тебе и хотела сказать: человек мало чего может сам. Ну скажи, разве ты сама выбрала Корина? А может, он тебя? Так он тебя и посейчас издали видит. Правильно я говорю?.. Жизнь тебя толкнула к нему. Жизнь, которая везде и, главным делом, в сердце человека. Почему, ответь? Не знаешь, то-то. А если б сама выбирала – тут и слепому видно: вот он ходит около тебя, Дима Хоробов. Пара. По годам, по красоте. Завсегда так люди и сводят – лишь бы их глазу, их душе приятность была. Али сами так сходятся – по красивой внешности. Лестно красивому с красивой. Жить можно. Живут. Да не жизнь их свела. Основательности мало, чуть что – в разные стороны, по своим жизням разойдутся. Понимаешь теперь меня?
– Понимаю, Анна Степановна. Вы меня не осудили, потому что жизнь знаете. Спасибо вам. А про детей... У вас ведь сын большой.
– То детдомовский. Грудничком взяли. Родной. Да ты гляди не проболтайся кому. Только тебе и сказала, так ты мне душевной учуялась.
– Никогда!
– Теперь слушай совет: Станислав Ефремович – твоя судьба. По всему выходит. Смелей будь. Он умный, поймет, кто ты ему. Не захочет тебя потерять. А не выйдет с им – к другому не приклеишься. Такая ты есть. Одинокие, они ведь не по охоте одинокие – по жизни, по характеру. Надо больше жизнь любить, чтоб она хорошее делалась... Ну, я побегу, ужин раздавать время. Тебе принесу, тебе ж нельзя от рации своей...
В рации бушевал пустой, обезжизненный эфир, ураганная дымная тьма накрыла Святое урочище.
2
Опасаясь встречи с начальником отряда, лектор Бурсак-Пташеня не лез в тесную, шумящую гущу народа, вышедшего на марь. Он сидел у входа опустелой землянки, укрывшись от ветра, прямо-таки валившего с ног, следил, наблюдал, понимая: скоро будет дана команда отходить к главному лагерю. А пока шла перекличка в группах. Вперед были посланы пожарные-парашютисты, чтобы сдерживать, вылавливать паникеров, бегущих на верную гибель средь болот, черной непроглядности, одуряющего ветролома. Тьму резали красные лучи фонарей, иногда взвивались ракеты, тускло освещая из низкого тяжелого неба плоскую серую марь. Слышались резкие, надрывные голоса, выкликающие фамилии, и Бурсак-Пташеня желал одного – чтобы о нем забыли; он пристроится, пойдет, изо всех своих сил будет идти... но сейчас не надо показываться людям, которые могут посмеяться над ним, сбежавшим от вертолета в тундру, а могут, при такой усталости, неясной обстановке страшно рассердиться: ползают тут всякие пузаны, отвечай за них, выводи, выноси!.. Однако о нем вспомнили, сперва он услышал свою фамилию, затем два парня, отыскав его, молча схватили под руки, поволокли к толпе, вернее, к замыкающей группе, ибо люди выстроились в единую колонну.
Лицо Бурсака-Пташени точно ожег свет фонаря, и послышался голос Корина:
– А, это вы, лектор... – Свет ощупал его с головы до разбитых полуботинок, вернулся к голове. – Да, одежка у вас дипломатическая... А двигаться можете?
– Еще как! Я сильный, товарищ начальник!
Кто-то хохотнул невесело в темноте, кто-то ругнулся. Корин приказал:
– Сапоги ему, хоть какие-нибудь, он же бос. – И опять Бурсаку-Пташене: – Пойдете со мной. Ни шага в сторону. Ясно?
– Слушаюсь.
Нашлись кирзовые сапоги, кто-то поделился запасными портянками, лектора обули, голову поверх шляпы накрыли каской; он бодро вскочил и выразил желание взять на плечи рюкзак с поклажей, но ему вежливо посоветовали донести в сохранности свой «дипломат».
Взвилась зеленая сигнальная ракета, и колонна медленно тронулась, сперва головой, видимой лишь тусклыми проблесками фонарей, затем колыхнувшейся серединой и наконец хвостом. Бурсак-Пташеня хотел из скромности чуть отстать, пропустив вперед начальника, но был жестковато подтолкнут в спину, и зашагал рядом с худеньким пареньком, которого вскоре окликнул Корин:
– Студент! Петя!
– Нормально, Станислав Ефремович, – сипло отозвался паренек, поправляя лямки большого рюкзака.
– Будет тяжело – скажи.
– Донесу.
Ветер бил порывами, завихрениями, достигая страшной силы, а потом вдруг опадал, как бы утомившись, и начинало казаться: может, вовсе он стихнет, умолкнет, выдув, высвистав из себя ураганную силищу... В одно такое затишье Бурсак-Пташеня, истомясь молчанием, спросил студента Петю:
– Извините, вы лично знакомы с товарищем Кориным?
– Очень даже... – неохотно буркнул тот.
– Понимаете, я лектор. А хобби у меня – писать статейки в газеты. Люблю – о заметных личностях, как говорится, маяках труда и жизни. Появилась задумка – черкнуть этак с колоритным нажимом о Корине. Фигура, скажу вам, волевая, хотя и не бесспорная, конечно... Как считаете?
Ударил ветер, пришлось склонить головы, сгорбиться, чтобы устоять на ногах, не задохнуться горячим дымом, а когда вновь притихло, Петя сказал:
– Эта фигура волевая меня в чувство привела. Сдрейфил я, понятно вам? Нервы сдали. Вот рюкзак взял потяжелее, чтоб наказать себя. Да что там – на всю жизнь замарался. Лучше б сгореть там, на опорной...
– Эт-та фактик! – вздернулся от радости Бурсак-Пташеня. – Благодарю! Разрешите использовать? Честно обещаю: будет тонко, благородно о вас: осознали, воодушевились, проявили мужество в трудном переходе... Такой воспитательный матерьялец получится!
Петя долго молчал. Потом загудел ветер. При очередном затишье он сбивчиво, нервно заговорил:
– Вы какой-то наивный или, извините, очень... глупый. Вот мы идем, у нас раненые, их ведут, несут на носилках, а выйдем ли – неизвестно... Пожар обойдет нас – что будет? Хоть бы подумали немножко. За главным лагерем нет тундры, там сплошная тайга... В мешке ведь окажемся. Ну, будем сидеть на мари. А кто нам поможет?.. Стихнет буря – дым сплошной, вертолета не пришлешь, из космоса лестницу не спустишь... Можете хоть это осознать, товарищ лектор?
– Вы серьезно? – изумился Бурсак-Пташеня.
– Серьезнее некуда. И вообще я не хочу говорить, надо силы беречь. Говоришь – больше дыма глотаешь.
Бурсак-Пташеня приостановился, на него наткнулись сзади, он обернулся и, не ожидая затишья, выкрикнул:
– Товарищ Корин!
– Что случилось?
– Так обстановка трагическая?!
– Почему?
– Огонь нас обходит!
– Не знаю. У меня связи с ним нет.
– Надо же быстрее! Надо обогнать его! Прикажите! Возглавьте движение! – Бурсак-Пташеня ухватил Корина за рукав штормовки, споткнулся, повис, и Корин, поставив его на ноги, сказал:
– Быстрее только на крыльях можно. Вам крылья и предлагались.
– Вы шутите, издеваетесь! А... я... о вас статью положительную писать хотел!
– Петя! – окликнул Корин студента. – Это вы, Петя, художественно информировали товарища лектора? Нехорошо. Морально разлагаете.
– Случайно. Не хотел, Станислав Ефремович. Да он какой-то...
– Вот что, Петя. Бери его на себя. Успокой. Ты же наврал ему, Петя. Правда?.. Я пройду вперед, там вроде заминка. А ты как будущий педагог помоги душевным словом ближнему. – Он подтолкнул Бурсака-Пташеню к студенту и на его нечленораздельный выкрик ответил: – Берегите силы, дальше будет труднее. А станете буйствовать, свяжем, понесем на носилках.
Корин ушел в темноту. Легонький Петя взял под руку тяжелого, потного, жарко пыхтящего Пташеню, мучительно помыслил, что бы такое успокоительное внушить ему, и не придумал ничего, кроме:
– А еще с «дипломатом».
Лектор не ответил, молча, покорно шагая рядом.
И вся колонна медленно, неуклонно двигалась по кромке мари, по невидимому пути между тундрой и тайгой, то выбираясь на сухие ягельные взгорки, то бредя через топкие мшистые болотины полувысохших озер; приходилось рубить просеки в цепком мелколесье, настилать гати в провальных местах... Колонна двигалась упорно, ожесточенно, став как бы единым, слитным, разумным существом.
Впереди шли Руленков и Ляпин, посередине – Мартыненко, в хвосте – Корин. Но ему приходилось временами обегать всю колонну.
3
Не раз Корин уступал пожарам, наводнениям, снежным завалам. Терял дни и недели, расстояния. Однако всегда знал: время и пространство сильнее всяческих стихий. Только надо уметь управлять ими.
Отступи – напрягись – ударь. Это было кровным правилом Корина.
Но не все подвластно человеку.
Отца поглотила война, жену и сына – сотрясшаяся земная твердь, одинокую мать – стихия огромного города.
В Москве, на Большой Спасской, в двухкомнатной старинной квартире живет старушка, не мыслящая себя вне этих потемнелых стен, каменных громад за окнами, гастронома напротив, аптеки направо, рынка на Цветном бульваре. Живет у трех вокзалов, которые когда-то стуком колес, гудками паровозов сманили семнадцатилетнего Славу Корина в странствия по стране: он побывал с геологами на Урале, в Сибири, Казахстане.
Годы учения в политехническом не приручили его, познавшего ветры пространства, к Москве: надежны ли камень и бетон, если мир сотрясают стихии?.. Каждое лето он ехал куда-нибудь – строить дорогу, копать канал, валить лес, промышлять морскую рыбу, как говорила мама, «осваивать тьмутаракань». К кочевой жизни он приучил потом жену и сына; дома, в столице, проводили только зимы.
После их гибели Корин не смог вернуться на Спасскую, поселился в Сибири и жил там, куда призывали его – «спецбеда», инспектора по лесоводоземлеохране. Отсюда виден был Север, здесь ощущался зной Юга, слышался тайфунный гул Тихого океана.