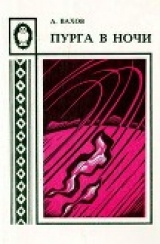
Текст книги "Пурга в ночи"
Автор книги: Анатолий Вахов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
На войне с дневником пришлось расстаться: офицеры подозрительно косились. А затем волнения на фронте, Петроград, революция, штурм Зимнего, Смольный, отъезд на Дальний Восток, подполье… не было ни времени, ни возможности вести дневник. И только сегодня, после неприятного спора с Мандриковым, у него было непреодолимое Желание вернуться к нему.
Август Мартынович взял карандаш и начал писать о том, что больше всего беспокоило: «Обязательно надо ехать, и как можно скорее, в Белую и Марково, потому что там творится полный развал. Кроме того, там голод. Я больше интересуюсь насчет той бедноты, которая находится в Марково и Белой…» Берзин перечитал написанное и остался недоволен. Он не смог точно передать свою мысль. Август Мартынович писал по-русски, и это давалось ему с трудом. Он перешел на латышский язык:
«Мандриков недооценивает сложности обстановки. Он все еще находится под впечатлением переворота, который мы совершили довольно легко. Но ведь это начало. Настоящая борьба только начинается. Она будет очень тяжелой. Я готов к ней. Чем и как помочь Мандрикову? Он…»
Берзин хотел написать о женитьбе Михаила Сергеевича, о своем отрицательном отношении к Елене Дмитриевне, но не стал. Он подумал, что может быть пристрастным, так как стал волноваться. Его бросило в жар. И новый приступ слабости охватил его. Через силу он написал: «Сегодня не хочется больше писать. Буду ложиться спать. Ну, спокойной ночи, мой дневник!..»
Август Мартынович жадно глотнул воздух и торопливо захлопнул дневник. Он хотел встать, но не успел. Изо рта тугой, горячей струей хлынула кровь…
Глава четвертая
1
– Боже мой, какой ужас! – прижав ладони к побледневшим щекам, тихо проговорила Нина Георгиевна.
Михаил Сергеевич только что рассказал о гибели Новикова, Он сидел с женщинами за столом и торопливо ужинал. Как бы долго Мандриков ни задерживался в ревкоме, его всегда ожидали жена и Нина Георгиевна. Они подогревали ужин и прислушивались, не раздастся ли шум шагов за стеной. Чем больше времени жена Мандрикова и Нина Георгиевна проводили вместе, тем все ярче проступало их различие. Даже сейчас это было очень заметно и бросилось Мандрикову в глаза. В то время как Нина Георгиевна была потрясена услышанным, Елена Дмитриевна с жадным любопытством расспрашивала:
– А кто же голову отрезал?
Ее глаза стали еще шире, и в них горели маленькие ослепительные точки. Как они похожи на кошачьи! – невольно сравнивал Мандриков. Ему был неприятен вопрос Елены, ее нездоровое любопытство.
– Не знаю. Берзин все расследует.
Михаил Сергеевич наклонил голову. Он всегда по вечерам рассказывал женщинам о том, что было сделано, что произошло за день. Михаил Сергеевич как бы проверял себя: все ли проведено правильно. Сейчас у него исчезло желание говорить дальше, и виновата в этом была Елена. Наступила пауза. Елена Дмитриевна не замечала ее. Она кончиком языка провела по губам и качнула пышной шапкой волос.
– Как это Лампе мог везти голову?
Мандриков сделал вид, что не слышал вопроса Елены, Нина Георгиевна понимала, что ему очень тяжело. Новиков, его друг, погиб так страшно. Нине Георгиевне хотелось как-то успокоить Михаила Сергеевича. Ей хотелось погладить его осторожно, нежно по густым волосам и тихо, очень тихо сказать какие-то слова. Она с трудом подавила этот порыв. Елена, показав мелкие зубы, спросила мужа:
– Куда вы девали голову? Будете хоронить или…
– Да замолчи ты! – с болью и яростью закричал Мандриков и, резко оттолкнув от себя тарелку, встал из-за стола. – Как ты можешь… – Он не догбворил. Его лицо исказила мучительная гримаса.
– А что я такого сказала? – Рыжие брови Елены удивленно полезли вверх.
Мандриков посмотрел на нее, словно впервые увидел, и, круто повернувшись, направился из комнаты. Ница Георгиевна вдруг поняла, что Михаил Сергеевич ей дорог.
Она любит его. Да, да, любит, От своего открытия она пришла в смятение и не слышала что ей говорила Елена, а торопливо одевалась, чтобы уйти из дому. Так она делала всегда, чтобы оставить Мандрикова и Елену вдвоем.
Сейчас ей хотелось остаться одной и попытаться разобраться в своих чувствах. Она шла под звездным небом без цели. Да, она любит Мандрикова. Когда же в ней родилось это чувство? Может быть, в то утро, когда Мандриков пришел из ресторана в ее квартиру и так необычно для случайного гостя вел себя? Или, может быть, любовь родилась в Ново-Мариинске? Да стоит ли искать начало…
Главное в том, что она любит этого большого и сильного человека, его благородное сердце, его трудную и опасную жизнь, которую он отдает людям, но она никогда не скажет ему о своей любви. Михаил Сергеевич первый отнесся к ней как к человеку. Он помог ей вернуться из того страшного кошмара, всяком она жила во Владивостоке, и стать человеком, нужным и уважаемым.
Нина Георгиевна вспомнила о Елене. Ее, холеную, капризную и бессердечную, любит Михаил Сергеевич. Она была уверена, что Елена недостойна Мандрикова. Елена заняла место, которое должно бы принадлежать ей. Нина Георгиевна горько усмехнулась: размечталась, дура. Я же шлюха и гожусь только для струковых. Но как ни чернила себя Нина Георгиевна, сердце кричало: ты лучше Елены!
Ей было трудно оставаться наедине с собой, и она решила пойти к Моховым. В Наташе она находила то, что когда-то было у нее: любовь, будущее материнство.
Нина Георгиевна шла к Моховым, забыв, что уже глубокая ночь. С того дня, как Бучек и Галицкий ушли из ее дома, она вдруг обнаружила, что лишилась чего-то очень ей необходимого, что делало ее жизнь нужной людям. Она взяла на себя все хозяйство, но оно не могло занять ее целиком, как и разговоры с Еленой. Ей казалось, что Елена если и не знает о ее прошлом, то что-то подозревает. Она несколько раз пыталась расспросить Нину Георгиевну, почему не хочет возвращения Струкова, уклончиво-лаконичные ответы положили конец ее расспросам, но не любопытству.
Оконце комнатки, которую снимали Моховы, желтело. Значит, они еще не спят. Антон, впустив Нину Георгиевну, с облегчением сказал:
– Как хорошо, что вы пришли. Наташа нервничает.
– Наташа лежала на кровати поверх одеяла, зарывшись лицом в подушку, и навзрыд плакала. На столе – остывший, нетронутый ужин. В сторонке сидел Оттыргин. Антон шепнул Нине Георгиевне:
– О Новикове плачет. – Он заглянул в глаза женщине, знает ли она. Нина Георгиевна кивнула. Антон продолжал: – Николай Федорович друг ее отца. Не знаю, что и делать.
Нина Георгиевна присела к Наташе, погладила ее по вздрагивающей спине.
– Не надо, Наташенька. Тебе же вредно волноваться. Подумай о ребенке.
Располневшее тело Наташи сотрясала дрожь. Нина Георгиевна начала рассказывать, как она потеряла мужа, как бедствовала сама, перебиваясь случайной работой. Как надеялась, выйдя замуж за Струкова, что счастье вернется к ней, но жестоко ошиблась.
Наташа невольно прислушивалась и постепенно перестала плакать. Она только время от времени судорожно вздыхала. Потом, повернув красное, опухшее от слез лицо, спросила:
– Почему вы так ненавидите Струкова?
– Я не верю ему, – страстно воскликнула Нина Георгиевна. – Он не тот, за кого себя выдает!
Оттыргин, тяжело переживавший гибель Новикова, сказал:
– Малкова я сам буду убивать!
– Нельзя так, Отты, – покачал головой Антон. Он мало походил на того юношу, каким его знали во Владивостоке. Похудел, отпустил русую бородку. И внутренне Антон изменился, стал рассудительнее. – Судить будем Малкова и казним по приговору.
– Как мне не хочется, Антон, расставаться с тобой, – с тоской сказала Наташа: – Я бы очень хотела поехать с тобой в Усть-Белую.
– Мы дождемся его возвращения здесь, – Нина Георгиевна обняла Наташу за плечи. – Нельзя рисковать.
– Более важное дело тебе предстоит, – Антон с нежностью и беспокойством посмотрел на зардевшуюся жену. – Уж не ревнуешь ли ты меня, не думаешь ли, что я могу влюбиться в местную красавицу? Вуву… – пошутил Антон и, обернувшись к Оттыргину, спросил его: – Как твою красавицу звали?
– Вуквуна. – Оттыргин был печален, Антон понял, что затронул глубокую рану, и виновато сказал:
– Прости, Отты…
– Куда ушла Вуквуна? – с тоской сказал Оттыргин. Он вдруг вскочил на ноги и крикнул: – Я буду искать Вуквуну!
Оттыргин уставился в темное окно. Перед его глазами расстилалась тундра. Отчаяние, тоска были на лице Оттыргина. Всем стало жаль его, и Наташа, поднявшись с кровати, сказала убежденно:
– Ты найдешь Вуквуну, Отты, найдешь. Я знаю.
– Найду, – тряхнул головой Оттыргин. – Ну, ладно, я пошел.
Нина Георгиевна вышла вместе с Оттыргиным и попросила проводить ее до дому. Ночь стояла тихая, морозная. Оттыргин и Нина Георгиевна не прошли и половины пути, как услышали, что кто-то бежит навстречу. Нина Георгиевна прижалась к плечу Оттыргина. Чукча сказал:
– Человек громко бежит. Бояться его не надо. – Он всмотрелся, – Клещин!
– Я, Отты, я. Берзину плохо. Кровь горлом, Бегу за Струковым…
Клещин хотел бежать дальше, но Нина Георгиевна его удержала:
– Я пойду к вам.
– Спасите комиссара! – умолял Клещин. – Плох он совсем.
Они быстро направились к Клещину. Берзин лежал на кровати. Около него хлопотала жена Клещина. Кровь слабо, – но продолжала идти.
Нина Георгиевна положила Берзина повыше и заставила глотать маленькие кусочки льда. Август Мартынович беспрекословно подчинялся. Лицо его осунулось. Он с благодарностью смотрел на Нину Георгиевну, Клещин и Оттыргин с испугом – на него. Он им несколько раз ободряюще улыбнулся. Постепенно кровотечение прекратилось. Нина Георгиевна с помощью жены Клещина сменила Августу Мартыновичу белье. Он знаком попросил пить. Нина Георгиевна поднесла к его сухим губам кружку, но он взял ее сам и напился. Обессилел и откинулся на подушку, Клещин бросился к нему.
– Плохо тебе, Август Мартынович?
– Еще повоюем, – слабая улыбка едва тронула губы Берзина. – У нас дел много. Рано умирать.
– Нельзя вам говорить, – запротестовала Нина Георгиевна, но Берзин продолжал:
– Помнишь, Клещин, как мы с тобой… – Он не договорил. В груди захрипело. Нина Георгиевна попросила Клещина:
– Не давайте ему говорить. Лучше сами…
– Помню, помню, Август Мартынович, – торопливо заговорил Клещин. – Да разве такое забудешь? Вы вот не знаете, – по очереди обращаясь то к Нине Георгиевне, то к Оттыргину, говорил Клещин. – А я до самой мелкой точности помню, когда нас Август Мартынович в атаку водил с гимном нашим пролетарским.
При этих словах Берзин недовольно шевельнул бровями, но Клещин, захваченный воспоминаниями, рассказывал о недавних и в то же время о таких далеких и бессмертных днях.
Оттыргин, жена Клещина, Нина Георгиевна, сидевшая у постели Берзина, да и сам Август Мартынович забыли, что они в дряхлой хибарке, а за тонкими стенами суровый мороз. Рассказ Клещина перенес их в солнечное Приморье.
…Пулемет захлебывался очередями. Он бился в руках красногвардейца и хлестал свинцовыми струями по маленьким желтым фигуркам. Обросшее лицо пулеметчика окаменело. Его глаза видели только бегущих по полю спелой пшеницы японцев. Над хлебом взметнулось белое знамя с кровавым кругом в центре, и до красногвардейцев донеслось протяжное и дикое:
– Бан-за-а-а-а-й!
Японцы и белые взбегали по насыпи на полотно железной дороги и бежали вдоль серебрившихся под августовским солнцем рельсов. Они хотели сбросить Особую роту красноармейцев в широкую речку. Красногвардеец повел стволом пулемета в сторону японского знамени, но в тот же миг вскрикнул и уронил голову на пулемет. На сухом, горячем песке расползалось пятно крови. Оборвалось злое таканье пулемета. Радостнее закричали японцы:
– Бан-за-а-а-й!
Они уже были близко и не обращали внимания на ружейную стрельбу красногвардейцев.
Наступление японцев и белых поддерживала артиллерия, а у красногвардейцев были только винтовки. Наступило замешательство, и в ту же минуту послышалось:
– Красногвардейцы не отступают!
Вдоль цепи, не обращая внимания на густой огонь японцев и белых, бежал высокий, худощавый человек с маузером в руке. Простая солдатская фуражка с красной звездочкой сдвинута на затылок. Светлые волосы разметались по потному лбу. По цепи прошло:
– Комиссар! Берзин! Наш Август!
Человек в кожанке подбежал к пулемету.
Крики японцев заставили его лечь за пулемет.
Свинцовая горячая струя невидимым мечом срубила первую шеренгу наступающих, затем вторую. Дрогнуло и рухнуло на землю знамя с кровавым пятном.
Японцев как ветром снесло с полотна дороги в хлеба. Берзин слал очередь за очередью. Красногвардейцы радостно закричали:
– У-р-ра-а-а!
Пулемет запнулся. Берзин нажал на гашетку, но пулемет молчал. Берзин взглянул на ленту, на разбросанные вокруг ящики. Патронов больше не было. Японцы, очевидно, об этом догадались, поднялись вновь. Было видно, как японский офицер размахивал над головой саблей. Берзин вскочил на ноги, рывком сбросил фуражку и крикнул:
– За мной!
Не оглядываясь, он зашагал навстречу японцам. Его худое, с обтянутыми скулами, обожженное солнцем лицо было решительно. Комиссар разжал запекшиеся губы и запел приятным баритоном:
Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов…
Комиссар пел с сильным акцентом. Он ни разу не оглянулся, но знал, что за ним поднялись все красногвардейцы. Бойцы подхватили:
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов…
Сто четырнадцать человек шли навстречу шестистам японцам. Под безоблачным высоким небом, над широкой Иманской долиной сто четырнадцать человек, усталые, голодные, в окровавленных повязках, шли по созревшей пшенице, по полотну дороги, шли и пели:
Это есть наш последний и решительный бой,
С Интернационалом воспрянет род людской…
Командующий Уссурийским фронтом товарищ Сакович еще утром прислал в Особую интернациональную роту, приказ и просьбу удержать мост через реку. От этого зависел успех наступления против соединенных японо-американских, чехословацких и белогвардейских сил. Приказ принял комиссар отряда Август Мартынович Берзин. Командир был убит за час до получения приказа.
Шесть часов Особая интернациональная рота под командой комиссара держала подступы к мосту. А когда кончились боеприпасы, Август Мартынович повел бойцов в штыковую атаку.
Солнце, золотистая нива, бойцы, идущие на смерть, во главе с высоким белокурым человеком в черном, поблескивающем на солнце костюме, – все это было так необычно, что японцы, сбив с ног опешившего офицера, ринулись назад…
За спиной красногвардейцев послышался гул поезда. Дав короткий свисток перед мостом, паровоз и вагоны загрохотали под его фермами. Переброска частей Красной гвардии на Уссурийский фронт началась.
…Вечером у костра Берзин протирал свой маузер и негромко, стараясь правильно выговаривать русские слова, рассказывал о штурме Зимнего дворца. Он умолчал о том, что одним из первых ворвался на широкую мраморную лестницу, что под оружием вел жалких министров Временного правительства. Бойцы слушали своего комиссара, и им казалось, что свет костра был отблеском залпа «Авроры».
– А Ленина вам приходилось видеть? – спросил кто-то из бойцов.
Август Мартынович наклонил голову:
– Владимира Ильича я видел много раз…
И снова красногвардейцы вместе со своим комиссаром стояли в коридоре у Смольного, охраняли Ленина и по его указанию в группе других большевиков-военных выехали в Сибирь, на Дальний Восток, и снова оказались в Иманской долине. Гордились своим Железным комиссаром. Так называли они Августа Мартыновича за смелость, строгость, преданность революции и беспощадность к врагу.
Красногвардейцы любили его, и на Уссурийском фронте считалось большой честью быть в роте Железного комиссара. Он был одержим революцией.
Слушали бойцы рассказ о Ленине, как вдруг его прервали:
– Где тут Железный комиссар?
– Я есть тут, – встал Берзин.
Посыльный протянул ему пакет. Август Мартынович вскрыл его и при свете костра прочитал приказ. Ему надо было немедленно выехать в Хабаровск. Бойцы с горечью расставались со своим комиссаром…
Клещин прервал свой рассказ и, указав на Берзина, прошептал:
– Уснул…
Август Мартынович спал. Спал глубоко и спокойно. Нина Георгиевна просидела возле него до рассвета. Утром, когда Август Мартынович открыл глаза, она строго сказала:
– Лежите и ни в коем случае не поднимайтесь. Вам нельзя вставать.
– Я уже хорошо себя чувствую, – сказал Берзин и хотел подняться, но Нина Георгиевна, удержав его, позвала из кухни Клещина и Оттыргина.
– Я скоро приду. Не разрешайте вставать Августу Мартыновичу.
Берзин забеспокоился:
– Я буду лежать. Пусть все идут. Прошу только вас, не надо говорить о моем вчерашнем…
– Не скажем, если вы дадите слово несколько дней лежать, – пообещала Нина Георгиевна.
– Даю, – Берзину было тяжело принять эти условия, но иного выхода не было.
Нина Георгиевна не застала Мандрикова дома, Елена, зевая, говорила:
– Уже убежал в свой ревком. Ему, кажется, там больше нравится, чем со мной. А где ты всю ночь была? Михаил беспокоился, хотел идти искать, но я убедила его, что ты заночевала у Моховых, чтобы нам не мешать. – Она засмеялась и потянулась под Одеялом. – Знаешь, когда Михаил стал моим мужем и формально, исчезли скрытая прелесть, волнение. Все стало возможным, обыденным и чуточку скучным. Ну, так где же ты была?
Нина Георгиевна рассказала о болезни Берзина.
– Чахоточный он, это сразу видно. – Елена натянула одеяло под самый подбородок. К утру в домике становилось прохладно. – Долго не протянет. И что за удовольствие тебе с ним возиться? Заразишься еще. Ох, как не хочется вставать и топить печку.
Елена явно рассчитывала, что Нина Георгиевна, как обычно, возьмется за топку и предложит ей полежать в теплой постели. Но Нина Георгиевна ничего не сказала. Она торопилась в ревком. Елена проводила ее злым взглядом. С мужичьем возится. Выслуживается. И чего ей надо?
Елена попыталась заснуть, но не смогла. Становилось холодно, и она с неохотой встала. Как это утро не похоже на те, что были в доме Бирича. Каждый день портил Елене настроение. Она взялась за растопку и щепкой наколола ладонь. С раздражением посмотрела на руки. Они уже не были такими холеными. Сегодня же скажу Михаилу – пусть наймет прислугу. Я здесь за кухарку не обещала быть.
Нина Георгиевна не поверила своим глазам, К крыльцу ревкома подкатила упряжка. Оттыргин помог подняться Берзину и провел его в кабинет, значит, Берзин обманул ее. Она обиделась и повернула домой, но, сделав несколько шагов, бросилась бегом в ревком. Она не может безразлично смотреть, как человек сам себя губит. Ни на кого не обращая внимания, Нина Георгиевна ворвалась в кабинет Мандрикова.
– Что же вы делаете, Август Мартынович? Вы сами себя хотите убить.
– Что случилось?
Нина Георгиевна рассказала. Берзин сидел, сутулясь и сердито постукивая пальцами по столу, Мандриков напустился на него:
– Зачем же ты пришел, Август? Мы…
– Без меня обойдетесь? – глухо продолжал Берзин. – А я этого не желаю, и этого мне не разрешает, мой долг коммуниста.
– Ты же болен! – Мандриков с тревогой смотрел на восковое лицо товарища.
– Лучше умереть стоя, чем в постели, – отозвался Берзин.
– Я попрошу членов ревкома, чтобы они приказали тебе лежать. Лежать и отдыхать, набираться сил…
– Ты этого не сделаешь, – негромко ответил Берзин. – Я не разрешаю.
Мандриков вскипел, но сдержался и обратился к Нине Георгиевне:
– Спорить с ним бесполезно. Отдыхайте, а то на вас лица нет.
Торопливо распрощавшись, она вышла. Впереди пустая болтовня с Еленой, длинные однообразные дни. А как бы ей хотелось быть со всеми в ревкоме, делать Что-то нужное. Ох, размечталась, как девчонка. И как мне не стыдно, – корила себя Нина Георгиевна, но ничего не могла собой поделать. Возвращаться к Елене не хотелось, и она побрела к окраине Ново-Мариинска.
Задумавшись, шла Нина Георгиевна по берегу залива. Мысли были бессвязные, сказывалась трудная ночь. Грустное настроение не покидало ее. Женщина остановилась и посмотрела на далекие сопки, занесенные снегом. Солнца не было. Оно скрывалось где-то за облаками, и серый рассеянный свет делал сопки угрюмыми. Все казалось чужим, неприветливым. Никому нет до нее дела.
Нина Георгиевна плакала над своей страшной жизнью, над светлым чувством, которое никогда не принесет ей счастья, а будет лежать на сердце мучительным грузом… Молодая женщина взяла себя в руки: дурные бабские слезы. Пожалеть себя захотелось.
Она повернула к посту и только сейчас обратила внимание, что окраины Ново-Мариинска опустели, Там, где еще недавно густо стояли яранги, был лишь истоптанный грязный снег, мусор, следы костров. Бродили бездомные собаки. Нина Георгиевна подумала, что приезжие чукчи откочевали в тундру, закончив свои дела.
В стороне, под высокой обрывистой стеной берега, стояла одинокая яранга. – Около нее никого не было. Яранга была ветхая. Из простого любопытства Нина Георгиевна заглянула в нее и отшатнулась. Слишком страшным показалось ей увиденное. У небольшого костра, над которым висел котел, сидели четверо. На их лицах толстым зеленоватым слоем лежала короста: неподвижные маски с узкими щелками для глаз и рта. По трем маленьким фигуркам она догадалась, что это дети, а четвертая – женщина, их мать.
Нина Георгиевна осторожно вошла в ярангу. Стараясь подавить в себе отвращение, полная жалости и желания помочь несчастным, она подошла к костру и присела.
– Давно у вас это? – Она тронула пальцем свое лицо. – Болит давно? – В яранге было тихо, женщина и дети молчали. Может, они немые и глухие, подумала Нина Георгиевна.
– Когда лицо такое стало?
– Гуси улетели, – едва двигая губами, ответила женщина. Слова разобрать было трудно. Очевидно, движение мускулов лица причиняло ей боль.
С осени, поняла Нина Георгиевна. Ее особенно угнетал вид детей. Они сидели, как старики, и только печальные глазенки, полные любопытства, жили на лице. Короста не позволяла им двигаться, играть, бегать, бороться, как это любят маленькие дети. Можно попробовать промывать их лица сулемой, думала Нина Георгиевна. – Возможно, что это простое заболевание кожи. Попытаюсь помочь беднягам.
– Я буду лечить, – сказала она решительно, – у вас лица снова будут чистые, как мое.
Чукчи уставились на красивую женщину с очень белой кожей, с добрыми глазами, струженными усталыми морщинками. Откуда она появилась? Почему она хочет вернуть им лица?
– Пойдем со мной, – позвала Нина Георгиевна самого маленького и протянула руку. Он испуганно шарахнулся от нее. Мать осторожно покачала головой:
– Ходить нельзя. Шаман сказал – духи велели сидеть нам.
Нина Георгиевна поняла, что ничего не добьется.
– Тогда я приду с сулемой сюда.
Она вышла из яранги и направилась к амбулатории, во чем ближе под ход ила, тем нерешительнее становились ее шаги. Нине Георгиевне не хотелось встречаться со Струковым. Расскажу о несчастных Михаилу Сергеевичу, и он прикажет Струкову лечить их. Нина Георгиевна повернула к ревкому, но поговорить с Мандриковым ей сразу не удалось. Он был занят.
Михаил Сергеевич просматривал документы, составленные продовольственной комиссией. Их принес Рыбин. Он сидел в стороне и нервно поглаживал колени. Из членов ревкома у Мандрикова были лишь Куркутский, Булат и Семен Гринчук. Остальные разошлись по делам. Никто не обращал внимания на Рыбина. А он от страха то обливался потом, то мерз. Ему казалось, что члены ревкома уже знают, что документы о запасах продовольствия он составил по указанию Бирича, и сейчас его поведут на расстрел.
– Скудные у нас запасы, – говорил Мандриков. Только-только до весны хватит.
– Может, урежем норму выдачи? – предложил Булат. – Тогда растянем подольше.
– Люди голодают, – возразил Мандриков. – Дети как призраки. Нет, нельзя уменьшать норму. Надо находить другой выход из положения.
– Забрать все продовольствие у коммерсантов! – как всегда громко, сказал Семен Гринчук. Его глаза на цыганистом лице горячо сверкнули. – Я еще до Переворота предлагал национализировать все товары у американцев, и, помню, ты меня поддержал, Михаил Сергеевич. Что же ждать? Или ты на попятную?
– При чем здесь на попятную! – Мандриков был недоволен Гринчуком. Всегда он со своими замечаниями торопится. – Национализацию товаров мы всегда успеем произвести. Сейчас это делать рано. Пока не будем портить отношения со Свенсоном. Нам свои коммерсанты много хлопот доставляют.
– В Ново-Мариинске есть склад продовольствия Малкова, – напомнил Булат.
– Я поставил на его охрану Волтера, – сообщил Мандриков. – После суда, над Малковым мы его конфискуем.
– И все же продовольствия мало! – вздохнул Гринчук и, взяв один из представленных Рыбиным документов, потряс им. – Мяса совсем нет! – Он Обернулся к Рыбину. – Неужели нет в складах мяса?
Рыбин вздрогнул. Вот оно, начинается. Ревкомовцы Отправятся в склады и начнут проверять выводы комиссии. Они сразу же обнаружат подлог. У Рыбина судорожно свело челюсти, Гринчук нетерпеливо крикнул:
– Чего мотаешься, как заведенный? Я о мясе спрашиваю!
– Нет, нет его, – едва выдавил из себя Рыбин, хотя мяса действительно не было. Лицо у Рыбина стало серым. Мандриков спросил его:
– Болеешь, что ли?!
– В… в складе прохватило… простудился. – Голос у Рыбина дрожал. Еще никогда он не страдал так, как сейчас.
– Я доволен твоей работой, – похвалил председатель ревкома: – Быстро и хорошо все сделали. Молодцы! А вот простудился ты зря. Иди домой. Возьми со склада немного спирта, выпей, натрись – и под одеяло. Поправишься.
Рыбин едва поднялся и, шаркая непослушными ногами, вышел из кабинета.
– Крепко он, кажется, заболел, – сочувственно произнес Мандриков и вернулся к делу. – Без мяса мы долго не протянем с остальными продуктами. Вот еще доказательство преступного правления колчаковцев. Не позаботились о запасах мяса…
– Зато Щетинин позаботился, – вспомнил Булат о многочисленных тушах в складе копей. – Там на всех хватит. Как это я забыл?
– Возьмем у шахтеров, – решил Мандриков, довольный найденным выходом. – Займись этим ты, Гринчук, и принимай склад, ты будешь его вахтером. – Он улыбнулся. – Нашим продовольственным комиссаром. Выводы комиссии Рыбина надо сообщить населению Ново-Мариинска.
В тот же день Семен Гринчук с караваном в десять нарт приехал на копи. Шахтеры были в копях и не видели, что делалось у склада, стоявшего за жилым бараком. Гринчук застал в бараке Галицкого, который еще был слаб и поэтому не работал. Тут же находились больные милиционеры и Малинкин. Он внимательно прислушивался к тому, что говорил Гринчук.
– Конечно, берите мясо, – согласился Галицкий. – У нас его много, да если было бы и меньше, то все равно поделились бы. – Он крикнул Малинкину: – Позови Бучека.
Малинкин, схватив палку, быстро заковылял к двери. Он спешил сообщить новость шахтерам. Он сейчас устроит ревкомовцам забаву. Пусть почешутся.
– Все еще хромает? – сказал Гринчук о Малинкине, когда за ним закрылась дверь. – Здорово же его помяли!
– Придуривается больше, – проворчал Галицкий. – Еще денек-другой подождем, да и в забой его двину. Обленился.
– Сам-то как? – участливо заглянул в бледное лицо товарища Гринчук. – Дорога-то тебя длинная ждет.
– На свежем воздухе скорее сил наберусь.
Малинкин подбежал к Бучеку, когда тот только что опрокинул тачку и остановился передохнуть.
– Галицкий тебя кличет, Гринчук приехал.
– Случилось что-нибудь? – забеспокоился Бучек.
– Может, – многозначительно произнес Малинкин. В его глазах были злые огоньки.
Бучек не обратил внимания на ответ Малинкина и поспешил в барак. Маленький, толстый, он, казалось, катился по истоптанному снегу.
Когда Бучек, позвав Харлова, скрылся с ним за бараком, Малинкин, забыв о хромоте, подбежал к Кулемину и что-то ему зашептал. Тот быстро исчез в шахте, Малинкин ожидающе смотрел на каждого, кто появлялся из шахты. Показался Перепечко. Услышав свое имя, оглянулся. Малинкин поманил его пальцем. Перепечко подошел к нему и заорал:
– Чего ты, хромая кляча, меня пальцем манишь, как б… последнюю?
Перепечко, убедившись, что, не работая, он не получит есть, старательно вывозил уголь, но каждая тачка прибавляла ненависти к ревкому. Колчаковец оброс. Глаза его были воспалены. Каждую ночь Перепечко пил с Биричем и Соколовым. Водку им от Толстой Катьки тайком доставлял Кулемин.
Колчаковцы не шумели и не буянили, поэтому на них не обращали внимания, как и на то, что они все время шепчутся с Кулеминым и Малинкиным. С утра Перепечко еще не опохмелялся и был не в настроении. Он тяжелым взглядом уставился на Малинкина.
– Выкладывай, не юли! – потребовал Перепечко. – Что гад вынюхал? Или опять будешь за свои сплетни деньги клянчить?
– Я для общего блага, – Малинкин опасливо отстранился от Перепечко. – Ревкомовцы за мясом приехали…
– А мне какое дело! – Перепечко выругался. – Об этих сволочах и слышать не хочу.
– Шахтерское мясцо. – Малинкин досадовал на несообразительность Перепечко. – Могут сами голодать по милости ревкома.
– А ты шустр, – Перепечко понял мысль Малинкина. – Выкладывай подробно.
Перепечко слушал его, сворачивая папиросу.
– Черт, поздно сейчас что-нибудь сделать. – Он прищурил левый глаз. – Но попытаемся… – Он взглянул на Малинкина. – Оружие есть у ревкомовцев?
– Не видел, – признался Малинкин.
– Есть или нет? – раздраженно спросил Перепечко. – Балда! Ты только деньги видишь.
Малинкин пожал плечами. Перепечко жадно затянулся несколько раз и бросил папиросу на снег, припорошенный угольной пылью. – Пошепчи-ка угольщикам, что ревкомовцы все мясо увозят, а они Останутся с кукишем. – Перепечко сунул фигу в лицо Малинкину. – Будут голодать. Шепни, что ревкомовцы мясо продадут, а доход в карман положат.
– Я уже Кулемину… – начал Малинкин, но Перепечко толкнул его в плечо:
– Твоему дружку не каждый дурак поверит. Ты давай сам. Я… – Перепечко не договорил о себе. – Пусть шахтеры не дают мяса ревкомовцам. Понятно? Не давать – и только, а то сами околеют с голода.
Они расстались. Уже половина нарт была загружена оленьими тушами, когда до склада донесся многоголосый шум, выкрики.
Гринчук, привязывавший с каюром и Харловым тушу к нартам, поднял голову, прислушался. Прекратили работу и остальные. Из склада вышел Бучек, Гринчук сказал ему:
– Кажется, толпа сюда бежит?
– Что это? – в дверях показался Галицкий с листом бумаги. Он записывал количество взятых туш.
Каюры беспокойно затоптались у нарт. Члены ревкома переглянулись. Гринчук проверил, в кармане ли револьвер. Бучек это заметил.
– Ты не вздумай его вытаскивать. – Он уже понял, это к складу бегут шахтеры. – Эх, оплошку допустили мы. Надо было…
О какой ошибке он хотел сказать, Гринчук не услышал. Из-за барака выбежала толпа шахтеров, У многих в руках кирки, лопаты. Размахивая ими, угольщики кричали, ругались. Они тесным кольцом окружили нарты. Казалось, мгновение – и они ринутся на членов ревкома, на каюров, упряжки и подомнут их под себя, уничтожат. Бучек оценил момент и, вскочив на нарту, закричал:








