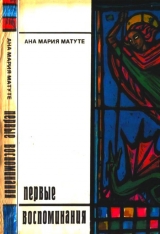
Текст книги "Первые воспоминания. Рассказы"
Автор книги: Ана Матуте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Мануэль, – настаивал он. – Знаешь, тебе все наврали… В сущности, я тебе не враг. Ты ведь лучше, чем Хуан Антонио. Я всегда тебя больше любил. А ты не обращал внимания…
Мануэль прямо взглянул на него – таких глаз я у него еще не видела.
Борха быстро, сбивчиво говорил:
– Окажи мне услугу. Это очень важно для меня и для Матии… Иначе бы я к тебе не пришел. Понимаешь, Матия, бабушка узнала про наш клад. Кто-то наябедничал. Наверное, Китаец – его ведь увольняют… А впрочем – не знаю, да и не важно! С предателем я рассчитаюсь. Ты понимаешь, Матия, что это для нас значит? Надо, чтобы она тут ничего не нашла!
Мне показалось, что в глазах Мануэля снова появилась почти гневная тоска, некогда овладевшая им, или презрение ко всему, даже к самому себе. Он был очень похож сейчас на Хорхе Сон Махора. На его юном лице была почти такая же усталость, словно ему так же надоело жить. Борха казался рядом с ним тщедушным и незначительным. Я снова подумала: «Если б он захотел, он бы его свалил одним ударом».
– О чем ты? – резко перебил Мануэль. – Что ты хочешь?
Борха странно взмахнул руками, и я почему-то вспомнила бабушку.
– Ну… я не могу объяснить подробно, ты не проси… И Матия не может – правда, Матия? Если бабушка что-нибудь найдет… а она найдет, она тут все обыщет. Возьми мою лодку и отвези к Марине то, что я дам. Ты ведь его знаешь?
– Да, – сухо ответил Мануэль.
– Передай ему это и скажи, пусть хранит. Мы заберем, когда пройдет опасность. У него ничего не пропадет, а нас ты спасешь от бабушкиной ярости.
Я удивлялась и не совсем понимала Борху. Он вскочил в лодку, вынул сверток, вынул ящичек с крадеными деньгами, рассеянно потер его и протянул Мануэлю.
– Отвези его Марине… но про нас не говори, он человек неверный. Скажи: «Сохрани это для меня, я за ним вернусь».
Мануэль, не двигаясь, смотрел на ящик.
– Не отказывай мне… Я тебя умоляю! Это очень важно для нас! Я только тебе верю. Тем доверять нельзя… И потом… разве ты забыл, что я давал тебе лодку?
При этих словах Мануэля как будто ударили. Борха отступил. Мануэль вырвал у него ящик и молча направился к «Леонтине». Борха пошел за ним, стряхивая с брюк песок. Он очень волновался, словно долго от кого-то бежал.
– Пусть хранит! – задыхаясь говорил он. – Слышишь? Пусть он его хранит…
– Замолчи, – сказал Мануэль.
Борха умолк. Как тогда, Мануэль уплывал, а мы смотрели ему вслед. Как тогда, я покосилась на Борху и увидела, что у него белые губы.
И как тогда, мы вернулись домой по скалам.
III
Больше я не видела Мануэля. Дни бежали быстро, и рождество пришло скорей, чем мы ждали. Сведения о дяде Альваро и о войне стали конкретней. Бабушка готовила подарки для бедных. Это были первые военные святки, и бабушка говорила, что их надо праздновать скромно. Однако Лоренса и Антония трудились у плиты вовсю. Как тяжелый сон, я вспоминаю бесконечные праздничные трапезы. Половину времени мы проводили в церкви, половину – за столом. В церковь мы шли с тяжелой головой и, напитавшись светом, ладаном и песнопениями, возвращались к еде. (У нас с Маурисией бывало совсем не так. Мы собирали охапки еловых веток, делали игрушечные ясли и расставляли там раскрашенные глиняные фигурки, которые Маурисия покупала на базаре.)
Отец Майоль предстал во всем своем блеске. Бабушка не зря говорила, что в нем есть что-то царственное. Сочельник мы справляли у него; там были викарий, доктор-вдовец и Хуан Антонио, проводивший дома каникулы. Потом пришли управляющий с женой и сыновьями и еще один священник, который специально приехал, чтобы служить рождественскую мессу.
Собор сверкал. Отец Майоль и два других священника – викарий и приезжий – были в бледно-розовых ризах, расшитых золотом и жемчугом. В хоре пели дети, девочки и мальчики. От блеска болели глаза. Мы с Борхой поддерживали друг друга. Кажется, он слишком много выпил и все время засыпал. Отец Майоль воздевал руки медленно и величаво, как ангел, его красивая седая голова отливала серебром.
Первый день рождества был скорее невеселый. Антония спросила:
– Ты молилась вчера за маму?
– Это мое дело, – ответила я.
Но меня грызла совесть – я о маме и не вспоминала. Только на секунду, за ужином, вспомнила о папе. «Как странно! Я всегда так далеко от него, а помню запах его сигар, его кашель, слова…» Где он? Что делает?
Вечером пришли старые девы из Сон Льюча в жутких шляпах, отец Майоль, викарий и третий священник. Ну и, конечно, доктор с Хуаном Антонио и семья управляющего. «Все те же, все то же самое…» Мальчики говорили о школе – после праздников Борха ехал туда, где учился Хуан Антонио. Они-то будут вместе, а я…
– Как называется моя школа? – спросила я у бабушки без особого интереса.
В день святого Стефана я пошла на откос, надеясь встретить Мануэля. Его не было; я села у стены и играла камушками, пока меня не позвала Антония.
Бабушка требовала к себе нас с Борхой.
– Лауро идет на фронт, – сказала она, – как только вы уедете в школу.
– Ты же говорила, что он освобожден? – спросил Борха. – Глаза плохие… его ведь за это не взяли в священники.
– Теперь это не важно, – сказала бабушка и прибавила: – Идите, поздравьте его.
Мы неохотно пошли. Лауро был с Антонией в гладильной. Мы робко остановились в дверях. Антония сидела на низком стульчике и пришивала красные метки к нашему белью. Китаец смотрел на нас сквозь зеленые очки. Гондольер летал над ними, крича: «Лаур-ро, Лаур-ро, Лаур-ро… Попка дур-рак», и тревожно садился нам то на головы, то на плечи. Ни мать, ни сын не произносили ни слова. Лауро обнял колени. В жизни я не видела такого невоенного человека. Первым заговорил Борха:
– Лауро, бабушка говорит, что ты идешь на фронт.
Китаец медленно встал и поднял на лоб очки. Антония сидела, опустив голову. Она держала одну из тех гнусных рубашек, в которых я спала раньше, в школе, и выпарывала старую метку, чтобы пришить новую.
– Может, увидишь моего отца… – сказал Борха.
Китаец молчал. Я не смотрела на него. Я видела только копчики ножниц, жестоко сверкавшие над бельем.
– Бабушка говорит, надо тебя поздравить.
Блестящая капля упала туда, где были раньше номера и буквы. Я повернулась и выбежала, словно хотела скрыть тайну. Почему-то я стала искать полузабытого Горого. И не нашла.

В день трех волхвов, утром, бабушка вручила нам подарки – книги, вечные ручки, свитера. Кончилась добрая пора игрушек, и теперь, как говорили взрослые, подарки стали проблемой. (Маурисия клала в камин мой башмак. Туда помещалось немного, и она связала мне огромный чулок – «таких самых цветов, как плащ у святого Иосифа». Все папины подарки мне дарили волхвы с Востока, а чуть раньше, под рождество, я глядела на тучи и спрашивала: «Маури, это и есть дорога на Восток?» Как-то мне подарили клоуна с меня ростом, и я его обняла. Ах, зачем вспоминать?)
Мы взяли бабушкины подарки и поцеловали ее. Тетя Эмилия подарила мне флакон французских духов. «Ты уже большая», – сказала она и тоже меня поцеловала. (В эти дни все целовались слишком много.)
Без подарков не остался никто. Отец Майоль, викарий, Хуан Антонио… Карлосу и Леону подарили велосипед, один на двоих (у них все было общее).
Мы понесли книги в классную. Сели друг напротив друга, у балконной двери. Солнце за окном казалось жарким, и поздняя муха билась о стекло. Борха развалился в кресле – большом, кожаном, потертом – и перекинул ногу через подлокотник.
Мои книги были неинтересные. Их выбирала тетя Эмилия.
С того разговора в бухте Борха лебезил передо мной почти как перед бабушкой. Мы больше не ссорились.
Я заметила, что он смотрит на меня поверх раскрытой книги. Светло-зеленые глаза были пустые и стеклянные. («Как для бабушки».) Я скорчила рожу. Он засмеялся и сказал:
– Поняла, а?
– Что именно?
Он швырнул книгу на пол, потянулся и фальшиво зевнул:
– Что ты у меня в руках.
Я как можно презрительней скривила губы, но сердце у меня сильно забилось.
– Не корчи дурацких рож. Вы все у меня в руках – и ты, и Лауро, и Хуан Антонио. Я ведь все знаю. Все, что нужно!
Я с подчеркнутым равнодушием взялась за книжки.
– Ну, тебе бояться нечего, – сказал он. – Ты примерная девочка.
– Какая хочу, такая и буду. А ты кретин.
– Нет, не будешь. А почему?..
Он замолчал и посмотрел на меня как только мог хитрее.
– Если я все скажу… тебе здорово влетит?
– А что ты можешь сказать? Я про тебя больше знаю!
– Ерунда! С тобой похуже. Тебя отдадут в исправительный дом, как малолетнюю распутницу. Чтобы нас не заразила. Думаешь, мы вас не видели? И Хуан Антонио, и даже Гьем…
– Кого?
– Тебя и твоих дружков. Очень интересно было смотреть. Гьем, Рамон, Хуан Антонио… и я… все видели. Ну, что тебе говорить? Сама знаешь. В четырнадцать лет два любовника! Отправят в исправительный дом.
– У меня нет…
Борха осторожно снял колпачок с вечного пера и стал внимательно его рассматривать. Я удивилась. Скорей удивилась, чем испугалась.
– Не строй из себя дуру! Сама сколько раз говорила, что я перед тобой младенец. Да уж, это верно. А ты хороша!
Он снова хихикнул.
– Да, да, вместе валялись и в огороде и на откосе. И в Сон Махоре. Со стариком тоже, а?
– Мы больше не ходили в Сон Махор! Это неправда.
– Не ходили? Сама говорила! И Санамо…
– Он старый врун…
– Ну, не будем спорить. У меня свидетели найдутся. Знаешь, что такое исправительный дом? Сейчас расскажу. Ты вечно твердишь, как тебе нравятся всякие птички, цветочки… Так вот, там их нет. И солнца не увидишь. Наследственность у тебя плохая. Отец…
Я вскочила и схватила его за руку. Я бы избила его, исколотила, истоптала, если бы мне не было так страшно. Одним рывком он сдернул последний покров, защищавший меня от мира, и я увидела все, чего не хотела знать.
– Врешь! – крикнула я. – Не смей про отца!
Он мягко меня отстранил.
– Не ори. Это не в твоем стиле. Твой отец – негодяй, он красный. Может, сейчас он стреляет в моего. Помнишь, что было с Хосе Таронхи?
Я села. Мне стало очень холодно, и колени у меня дрожали. (Каким жестоким, каким безжалостным можно быть в пятнадцать лет!)
– В общем, ты у меня в руках. Я много читал про эти дома. Там есть карцер. Мне кажется, тебя…
Он говорил, а я закрыла глаза. Жужжала муха – зимняя муха, потерявшая своих друзей. Под веками свет был алый. Руки мои ощущали грубую кожу кресла. Я и не думала, что Борха столько знает про эти дома.
– Неправда! – пробормотала я. – Мы лежали… но мы просто держались за руки…
Как рассказать ему о синем камушке? Как объяснить, что я даже не понимаю, в чем именно он обвиняет меня?
– Если будешь меня слушаться, я ничего не скажу. Смотри: Китаец меня слушался… и бабушка не узнала про рощу…
– Ты врешь, Борха…
– У меня есть свидетели.
Я смутно вспомнила, что Гьем и хромой швырнули в нас камнем и убежали, размахивая палкой, как знаменем.
– Ты не скажешь…
Борха выиграл, – я проиграла. Я, глупая хвастунья, зеленая дура…
Вошла тетя Эмилия.
– Что вы так тихо сидите? Почему не выйдите в сад? Солнце – как весной! Не поймешь вас, право… Когда ветер – бродите, а в хорошую погоду – взаперти! Пользуйтесь, сегодня последний день.
Так оно и было – последний день.
После обеда Борха сделал мне знак. Я пошла за ним, умирая от страха и презирая себя.
– Матия, я собираюсь исповедаться. Идем в собор.
– Мне исповедоваться не в чем.
– Ты уверена? Ну, дело твое. А со мной пойди.
Я пошла. Теперь я делала все, что он хотел. Я начала понимать Лауро, и совесть мучала меня. «Если Китаец жил в таком страхе перед этим змеенышем, как же мне не бояться, дуре и хвастунье?»
Мы оделись и вышли. Он взял меня за руку, как в лучшие дни. Мы прошли через сад. Смоковница облетела, и голые серебристые ветви вздымались к нему. Зимнее солнце твердило: «последний день», «в последний раз». В конце улицы, как на картинке из сказок Андерсена, сверкал зеленым и золотым купол собора.
Мы вошли. Борха обмакнул пальцы в святую воду и, протянув руку, чуть покропил меня. В темноте, угрожая копьем дракону, сиял святой Георгий. Вокруг его шлема сверкал золотой нимб. Рубиновые ромбики по краю витража напомнили вино в бокалах. Что-то вцепилось и мое сердце когтями, острыми, как у Гондольера. У алтарной решетки стоял на коленях человек, закрыв лицо руками. Это был Лауро.
– Он плачет? – спросила я.
Борха тоже опустился на колени рядом со мной, скрестил на груди руки и прошептал:
– Ни во что он не верит!
И все же Китаец плакал под своими любимыми витражами. Я посмотрела на его узкие плечи, черную куртку и подумала: «Может, его убьют, как он стоит сейчас, – в спину».
(Так и вышло – его убили через месяц. Антония встала в тот день спозаранку и вдруг увидела, что попугай не хочет есть. Подавая бабушке завтрак, она сказала: «Сеньора, Лауро скоро вернется, сердце чует». Его убили в тот самый час, а Антония по-прежнему же подавала завтрак и кормила синего Гондольера, твердившего «Попка дурак». Мне рассказала об этом Лоренса, через много лет, когда все было иначе.)
Борха перекрестился и опустил голову. Прикрыв глаза, я вертела головой то вправо, то влево и видела сквозь ресницы отблески витражей.
Борха пошел в ризницу и вскоре вернулся. Руки у него были сложены, голова опущена. Все это показалось мне странным, и я волновалась все сильнее. Потом появился сам настоятель, надевая на ходу стихарь, и вошел в исповедальню. Борха приблизился туда и сунул голову в лиловые занавески. Отец Майоль нежно обнял его за плечи. Прошло довольно много времени. Я устала стоять на коленях, на твердой скамейке. Младенец Христос был в зеленой бархатной рубашечке, расшитой золотом. У него треснул палец на правой руке. Его большие, покрытые эмалью глаза пристально глядели вдаль. Святой в бурой рясе и в сандалиях на золотистых ногах сиял теперь ярче, а святой Георгий поблек. За витражами свистел ветер, и вдруг все закрыла темная туча. Что-то пролетело под сводами. «Летучая мышь», – подумала я. Она заметалась, забилась о стены и упала в угол, словно комок темных тряпок. Пахло сыростью. Стены нефа – как стены корабля, покрытые золотом, мохом и тьмой, – давили и чаровали меня. Я устала. «Лучше бы он не возвращался», – думала я. Мне совсем не хотелось жить. Жизнь казалась пустой и длинной. Я ничего уже не любила, ни к чему не была привязана, даже воздух, солнце и цветы стали чужими.
Борха вернулся.
– Ты не пойдешь?
– У меня нет грехов.
Он странно поглядел на меня.
– Пошли.
Я встала. Борха преклонил колено. Отец Майоль велел нам его подождать. Мы вышли и присели на каменные ступени.
– Почему он идет с нами?
– Я его просил.
Тучи закрыли солнце – а утром оно было такое ясное. Наконец появился настоятель, и мы пошли к нам.
– Бабушка, можно с тобой поговорить?
Бабушка сидела в качалке – бледная и вялая. Она удивленно посмотрела на Борху и на отца Майоля. Потом устало указала рукой на кресло.
Мне захотелось убежать куда-нибудь, где не так страшно. Но Борха взял меня за руку:
– Останься, Матия.
Губы у него дрожали.
– Нет… – слабо сказала я.
– Останься, если Борха так хочет! – ледяным тоном сказал отец Майоль.
Я встала за его креслом. Борха шагнул вперед и опустился на колени перед бабушкой. Я видела только ее лицо, совиные глаза в темных кругах, жующие губы. Бриллиант сверкал зловещим оком, которое переживет нашу тленную плоть. Отец Майоль сказал:
– Донья Пракседес, Борха хочет вам кое в чем признаться.
Бабушка помолчала – я услышала хруст таблетки – потом проговорила холодно:
– Встань, дитя.
Но Борха не встал. Он низко склонил голову, над его блестящими волосами возвышалась бабушка. В руке у нее был старый бинокль, привыкший к фарсам.
– Дорогая бабушка, я прошу у тебя прощения. Я уже исповедался, но я хочу, чтобы и ты меня простила. Я не мог бы без этого жить… Бабушка, я…
Он заплакал. Плакал он странно, беззвучно, закрыв лицо руками. Как там, в саду Сон Махора, когда мы не знали, голова у него болит или душа.
– Ну, ну, – сказала бабушка, переставая жевать. – Да ну же!
Борха поднял лицо. Я не видела его, но знала, что слез на нем нет.
– Я тебя обманывал, – сказал он. – Я у тебя крал. Крал деньги, много денег…
Бабушка подняла брови. Мне показалось, что и грудь ее поднялась, как волна.
– А! – спокойно сказала она. – Значит, это ты?
Я была уверена, что она не знает.
– Да… Я хотел бы их вернуть. Но я не могу, их нет!
– Кому ты их отдал? – спросила бабушка, протирая бинокль.
Борха снова опустил голову.
Мне стало больно, что я уже все знаю. (Что я знаю темную жизнь взрослых и сама вошла в нее. Мне стало физически больно, очень худо.)
– Я иначе не мог… Ты меня прости… Сперва я был сам виноват: мы заключили с ним пари… А потом… Бабушка, я так страдал! Господи, я так тяжело поплатился! Он держал меня в руках, он грозил тебе все открыть, если я не украду снова… еще и еще… Это было ужасно. Я жить не мог. Понимаешь, он собирал деньги, чтобы купить себе лодку и уплыть к греческим островам. Он сумасшедший! Я говорил: «Ничего не выйдет, они очень далеко». А он считал, что я это нарочно, чтобы не давать денег. Он – дьявол, истинный дьявол. Если я его не слушался, он меня бил… Он гораздо сильнее меня.
Борха засучил рукав свитера и, рыдая, как последняя баба, показал рубец от крюка. Бабушка холодно подняла руку и оборвала его:
– Кто?
Я больше не могла. Я повернулась и кинулась прочь. Сбежала по лестнице. Внизу тикали часы. «Только б они его не поймали, – думала я. – Только б не поймали… Только бы он спасся от них…»
Я выбежала на откос. Ветер громко выл. Я оперлась о стену. За черными стволами поднимался зеленоватый туман. Колючие листья агав, словно крики, раздирали воздух.
Сад Мануэля был в нескольких метрах, но я не решалась их пройти. Мне было так больно, что я не могла двинуться. Ветер яростно рвал еще живую траву. Две бумажки гонялись друг за другом. Я видела оливы в его саду – светло-зеленые пятна. Жемчужный блеск, словно белый дым, шел от моря.
Непомерная трусость приковала меня к земле. «Ни цветов не увидишь, ни солнца… А твой отец…» (О, белый стеклянный шарик! Правда ли я так любила цветы, деревья и солнце? А Китаец плакал в церкви…) Я дрожала, но в душе было еще холодней.
Вышел Тон. Его послали за Мануэлем, я это сразу поняла. И даже не смогла выговорить: «Не ходи, скажи, что не застал… предупреди его…» (Но какой-то голос сотрясал меня: «Трусиха, Иуда, трусиха».)
Наверное, Тон нашел его под оливой. Вытащил из серебра олив, как из белого тумана, и повел ко мне. Да, ко мне. К кому же еще он шел, бедный? Тон вел его за руку.
Проходя мимо, он взглянул на меня. И я пошла за ним, как собака, дыша своей изменой и не смея бежать. Я шла за ним до бабушкиной комнаты. (Скрип ступенек, тиканье часов, как тогда, когда я сказала, что с ними плохо поступили. Но то, что мы бросили им в воду, было хуже дохлого пса, в тысячу раз хуже – для меня хотя бы.) Я остановилась у дверей, рядом с Тоном и Антонией, которые с интересом прислушивались к тому, что творилось в комнате. Мануэль твердил одно:
– Нет… нет…
А страшнее всего было, когда он молчал.
Борха стонал и плакал:
– Хотел на греческие острова, как этот его…
Настоятель приказал ему замолчать.
Тона послали в порт. Он вернулся с ящиком. Белый глаз верного слуги сверкал, словно ракушка.
Не помню, как я добралась до пристали. Я вся вымокла. Вылезая из лодки, Тон сказал:
– Обстряпали дельце, что и говорить. Упекут в исправительный дом.
(Мне были безразличны и свет, и деревья, и солнце. Но как же он будет без них?)
Мануэля увели отец Майоль и младший Таронхи, двоюродный брат Хосе. «Для тюрьмы он молод», – сказала Лоренса. Они уже знали, куда его ведут. «Куда?» – спросила я. И самое страшное было, что она не ответила. (А как хорошо выговаривал Тон «исправительный»!)
Не помню, чем кончился день. Не помню, как мы ужинали, что говорил Борха, что – я. Не помню даже, как и когда мы попрощались с Китайцем.
Помню только, как я проснулась. Жемчужно-серый свет сочился сквозь зеленые жалюзи, словно тогда, в первый день, когда я приехала на остров. Мне ничего не приснилось, впервые в жизни. Кто-то хлопал крыльями, будто летали голуби. И я поняла, что еще вечером, на закате, ушла туда, к запертой на замок зеленой решетке Сон Махора. Я отчаянно звала Хорхе, но вышел Санамо и, позвякивая ключами, сказал: «Входи, голубка, входи». Ветер шевелил его седые лохмы. «Он – там, наверху», – указывал Санамо на закрытый балкон. Я крикнула: «Мануэля хотят наказать, а он не виноват!» Но балкон не открылся, никто не ответил, стояла тишина. Санамо смеялся. Было тихо, словно никто тут не жил и дома не было, мы просто его сами выдумали. Задыхаясь, я побежала назад, разыскала тетю Эмилию и сказала ей: «Борха солгал… Мануэль не виноват». Но она смотрела в окно. Потом обернулась и, глупо улыбаясь, надула белые бархатистые щеки: «Ну, ну, не плачь! Пойдешь в школу, и все уладится…» – «Мы очень, очень плохо поступили с Мануэлем…» – «Не принимай это близко к сердцу. Когда-нибудь ты поймешь, что все это – детские глупости…» И вдруг началось утро, реальное и страшное. Я, как наказанная кем-то, лежала с открытыми глазами. (Никогда не было Питера Пена, а русалочка не обрела бессмертную душу, потому что мужчины и женщины не умеют любить, и ей остались только ненужные ноги, и она стала пеной.) Сказки – страшные. И Горого пропал, запропастился где-то среди носков и тряпок. Чемодан уложили, ремни затянули, но Горого там не было. И Китаец уже встал, наверное, Гондольер клюет его в ухо – а есть там, у него, наверху, злые пламенные цветы, и фотография мальчика в спущенных носках?.. Круглые, красные лампы уже зажгли в доме, где рыщут крысы и бурые пауки ткут паутину в щелях. Бабушка, таблетки, золотая посуда… Неужели я так и не закрою глаза? «Говорят, это – совесть».
Как тогда, я вскочила с кровати – спать я не могла – и босая выбежала на веранду. Борха – бледный, в накинутом на плечи пальто – смотрел на меня и курил последнюю тетину сигарету.
В просветах арок едва светилось туманное небо, за горами рождалось утро – там, далеко, где еще, наверное, не проснулись угольщики.
Борха бросил сигарету на пол, мы кинулись друг к другу, обнялись. Он заплакал – как мог он так плакать? Я уже не могла. (Это было ему наказание за то, что он ненавидел Мануэля. А я – разве я его не любила?) Я стояла прямо и прижимала брата к себе. Его слезы падали мне на шею, текли по пижаме. Взглянув на сад, я увидела смоковницу, белую в утреннем свете. На ней сидел петух из Сон Махора, и его гневные глаза сверкали, как огненные шарики. Высоко подняв голову, пламенея белизной, словно известь, он страшным, пронзительным криком возвещал наступление утра, а может – откуда мне знать? – горевал о потере.








