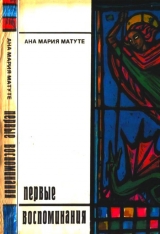
Текст книги "Первые воспоминания. Рассказы"
Автор книги: Ана Матуте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Он жил в стороне от деревни, там, где идет дорога из Крус-де-Вадо, далеко за домами. Его отец служил лесничим у сеньоров Амарантос; жили они одиноко и нелюдимо. Лесничего в деревне не любили за его ремесло. А мальчика почти никто и не знал.
Раз я пошла в лес за тутовыми ягодами и сама не заметила, как вышла прямо к их дому. Сердце у меня остановилось: я вспомнила страшные истории, которые рассказывали о них в деревне.
– Ох, что-то он скрывает неладное… – говорили о лесничем.
– Чья-нибудь жизнь на совести…
– И жена его бросила, – неспроста!
Мне едва исполнилось девять лет, и многого, о чем говорили, я не понимала, но страх вошел в меня и забил крыльями, как летучая мышь в тени деревьев. Я сразу взмокла, обессилела и прислонилась к дубу, который рос у дома. К тому же я сообразила, что ступила на землю, принадлежащую Амарантос, и содрогнулась: «Ну вот, теперь, если лесничий увидит, как я тут стою, он меня убьет. Выстрелит из ружья… Он подумает, что я пришла красть дрова, как Паскуалин…»
Паскуалин, младший сын Теодосии Алехандрии, таскал дрова из леса Амарантос, и лесничий один раз избил его чуть не до смерти. Это сказал сам Паскуалин, вернувшись домой, из носа у него текла кровь. (Правда, вся деревня знала, что Паскуалин любит соврать, его собственная мать говорила, что верить ему ни в одном слове нельзя…) И все-таки, услышав, как трещат ветки под чьими-то шагами, я почувствовала, что у меня подгибаются ноги.
Дрожа, я подняла глаза и похолодела. Это был лесничий, с ружьем за спиной и в кожаных штанах, как у дедушкиных пастухов. Я хотела крикнуть, но голос не слушался. Лесничий смотрел на меня голубыми, близко поставленными глазами и подходил все ближе. Он что-то говорил, я не понимала. Вдруг я бросилась бежать, споткнулась, покатилась кубарем. И даже тут не смогла закричать.
Что было дальше, помню смутно, наверное, я потеряла сознание. Словно во сне меня подняли, несли на руках и внесли в тот самый дом. Потом, непонятно каким образом, я уже сидела в плетеном ивовом креслице, у очага. Лесничий возился с моей коленкой и лицом – лечил меня, но очень странно: прикладывал кусочек тряпочки с мазью, мазь отдавала уксусом.
Я посмотрела на него, произнести хоть слово еще не могла. Я сильно ушиблась, хотя падать тут, в горах, было не в диковинку: свалиться с каменного завала, проехаться по скользким камушкам в реке, а один раз я сорвалась со сливового дерева. Но раньше я никогда не теряла сознание, а теперь потеряла, надо думать, со страху.
Пока лесничий останавливал кровь у меня на щеке, я разглядывала его. Ничего такого, обыкновенный, как все люди в деревне. Темное лицо в морщинах, волосы с проседью. От него тянуло сырыми дровами и дымом.
Дом, где он жил, был маленький и весь пропах лесом. В окно и в дверь свободно, как ветер, вплывали голубоватые оттенки травы и красные отсветы осени, полыхавшей вокруг.
– Ну, – сказал лесничий, – вот и все. Покажись-ка, теперь ты похожа на человека!
Он поднялся с колен и, убирая странную мазь в шкаф, обернулся ко мне:
– Чего ты так испугалась?
Я вдруг заметила, что страха моего как не бывало.
Тогда я испугалась другого:
– Скажите, пожалуйста, – спросила я, – наверное, сейчас очень поздно?
– Пять часов, – ответил он.
Я спрыгнула с кресла и закричала от боли. Он снова подошел.
– Да что с тобой, милая?
У меня очень болела коленка. Страшно болела. Он взял мою ногу и хотел ее согнуть, я отбивалась изо всех сил:
– Ой, больно, не надо!
Лесничий почесал в голове и задумался.
– Ну, ну, – сказал он, – что же делать? Потерпи!
– Да, потерпи, – ныла я, стараясь не зареветь в голос. – А если я не могу терпеть… если я ушла утром из дому… и вдруг они меня хватились… и теперь если я вернусь…
Он посмотрел на меня внимательно. Взгляд у него был неторопливый и успокаивающий. Я подумала: пусть бы он поговорил с дедом, может, меня бы и не наказали…
– Если бы вы объяснили моему дедушке, что случилась беда, что я при смерти!.. Он бы меня пожалел, и мне бы ничего не было…
Лесничий снова почесал в затылке.
– Ага, – сообразил он, – ты, стало быть, внучка дона Сальвадора?
– Да, – ответила я. (И чуть не добавила: «К несчастью». Но нрав моего деда и так был известен по всей Артамиле.)
– Ну, ладно, посмотрим, – сказал лесничий. – А теперь успокойся. Есть хочешь?
Тут я поняла, что ужасно проголодалась. И еще кое-что, поважнее, хотя и задним числом: пока я искала тутовые ягоды, я заблудилась, и если бы не наткнулась на лесничего, то так и пропала бы в лесу, потому что одна я ни за что не нашла бы дорогу домой…
– Да, – сказала я, – мне хочется есть. И потом, я заблудилась.
И у меня брызнули слезы. Я смотрела, как они, прозрачные, блестящие, катятся по платью. Лесничий положил руку мне на голову, и под его жесткой ладонью я понемногу успокоилась.
– Вот что, – проговорил он, – я позову Лусиано, он с тобой побудет, а я схожу к вам домой… Не могу же я отнести тебя на закорках!
Я кивнула. Лусиано, я слышала, звали его сына.
Когда Лусиано вошел в дом, я удивилась: никогда в жизни не видела такого лица, как у него. Он был мне ровесник или чуть старше и сильно хромал на правую ногу. Одна нога была короче другой, но лицо – прекрасно. И волосы, длинные, как у девочки, гладкие, золотистые, таких волос у нас в деревне ни у кого не было.
– Добрый день, – сказал Лусиано.
Он был в рваной одежде, без башмаков. Широкие, задубевшие ноги: он много ходил босиком. Блестящие глаза смотрели пристально.
– Послушай, Лусиано, – сказал лесничий. – Займи девочку, покажи ей своих птиц… А я пойду в усадьбу, расскажу, что случилось. Она повредила ногу.
Лусиано смотрел на меня как-то непонятно… Может быть, я ему не нравилась? Такие спокойные были у него глаза, просто страшно.
– Хорошо, – ответил он, – вынеси ее.
Лесничий взял меня на руки и вынес из дома. Лусиано шел впереди, припадая на одну ногу. Когда мы ступили на траву, солнце вдруг осветило голову Лусиано, красную землю тропинки, жгучие цветы арсаду, посаженные у ее края…
– Смотрите, смотрите, расцвел арсаду, – закричала я, мне ни с того ни с сего стало весело. – Значит, скоро быть холодам.
– Правильно, – подтвердил лесничий, – расцвел арсаду, значит, быть холодам. Кто тебе так хорошо объяснил?
– Служанки, – ответила я.
Лусиано поднял голову. Сидя на руках его отца, я увидела глаза, полные солнца, и протянула ему руку.
– Помоги мне сойти, – попросила я.
Он заботливо помог мне спуститься. Слабый ветерок гулял между деревьев, жалуясь на что-то.
– Сидите здесь, птицы, – сказал лесничий. – И ждите, когда я вернусь из усадьбы.
Он снова пошел в дом, и я посмотрела ему вслед. Рядом со мной Лусиано искал что-то в траве.
– Лусиано, почему он сказал «птицы»?
– Мы – птицы, – ответил мальчик, не глядя. Волосы падали ему на лицо, и я не видела, как он это произнес.
Потом он встал и подошел к дереву. Кажется, к дубу, но я не уверена. К стволу была прислонена длинная деревянная лестница, а повыше, в самих ветвях, укреплена другая, веревочная, она вздрагивала от ветра. Что-то странное было во всем этом, до того странное, что для этого не было слов, это не умещалось в голове. Что-то таинственное, словно волшебное, оно притягивало, завораживало. Завораживал и красный осенний свет в ветвях… И еще: как только Лусиано коснулся лестницы, дерево заволновалось, залепетало, заговорило, будто позвало всеми своими листьями, этот зов вошел в меня и взял за душу.
– Лусиано, – закричала я, – Лусиано, что это?
Лусиано повернул голову, посмотрел серьезно и, мне показалось, презрительно.
– Это – птицы, – сказал он. И стал взбираться по лестнице, странно легко, несмотря на короткую ногу. Наверху, каким-то птичьим движением, он уцепился за ветку и повис. Там, на дереве, он тоже двигался странно, будто не перелезал, а перелетал, перескакивал с ветки на ветку, посвистывая, и посвист этот был похож не на мелодию, а на резкий, прерывистый, звучный крик или щебет, и птицы его понимали. Я видела, как они облепили ему плечи, руки, уселись на голову. Простые неяркие птички крыш и дорог, как они были красивы здесь, в алом сентябрьском солнце, крича что-то, мне не понятное! Лусиано, подняв голову к небу, посвистывал. Он висел на веревочной лестнице и медленно раскачивался, а серые и желтые птицы на его плечах звенели крыльями…
– Возьми, поешь немного, – услышала я голос лесничего и чуть не подскочила. Он положил на траву кусок темного хлеба и горсть орехов.
Потом ушел. Лусиано все еще раскачивался. И волосы его, длинные, тонкие, гладкие как золотой дождь, раскачивались в лад.
– Лусиано, – позвала я. И странная, светлая тоска нашла на меня. – Лусиано!
Он не слышал или не хотел слышать. Птицы пели, все вокруг сияло: трава, небо, земля и ядовитый цветок арсаду, – упаси боже взять его в рот. И надо всем этим сверкало дерево, а на нем Лусиано и его золотые птицы… Вдруг Лусиано замер, птицы смолкли, и тогда свет вокруг померк.
– Они твои? – спросила я, еще не придя в себя.
– Да, – ответил он. – Мои… Конечно, а как же!
– Как ты их научил?
– Не знаю, – сказал он, скользя вниз по веревкам. С веток перешел на ствол и оттуда, по деревянной лестнице, спустился на землю.
– Поди сюда, – попросила я, – расскажи про это!
Лусиано неторопливо подошел. Только увидев, как он идет по траве, я вспомнила, что у него одна нога короче другой. Если забыть про ногу, он был прекраснее всех на свете.
– О чем тут рассказывать, – сказал он. – Сама видишь – это птицы.
– Почему ты сказал, что мы тоже птицы?
Лусиано сел рядом со мной. Он гладил траву как-то странно, будто и ласкал и мял ее.
– Потому что мы – птицы, – повторил он, отвернувшись. Лицо его разгоралось. – Мы – птицы… И мама моя была птицей. Поэтому я сказал: все мы птицы. Правда, плохие птицы, знаешь… Но мы – птицы, а то кто же? Птицы ведь, когда им плохо, возвращаются домой, как и мы. Но уже не прежние, не те…
Я не понимала, о чем он говорит, но готова была слушать его без конца.
– А я?
Он тихо посмотрел на меня. И я отвела глаза от его круглых, спокойных, полных света зрачков.
– И ты, – ответил он, – все.
Лусиано встал и пошел в дом. Немного погодя он вернулся с большой растрепанной книжкой. В книге были цветные картинки, изображавшие породы птиц. Он не спеша листал ее передо мной.
– Это птица холодов… эта – пшеничного поля… вот птица – бродяга, вот птица бурь…
Он рассказывал долго. Я слушала странную историю о птице-убийце, и еще одну – о кладбищенской птице. О птице ночи и о птице полдня. Лусиано все про них знал или выдумывал тут же: таких историй я нигде не читала.
– А читать ты умеешь? – спросила я.
– Вот еще! – ответил он.
Когда Лусиано захлопнул книгу, я увидела на тропинке между деревьев Лоренсо, старшего арендатора дедушки, и у меня испортилось настроение. Он вел в поводу Матео, нашу старую лошадь. Лесничий с ружьем через плечо шагал позади, глядя в землю.
Лоренсо посадил меня на лошадь и, не переставая мне выговаривать, повез, будто я была узел или тюк. В дороге я почувствовала жар, жажду и тоску. Я смотрела вверх, небо бледнело, земля пахла по-осеннему. Я приехала домой совсем больная, и это спасло меня от наказания.
Некоторое время я болела. А когда поднялась, уже стало холодно. Осень кончалась.
В первый день, как только я встала на ноги, мы пошли погулять с Мартой, нашей кухаркой, я ее очень любила. Она вела меня за руку по засеянным полям и рассказывала о семенах, поливке, урожаях. Моей руке было хорошо в ее руке, большой и шершавой, утреннее нежаркое солнце гладило лоб. Марта вдруг показала пальцем:
– Посмотри, посмотри! Мошенники, бродяги, вот я вас!
Между борозд стояло пугало, но воробьи, не обращая на него внимания, выклевывали семена из земли. Марта стала пугать их камнями. Я побежала за ней, но внезапно, как вкопанная, остановилась перед пугалом.
– Марта, откуда ты взяла это? – спросила я. И страх, большой, точно ночь, накрыл меня с головой. Марта взглянула исподлобья и ответила своим всегдашним вопросом:
– Зачем тебе?
Губы у меня задрожали.
– Это вещи Лусиано, сына лесничего!
Марта сникла, опустив глаза. Камень выпал из ее рук и покатился, подпрыгивая. Птицы мигом слетелись снова, облепили чучело, сели на руки, распятые крестом, расположились на голове, в золотых волосах из пакли, блестевших на солнце, как маис.
– Что ж, – проговорила она, – раз ты догадалась… Боже милостивый, поди скрой что-нибудь от детей! Да, это одежда Лусиано. Лоренсо купил у лесничего, тому было тяжело смотреть на нее.
– Почему? – спросила я, а сердце уже знало.
– Ах, ласточка моя! – сказала Марта. – Вот так все и живем… Лусиано упал с дерева и разбил голову о землю, об эту самую горькую землю, что дал нам господь.
Перевод Л. Архиповой
Из книги «Река»
Моим родителям

«Через одиннадцать лет…»
Через одиннадцать лет я вернулась в Мансилью-де-ла-Сьерра, туда, где прошло мое детство. Старую деревню затопили, и белые, слишком новые дома удивленно светились во влажной осенней зелени.
Когда спустя столько лет возвращаешься туда, где прошло детство, оживают и всплывают в памяти смутные, казалось, уже совсем забытые образы, и в них открывается странный, именно сегодня важный и волнующий смысл. Но все потонуло, все потонуло, и все еще живо, скрытое этой темно-зеленой стеклянной гладью, и мне уже не бродить по лесам Агангесии и Омбриуэлас, а я так любила их буки и дубы. Вода скрыла то, что было красивой и ласковой долиной, на краю которой росли серебристые и черные тополя. Но там, на другом берегу, остались деревья – их листья шумели над нами в детстве, в юности. Вода скрыла все – тени домов, каменные ограды, луг, поле, тополиную рощу… Сколько имен, сколько беготни, и все – немо.
Все дети рисуют дома – обыкновенные, прямоугольные: два окна и большой балкон из железных прутьев. Но нельзя понять, что такое этот дом, если ты не жил там в детстве, если не видел той ограды и тех деревьев, если десятилетним не носился по той траве и не падал, усталый и взмокший, в тени под старым орехом. Этого не понять, если ты ни разу не прятался за садовым забором или в тополиной роще, не лазил тайком за кислыми яблоками.
И река… Она исчезла – как странно. Я помню, как река огибала поле, помню берега, поросшие мхом, и заводи, покрытые тиной, тонкие тростники, цветы – белые, желтые, лиловые; крохотные «мыльнянки», стрекоз, отливавших сталью на солнце; помню темные овраги и стволы, склоненные к земле, шаткий мост. Мы знали, что зимой река разливается и выбивает камни из стен. Но никогда мы не видели ее такой – переставшей быть, побежденной, исчезнувшей. Я знаю, что она снова появляется там, внизу. Я прочла ее название, я сама видела, как она течет под мостом и дальше – в долину, к садам и щедрым землям Риохи. Но это не наша река, не та река, которую мы помним. Не та, которая узнавала наши голоса и столько раз отнимала у нас, унося вниз по течению, то косынку, то сандалию. Я не знаю, куда девалась та вода, отливавшая зеленью и золотом, куда исчезли тенистые берега, заросли мяты. Говорят, что река осталась здесь – она в глубине, где вода разливается и поглощает все, становясь густого зловещего цвета. Я этого не понимаю. Но, может быть, и правда – в самой глубине еще живет эта река. И, закрыв глаза, я вижу ее – прежнюю, нетронутую. Золотую реку, текущую туда, откуда не возвращаются, – как жизнь.
Перевод Н. Малиновской

В деревне, где люди живут и умирают медленно и спокойно, среди радостей, печалей, бедности или даже достатка, часто думаешь – как я сейчас, у этого нового кладбища с красными стенами и тонкими кипарисами, еще не успевшими перерасти ограду, – о том, как мы сами искажаем и укорачиваем жизнь. У кладбищенской стены, слишком новой среди осенних полей, и еще – глядя на круглый крестьянский хлеб, хрустящий и золотистый, я спрашивала себя – так ли живут люди вдали от этих затерянных селений, так ли они живут и умирают далеко отсюда, или это только еще одна ложь – из тех, которыми мы тешим себя, в которых незаметно тонем.
Здесь, в затерянной деревушке – десяток белых домиков, и нет ни кино, ни телевизора, ни газет, нет ничего, что в деревне не без иронии называют «городскими развлечениями», – здесь жизнь и смерть встают во весь свой рост, пронизывая странным покоем, я бы даже сказала – полной бесчувственностью, которая охватывает и заполняет собой все. Даже когда обрывается жизнь ребенка, здесь, на сельском кладбище, под выкрашенным золотой краской крестом и едва заметным расплывшимся именем, она кажется завершенной, четкой. Здесь эта маленькая беспечальная могила. И здесь, на крестьянском столе или в поле – круглый хлеб, суровый и нежный. Надо было бы жить хлебом, водой. Просто рождаться и умирать. Слушать, затаив дыхание, как воет ветер, спускаясь с гор мартовскими ночами, когда роса ложится на поля или сохнут травы, ночью – глядеть на небо, как эти люди, что говорят о волках, плохой зиме, заморозках и ранних ливнях; труд отдавать земле, любовь – ближнему, заботу – детям.
Я не хочу сказать, что в деревне не бывает зависти, пересудов, ненависти, горя. Все это есть, но за всем этим – ощущение человеческой общности, умение прощать. И еще то, чему не знают цены, – забвение. Стоит случиться несчастью – пожару, наводнению, болезни – как все селение приходит на помощь. Говорят, деревня – это чудовище, ведь в небольшом селении ненависть, зависть, обиды видны всем, будто написаны на лбу или на небе. Но эта жестокая четкость – земная, она делает жизнь проще, истиннее. Хлеб ежедневно объединяет этих людей – работой и трапезой, и они говорят: «Ладно, хлеб уже на столе, после поговорим» или «Там посмотрим».
Так приходит смерть. И снова я думаю о том ребенке, который там, внизу, в этой недавно перекопанной земле. Думаю о его жизни и смерти – таких кратких, но так надолго оставшихся во мне.
Перевод Н. Малиновской

В тот октябрьский вечер, пронизанный светом, я пошла к скромной могиле с маленьким железным крестом. Там похоронен Пакито.
Я хорошо помню, как Пакито крестили. Я была тогда совсем маленькой. Сентябрьским днем, похожим на тот день, когда я ходила на кладбище, к нам пришла из селения женщина; она плакала. Мои родители собрались на крестины – отец должен был стать крестным отцом одной девочки, и женщина сказала: «Муж мой не хочет крестить ребенка, голову ему заморочили, совсем свихнулся. Если бы вы согласились и моему сыну быть крестным, муж бы спорить не стал – он вас уважает, побоялся бы обидеть». В тот вечер при всем народе – кругом сновали босоногие ребятишки и чинно стояли мужчины и женщины в черном – крестили двоих детей: Пакито и Фелису. Были и бумажные цветы – красные и желтые, и разноцветный засахаренный миндаль, и медные кропильницы, и прозрачные бокалы зеленоватого стекла, и скатерти, вышитые крестом.
Я страшно удивилась, увидев, что отец Пакито (тот самый, «совсем свихнувшийся», которого я воображала сатаной в берете) шел во главе процессии. Он был очень нарядный, в выходном костюме и белой рубашке, а перламутровая пуговица на воротнике переливалась, как жемчужина. Было видно, что он доволен. «Значит, не сердится?» – спросила я отца.
Пакито рос болезненным мальчиком, худым, неловким. Дети издевались над ним, пользуясь тем, что он слабый, – я видела, как однажды они чуть не погребли его, завалив камнями. Но он не казался печальным.
У него были большие круглые глаза, такие не часто встретишь. И все время он едва заметно улыбался – как-то понимающе и сочувственно. Он был молчалив, но любил разговаривать с моим отцом. Он любил отца, хотя вряд ли был привязчивым ребенком. Каждый год, когда мы приезжали в деревню, Пакито приходил к нему. Они усаживались друг против друга: отец на крыльце, на перилах, Пакито – на скамеечке. И разговаривали. Сейчас я очень жалею, что никогда не слушала, о чем они говорят, но хорошо помню, что Пакито не любил получать подарки. Он брал их нехотя, как-то покорно, с той же неуловимой улыбкой, и никогда не благодарил. Моему отцу Пакито нравился, я это видела по глазам.
Однажды, когда Пакито пил на площади, дети толкнули его, и он сильно ударился виском о трубу. Не знаю, как он не остался без глаза, но с тех пор на виске у него виднелся круглый розоватый шрам. На следующий год Пакито осиротел, и его старшие сестры, сами еще очень молодые, отдали его в приют. Там он, по всей вероятности, учился сапожному ремеслу. Мы не виделись года два, и как-то отец спросил у его сестры:
– Что Пакито?
Он посылал ему посылки, и я представляла, как Пакито получает их, – безучастно, с неловкой улыбкой.
Когда ему исполнилось тринадцать лет, его отпустили в деревню на праздники, помню точно – это было четырнадцатого сентября. Он подрос, но все равно был щуплый. К нам он приходил не затем, чтобы повидать нас, и даже любил говорить, что пришел «именно к моему отцу». Отец спускался по лестнице и не успевал еще сойти со ступенек, как Пакито, вытянувшись по-солдатски, протягивал ему руку. Я слышала их разговор:
– Ну, как дела, малыш?
– Очень хорошо.
– Ты, говорят, учишься на сапожника?
– Да, вот приедете на будущий год, я вам пошью ботинки.
– Нравится тебе ремесло?
– Да, на будущий год я вам пошью ботинки, мне уже разрешают.
– Да ты скоро мастером будешь!
– Вот увидите, какие я вам пошью ботинки.
Он нагнулся и толстым исписанным карандашом очертил на бумаге ступню.
– До будущего года, Пакито.
– До свиданья. Вот увидите, какие будут ботинки. Он ушел, простившись за руку и не взяв подарка. На будущий год Пакито не принес ботинки и не пришел повидаться с отцом.
– Как Пакито? – спросили мы у сестер.
Старшая сестра отвела глаза:
– Уж извините, мы вам и не сказали: умер Пакито. Да по правде сказать, немного он стоил.
Перевод Н. Малиновской









