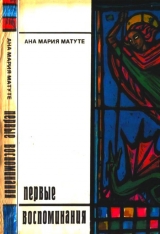
Текст книги "Первые воспоминания. Рассказы"
Автор книги: Ана Матуте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Из книги «Истории Артамилы»

В усадьбе моего деда был один поденщик, старик, по имени Лукас де ла Педрериа. Все говорили, что этот Лукас де ла Педрериа великий плут и обманщик, а дедушка его любил и рассказывал разные истории из его жизни, из давно прошедших времен.
– Он объездил весь свет, – говорил дедушка. – Видел остров Яву… Но ему не везло: что ни затеет, во всем неудача.
Лукас де ла Педрериа был смешон взрослым. Нам – моему брату и мне – нет. Для нас он был самый замечательный человек на земле. Мы его любили, мы им восхищались, и мы его боялись – все вместе. Ничего подобного потом мы уже ни к кому не испытывали.
Лукас де ла Педрериа жил в крайнем домике, у леса. Жил один, сам готовил кушания из мяса, лука и картошки, иногда и нам давал попробовать, с какой-то особенной костяной ложечки; сам стирал себе белье в речке – колотил его палкой. Он был очень стар и любил шутить, что, мол, потерялся куда-то последний год его жизни, и он теперь ищет его, никак не найдет. Мы с братом то и дело прибегали к Лукасу де ла Педрериа, потому что никто до сих пор не говорил с нами о том, о чем говорил он.
– Лукас! Лукас! – кричали мы, если не видели его на пороге.
Он выходил, смотрел на нас, протирая глаза, белые волосы падали ему на лоб. Он был маленький, сгорбленный и почти все время говорил стихами. Не то чтобы это были настоящие стихи, всегда в рифму, но они нас завораживали:
– Глазки как свечки, пришли две овечки… Зачем же они пришли?
Мы подходили к нему медленно, обмирая. (Черные бабочки, наваждение ветра, зыбкий зеленый свет над сытой землей кладбища…)
– Пусть выйдет дон Петрушка, – просили мы тихими голосами, чтобы никто не услышал, кроме него, нашего чародея.
Он прикладывал ко рту скрюченный, темный, как сигара, палец.
– Тише мыши, кот на крыше! Ах вы, маленькие злодеи с острова злодейства!
«Маленькие злодеи с острова злодейства» – это было хорошо. И еще: «Фу, противные, нечестивцы, отродье ворона!» «Отродье ворона» – это было лучше всего. И в груди у нас сам собой надувался яркий воздушный шарик…
Лукас де ла Педрериа садился на землю и просил, чтобы мы протянули ему руки.
– Давайте сюда ладошки, я угадаю, что у вас на сердце…
Мы протягивали руки. А сердце билось так, будто на самом деле Лукас де ла Педрериа видел на наших ладонях, как оно дрожит от страха и смеется.
Он приближал наши руки к глазам, рассматривал, поворачивал на ту и на эту сторону, приговаривая:
– Ручки того, у кого нет ничего; ручки пастуха, сухие от посоха; посмотрим, какая картинка, – плохо будет тебе, сиротинка…
Так он не то припевал, не то читал стихи, а в промежутках сплевывал на землю. Мы кусали губы, чтобы не засмеяться.
– Ты солгал три раза подряд, как святой – Петр, – говорил он, помнится, моему брату. Брат краснел, но молчал. Может, это так и было, а может, и не было, кто из нас стал бы спорить с Лукасом де ла Педрериа?
– А ты, лакомка, жадное сердце, это ты закопала золотой самородок на дне нашей реки? Так делают рыбаки на острове Ява…
Вечно он приплетал рыбаков со своего острова Ява… Я тоже не спорила. Кто знает, может, я и на самом дело зарыла золото под рекой… Могла я твердо сказать, что не зарывала? Нет, не могла…
– Пожалуйста, пожалуйста, Лукас, пусть выйдет дон Петрушка, – просили мы.
Лукас раздумывал некоторое время и наконец говорил:
– А ну, чертенята, марш бегом! Дон Петрушка уже идет к пещере. Если не успеете раньше него, если опоздаете, тогда увидите, что вам будет…
Мы неслись к лесу, ныряли в его зеленый мрак, под солнечные зайчики. Карабкались по мху, лезли изо всех сил по скользким камням у водопада, наверх, туда, где жил дон Петрушка, наш тайный друг.
Мы садились у входа в пещеру, щеки горели, кровь билась в горле, сердце, казалось, еще бежало.
И вот, немного погодя, показывался дон Петрушка. В красном плаще с желтыми солнцами, в высокой синей остроконечной шляпе, с волосами из пакли и чудесным, белым, как луна, лицом. Правой рукой он опирался на жезл, увитый розовыми бумажными цветами, в левой держал золотые колокольчики и звенел ими.
Мы вскакивали и отвешивали ему поклон. Дон Петрушка важно входил в пещеру, мы шли за ним.
Внутри пахло хлевом, здесь иногда ночевали пастухи со стадом. Дон Петрушка доставал из темного закоулка заплесневевший фонарь, бережно зажигал его и садился посреди пещеры на большой камень, закопченный кострами пастухов.
– Ну, что вы принесли сегодня? – спрашивал он голосом странным и гулким, как будто из самых пещерных глубин.
Мы выворачивали карманы и вытряхивали наши грешные монетки, которые крали для него. Дон Петрушка любил серебряную мелочь, он перебирал монетки, перебрасывал их с ладони на ладонь и прятал куда-то в плащ. Затем оттуда же, из плаща, появлялась маленькая гармоника.
– Танец колдуньи Тимотеи, – просили мы.
Дон Петрушка танцевал. Танцевал, как никто не танцует, – прыгал и кричал под музыку. Плащ вздувался, мы прижимались к стенам пещеры. Это было совсем не смешно! Потанцевав, он снова просил денег. И опять танцевал, танцевал «танец погибшего дьявола». Музыка его была красива, ни на что не похожа, от его дыхания пробирала дрожь, как от ветерка с реки. Он пел и танцевал, пока у нас хватало монеток, когда они кончались, дон Петрушка бросался на землю и делал вид, что засыпает.
– Прочь, пошли прочь! – приказывал он.
Мы кубарем скатывались вниз по склону, бежали через лес, по спине холодной змейкой полз страх.
Однажды – мне только что исполнилось восемь лет – мы с братом побежали к Лукасу, нам опять захотелось увидеть дона Петрушку. Он никогда не являлся сам, нужно было, чтобы его позвал Лукас.
В домике у леса было как будто пусто. Мы звали, звали… Лукас де ла Педрериа не откликался. Испуганные, мы обежали вокруг дома. Наконец брат, он был решительней меня, толкнул деревянную дверь, и она протяжно заскрипела. Из-за его плеча я тоже заглянула внутрь. Слабый свет сочился в приоткрытое окно. В комнате плохо пахло. Раньше мы сюда не заходили.
Лукас лежал на кровати, очень спокойный, и странно смотрел в потолок. Брат позвал его тихо, потом громче, потом и я стала звать:
– Лукас, Лукас, отродье ворона с острова злодейства!
Нас разбирал смех, что он не отвечает. Брат пытался его растолкать. Лукас не шевелился, жесткий, холодный; нам все время хотелось его трогать, и было почему-то страшно. Мы оставили его и пошли посмотреть, что у него в доме и как. И нашли старый черный сундук. Открыли. Там лежал плащ, высокая шляпа, прекрасное белое лицо дона Петрушки. И серебряные монетки, наши грешные монетки, перекатывались бледными звездочками…
Мы молча глядели друг на друга. И вдруг расплакались. Выбежали в поле, бежали и плакали, плакали так, что сердце разрывалось, и уже на холме стали кричать, всхлипывая:
– Дон Петрушка умер! Как же это, умер дон Петрушка!
Люди оглядывались и не понимали, что такое мы кричим, о ком плачем.
Перевод Л. Архиповой

Они пришли к нам в селение, только-только проглянула весна. Еще было холодно, дни ползли серые, мокрые. Никак не хотело таять, хотя солнце припекало вовсю, тяжко льнуло к коже сквозь туман. Все в деревне ходили мрачные и ругали бога и друг друга. Слыша, что они говорят, я понимала: ничего хорошего земля им на этот раз не обещает. Дедушка даже запретил мне бегать в деревню, пока «это» носится в воздухе. Он считал, что «это», то есть ругань, должно носиться в воздухе. Дедушка не отпускал меня в деревню и просто так, без объяснений. В тот день я, как всегда не отпущенная, сидела на пороге кузницы Алькона, когда на дорогу выехала из тумана повозка.
– Комедианты, – сказал кузнец, ковыряя в зубах мизинцем.
С Альконом мы давно дружим, между прочим потому, что я ношу ему тайком дедушкин табак. Он тоже сидел на пороге, подставляя себя солнышку, и ел хлеб, кусок, натертый чесноком и густо политый зеленым оливковым маслом.
– Какие комедианты? – спросила я.
Алькон показал кончиком ножа на повозку в тумане. Ее навес белел как парус, она казалась кораблем-призраком, плывущим по серой каменистой реке в снежных берегах, – в канавах еще лежал снег.
Да, это были странствующие актеры. Явились они нескладно, не ко времени. Им бы прийти зимой, после того как здесь управятся с работами в поле, или пусть весной, но когда все уже расцвело, а сейчас в деревне у каждого дел по горло. Первое представление смотрели я, писарь, его жена и пятеро ребят, экономка священника да дедушкины служанки – они-то и взяли меня с собой. А на третий день, к ночи, комедианты ушли совсем, туда, откуда пришли.
Но не все. Двое остались. Старик и мальчик лет десяти. Очень смуглые, очень грязные и странно какие сухие, точно неполитая рассада в августе. «Мясо без сала» – выразилась о них, а я слышала, Фелисьяна Морено, старая поденщица сеньоров Фуэнсанта. Она пришла в лавочку за оливковым маслом. Комедианты только что были тут, купили сто граммов черных маслин. Потом я видела: они уселись на площади у фонтана и медленно жевали маслины с хлебом – хлеб они доставали из котомки. Жевали и смотрели вдаль так, как будто они не сидели, а шли по большой дороге.
– Это цыгане, – сказал Алькон несколько дней спустя, когда я снова удрала без спросу из дому. – Смекаешь? Цыгане, окаянное племя! Да что там, у них же на лбу написано – нечистая сила!
– Как это?
– Так.
Я пошла в селение взглянуть на цыган… Они сидели у какого-то дома, мальчик иногда выкрикивал:
– Кастрюли паять! – какие-то такие слова.
Вечером, когда я скучно ужинала с дедушкой за большим столом в столовой, внизу, на кухне, послышался шум, и мне захотелось туда. Я поскорее съела ужин, поцеловала дедушку и пошла будто бы спать. А сама спустилась в кухню. Там были кастрюльщики! Старик сидел у огня и рассказывал. А Элиса – кухарка, служанки, наш посыльный Лукас эль Гальо смеялись. Мальчик черными глазками-бусинками смотрел, как Элиса накладывает ему в глиняную миску рис. Я подкралась поближе, по стеночке, чтобы не заметили, – это я умела! Элиса, нагнув сковородку, сливала на белый рис остатки томатного соуса. Потом достала низенький широкий стаканчик зеленого стекла – он мне очень нравился – и налила вина. Вино сразу поднялось до краев, несколько капель упало на стол, дерево тут же выпило их, будто давно уже хотело пить. Она дала мальчику деревянную ложку и, подперев бока руками, широко улыбаясь, обернулась к старику. Тут только я услышала, что он говорит:
– …и я себе сказал: конец нашей собачьей жизни, здесь мы останемся, осядем. Мой сын сначала твердил: нет. Я ему долго втолковывал. Что я говорил? Я говорил простое: научу мальчика ремеслу, ремесло первое, что нужно, чтобы осесть. Будет лудильщиком, вот! Наконец он признал: «Что ж, это дело, отец. К зиме мы сюда завернем, посмотрим, как вы тут прижились». Я хочу сделать из мальчика человека, понимаете? Не бродячую собаку. Чему он научится на дорогах? Воровству или чему похуже… Здесь же мы осядем. Я хочу, чтобы мой внук жил на земле. Чтобы он женился, чтобы пошли дети и бегали тут. А так… Годы уходят, не успеешь оглянуться, понимаете?..
Алькон сказал неправду: какие они цыгане? Они разговаривали не по-цыгански и не пели песен. Правда, говорили они все равно странно, сразу не поймешь, о чем. Я села, подперев руками щеки, чтобы лучше слушать. Лукас эль Гальо смеялся над стариком:
– Он будет губернатором, твой внук, если останется паять кастрюли в наших краях, губернатором, не меньше…
И служанки смеялись, но старик словно не понимал. А может быть, не показывал виду. Он повторял свое «осесть».
– Что нужно человеку? Работа и чтобы его никто не трогал. Работаешь, делаешь свое дело…
Мальчик подскребывал дно миски. Старик легонько тронул его в спину дорожной палкой, тот, утирая ладонью рот, стрелой вылетел из-за стола.
– Пошли, Карамело, – сказал старик.
И мне и всем стало смешно: мальчика звали Карамелькой!
У нас на кухне им дали привести в порядок два котелка и сковородку.
Старик сказал:
– Завтра будут как новые.
Когда они ушли, Элиса притворилась, что только увидела меня, и напустила на себя строгость.
– В такую-то пору еще прыгают непослушные воробьишки! В такую-то пору! Сию минуту стремглав в постель, а то спустится хозяин и всем нам задаст!
Я взлетела по лестнице так, как она велела, стремглав, и зарылась в простыни.
На следующий день лудильщики принесли починенную посуду. И верно, все было как новое, я сама водила пальцами по швам. Кроме того, они навели блеск – посуда сияла. Элиса заплатила им и снова посадила обедать.
– Ну, как у вас с работой, – спросила она, – есть заказы?
– Нет, – отвечал старик. – Не сразу, еще будут…
– А где вы ночуете?
Последний вопрос старик пропустил мимо ушей и ушел вместе с мальчиком. Когда они отошли подальше, Элиса сказала, печально и возвышенно, как об убитых на войне, или погибших в бурю, или о детях, которые умерли:
– Нет у них работы, нет и не будет. Здесь не любят чужих, особенно без гроша в кармане.
У меня защемило сердце, и два дня на душе было плохо. На третий я прибежала в кузницу и спросила Алькона:
– Почему кастрюльщикам не дают заказов? Элиса говорит, они работают очень хорошо.
Алькон сплюнул и засверкал глазами:
– И птенцы туда же! Видят не дальше воробьиного носа, ну и молчали бы!
– А ты скажи почему, и я буду знать!
– Потому что они цыгане, я тебе уже говорил, проклятые богом, бродяги, воры, убийцы! И не жить здесь их чертову отродью, у нас святая Мария Магдалина и святой Рох заступники! Никто им ничего не даст. И вот увидишь, помяни мое слово, выкинут они какую-нибудь пакость, мы сами их вышвырнем…
– Может, еще и не выкинут… – сказала я.
Я вспомнила мальчика по имени Карамелька, вспомнила его спину, которая прямо светилась сквозь рубашку, – косточки, как в крыле ощипанной курицы, все наперечет, – и мне стало жалко его.
– Выкинут, выкинут, несмышленыш ты…
Лудильщиков я встретила на улице Дуэньяс, они били камешками о жестянки и кричали в утренний золотой туман:
– Кастрюли паять!
Потом, в полдень, появились в лавочке и попросили в долг оливкового масла.
– В долг не отпускаем, – ответили им.
Они молча пошли к фонтану, где в тот раз ели маслины с хлебом, попили воды и побрели по улице Осарио. И снова кричали:
– Кастрюли, сковородки починять!
У меня стало горько во рту, я сказала Элисе:
– Найди все старые кастрюли, отдай им, пусть чинят!
– Девочка, они все уже починили, и старое и не старое. Что же я еще могу?
Ничего. Никто ничего не мог сделать. Я и сама видела. В воскресенье после обеда я толкалась у повозок бродячих торговцев. (Шелковые ленты, игрушечные часы, кольца с раскрашенными портретами солдат, белые кружева, коричневые бархатные штаны, голубые гребенки, булавки с разноцветными головками.) С дороги послышался шум, я вышла поглядеть…
Две женщины и целая банда мальчишек гнались, голося и улюлюкая, за лудильщиками. Не знаю, может быть, солнце к вечеру так светило, но мне представилось, что по дороге несется туча злой синей пыли и мечет черные злые перья, злые камни и злые слова в спину, в ту самую спину, с косточками, как у ощипанной курицы.
– Чума, чума, а не люди! Украли мою Чернушку! Вот этот, этот маленький, паршивец, мою Чернушку! Спрятал под рубашку, Чернушку мою!
Замученная Чернушка, вытаращив глаза цвета спелой ржи, кудахтала под передником Бальтасары. Ребята на бегу подбирали камни. У одного – его звали Буке, – когда попадался камень потяжелее, даже слюни текли, так он был доволен.
Я побежала за ними, чтобы посмотреть на лудильщиков еще раз, напоследок. Они убегали мелкой, осторожной рысцой, прижимаясь к скале (точь-в-точь как я, когда хочу удрать незаметно). Мальчик два раза оглянулся, и я снова увидела его глаза – две черные бусинки. Добравшись до поворота, они припустили во всю мочь. Карамело бежал, вскинув руки над головой, дрожа всеми своими косточками, как птенец, прихваченный морозом.
Перевод Л. Архиповой

Их было пятеро, от силы – шестеро, но когда они, все вместе, шли по дороге, нам казалось, что их пятнадцать или даже двадцать. Они являлись почти всегда в жаркие часы сьесты, когда солнце косо светило на гравий разбитой дороги, давно забытой и легковыми машинами, и грузовиками, да и всякими иными колесами. Являлись табуном, сбивая пыль пятками, точно копытами. Мы видели, как они приближаются в туче пыли, и у нас колотилось сердце. Кто-нибудь говорил: «Лагерные идут…» И мы бросались прятаться, иногда кидали в них камнями, чаще – убегали совсем.
Мы боялись этих лагерных, как дьявола. Они и были дьяволом, одним из множества его воплощений, так мы считали. Лагерные – оборванные, испорченные, с черными маленькими глазками в булавочную головку. Лагерные – с босыми грязными ногами, они бросали камни дальше и точнее, чем мы, и камни эти били резче и больней, чем наши. Лагерные – они разговаривали между собой странным, каким-то рваным языком: слова – как удары кнутом, а смех – как шлепок грязью. Дома нам раз и навсегда запретили водить с ними знакомство. То есть ни под каким видом не выходить за ограду луга. (А этого хотелось больше всего на свете, – перепрыгнуть через каменную стену, и вот она река, зеленая и золотая, убегает куда-то в тростнике и тополях.) На том берегу, чуть подальше, лежала заброшенная дорога, по которой являлись эти, – не такие как мы, – лагерные.
Они жили возле лагеря заключенных. Это были их дети. Вместе со своими матерями они устроили у самых скал что-то вроде пещер и хижин, – у них не хватило бы денег снять домик в деревне, да и кто бы пустил их к себе? «Лагерная шпана, воры, убийцы…» – так говорили о них вокруг. И они поселились у скал. Их матери бросили дом и приехали сюда, чтобы быть рядом с мужьями и кормить на их заработок семью.
Лагерные были ужасом нашей жизни. Они умели очень обидно обругать, забросать камнями, они ломали наши города из речных камешков, ломали и наши игрушки, если те попадали им в руки. Они были существами иной, немыслимой породы, вроде полуобезьян-получертей. Стоило им показаться, и нас начинало трясти, хотя мы старались не показывать виду.
Старший сын управляющего, мальчик лет тринадцати, учился в городе. В то лето он приехал домой на каникулы и с первого дня стал у нас заводилой. Его звали Эфрен, он был высокий, плотный и с такими красными, тяжелыми, как дубина, кулаками, что мы сразу же прониклись к нему уважением. Он был сильней и старше нас, он был смельчак, хвастун и враль отчаянный, поэтому мы смотрели ему в рот и ходили за ним по пятам.
Вскоре после его появления, при виде ребят из «лагерной деревни», которые явились, как всегда, табуном и в туче пыли, мы, тоже как всегда, бросились бежать, перепрыгнули через ограду и затаились. Эфрен удивился.
– Ну и трусы, – сказал он. – Маленьких испугались!
Мы никак не могли втолковать ему, что это ведь лагерные, воплощение дьявола…
– Глупости, – сказал Эфрен и улыбнулся как-то особенно, так, что мы пришли в восхищение.
На следующий день, в час сьесты, Эфрен спрятался в тростнике на том берегу реки, а мы залегли на лугу, у ограды. Душа замирала, казалось, сейчас произойдет что-то очень страшное. (Помню, я закусила цепочку от медальона, и во рту от нее странно холодило. Было слышно, как в траве трещали цикады.) Мы лежали, прильнув трепещущим сердцем к земле.
Лагерные обшарили берег: обычно мы здесь охотились на лягушек. И чтобы вызвать нас, стали свистеть и смеяться над нами, как всегда непонятно и обидно. Это была их игра: вызывать, зная, что мы не выйдем. Наконец им надоело, и они полезли по насыпи назад, к дороге. Мы ждали, как поступит Эфрен.
Мой старший брат приподнялся и приник к щели между камнями, мы сделали то же самое. И увидели, как Эфрен, извиваясь змеей, ползет в тростнике. Незаметно он подобрался к насыпи, как раз в тот момент, когда по ней поднимался последний из лагерных, и Эфрен прыгнул на него.
От неожиданности тот не сопротивлялся. Его товарищи схватили камни и что-то закричали. У меня коленки заходили ходуном, и я еще крепче закусила цепочку. Но Эфрен не испугался. Он был старше и сильнее этого чумазого получерта-полуобезьяны, он вцепился в него и потащил к лугу, где мы прятались. Камни, брошенные с дороги, шлепались вокруг них в реку, обдавая обоих брызгами. Пленник яростно вырывался из рук Эфрена, но тот ловко перебежал мостик и, волоча добычу, уже ступил на наш луг. Видя, что товарища теперь не выручить, лагерные разбежались, как кролики, по своим хижинам и пещерам.
При мысли, что одно из этих чудовищ здесь, рядом с нами, мои братья и я затряслись от ужаса. Мы прижались спиной к каменной стене, в горле у нас пересохло.
Эфрен проволок пленника перед нами. Тот старался вывернуться, даже укусить врага за ногу, но Эфрен поднял свой большой красный кулак и стал бить его по лицу, по голове, по спине. Солнце густым жарким золотом заливало землю и траву. Было очень тихо. Слышалось только, как глухо падает кулак, как задыхается под ударами пленник, как мягко, свежо, беспечально убегает куда-то река за нашими спинами. Цикады замерли. Замерли все голоса.
Эфрен бил долго своим большим кулаком. Пленник понемногу слабел. Наконец он упал на колени, упершись руками в траву. Смуглый, цвета сухой глины, с длинными светлыми волосами, а в них – черные, словно сгоревшие на солнце, пряди. Он молчал и все стоял на коленях. Потом повалился в траву, но не опускал головы, чтобы уж не сдаваться совсем. Мой старший брат осторожно подошел к нему, мы – за ним.
Подумать только: он был такой маленький и такой тощий… «На дороге они казались выше ростом», – пришло мне в голову. Эфрен возвышался над ним, расставив ноги-дубины в толстых лосиных башмаках. И каким огромным, каким здоровым представлялся он в этот момент!
– Ну что, мало? – спросил Эфрен тихо, с этой своей ухмылкой. Его крепкие, белые зубы блеснули на солнце. – Вот тебе еще…
И пнул побежденного ботинком в спину. Мой брат отшатнулся и отдавил мне ногу. Я не могла двинуться с места, стояла как вкопанная. Избитый поднес руку к носу. У него текла кровь, не знаю, изо рта или еще откуда-то…
Эфрен оглядел нас.
– Пошли, – сказал он, – с него хватит.
И пнул ногой еще раз.
– Вон отсюда, свинья, убирайся!
Эфрен повернулся и направился к дому, большой, грузный. Он не сомневался, что мы идем следом.
Мои братья, словно нехотя, двинулись покорно за ним. А я не могла. Не могла. Что-то со мной случилось. Лагерный еще стоял на четвереньках, пытался встать, кашлял, но не плакал. Глаза у него затекли, нос распух и странно подергивался. Он был в крови, кровь текла по подбородку, капала на лохмотья, на траву. Вдруг он взглянул на меня. Я увидела его глаза, круглые большие зрачки, не черные, а похожие на светлый топаз, в них словно нырнуло солнце и засветилось прозрачным золотом. И я опустила свои: мне стало стыдно и больно.
Он с трудом поднялся. Наверное, волоча его сюда, Эфрен повредил ему ногу, – уходя, он хромал. Я не осмелилась посмотреть ему вслед – на спину, сквозившую в прорехах. Мне хотелось плакать, не знаю толком почему. И я повторяла себе без конца: «Это же мальчишка. Мальчишка, и все. Просто мальчишка, такой же, как другие».
Перевод Л. Архиповой









