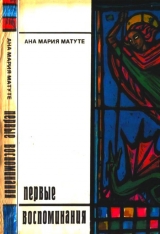
Текст книги "Первые воспоминания. Рассказы"
Автор книги: Ана Матуте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Я уходила, совсем уходила, когда он окликнул меня.
– Ты не поняла! – сказал он. – Не уходи.
Он так устало глядел на меня, что я подумала: «И этот меня старше, и старше нас всех, но не в том смысле, что Гьем». (Хоть Китаец и говорил, что ему едва исполнилось шестнадцать.) Я знала, что он учился в монастырской школе, и что-то монашеское осталось в нем – в глазах, в манере говорить.
Мы оба подняли головы. Один из бабушкиных голубей летел над откосом, едва касаясь воздушной крыши. Тень прошла по земле и затрепетала, как синяя падающая звезда.
– Если бы бабушка видела! Я часто убегаю в это время… особенно, если Борха в роще. Они, свиньи, меня не берут.
Я говорила сердито про рощу, словно холодный ключ прорвался из земли (или Маурисия вскрыла мне нарыв на пальце, и жар спадал, мне становилось лучше). Я говорила, заправляя блузку, застегивая сандалии, а он стоял и молчал. Когда я кончила, мне показалось, что он не смеет ни уйти, ни остаться. Я снова загрустила: «Не хочет со мной дружить… Бабушки боится. Думает, она рассердится. А может…» Но я сама не решалась думать, я только хотела, чтобы меня несла блаженная река, из которой, наверное, мне уже не выплыть.
– Не задерживайся из-за меня, – сказала я. – Я пойду с тобой.
И потянулась к кувшину. Мануэль не дал мне его взять и молча пошел впереди. Я следовала за ним, и мне казалось, что он не решается обернуться и посмотреть, иду ли я. Спускаясь по откосу, я глядела ему в спину. Он был в белой, запачканной землей рубашке и синих штанах. Ноги в сандалиях были коричневые, матовые от пыли.
Его дом стоял внизу, недалеко от моря. Там росли несколько олив, а правее – с полдюжины миндальных деревьев. Калитка, выцветшая от ветра и солнца, всегда стояла распахнутой (не то что у нас – все заперто, все скрыто, как будто мы ревниво бережем свой мрак). Тут, у Мануэля, солнце свободно, но невесело проникало во все щели. И дом, и деревья, и земля принадлежали когда-то Сон Махору. Говорили, что Малене и Хорхе жили как муж с женой. Во всяком случае, так говорил мой брат. Сейчас мне стало почему-то неприятно, что я об этом знаю. Участок Таронхи ворвался на бабушкину землю. Кажется, бабушка тоже не любила их, но она хотя бы о них никогда не вспоминала. Скорей всего, она просто презирала их. Она всегда презирала такое, как у Малене с Сон Махором. Теперь Хосе Таронхи умер, а у его сына, прежде не копавшего землю, обгорел затылок, потому что он погрузился в пламя земли и весь пропитался тем, что строго скрывали от меня. Я вспомнила, как испугался Борха, когда Мануэль уплыл на лодке. А мне, совсем его не знавшей (неужели я его не знала?), почему-то захотелось рассказать ему то, чего не услышали бы от меня ни Борха, ни Хуан Антонио. Быть может, я хотела сказать одно: «Я ничего не понимаю, что творится в жизни, и в мире, и вокруг меня. От птиц до земли, от неба до моря я ничего не понимаю». Все здесь грозили мне – и бабушка, и даже Китаец. «Не знаю, жесток ли мир, но понять его трудно». Глядя на спину Мануэля и на его огненные волосы, я думала: «Понял бы он про Горого?» Какой он странный, этот бедный мальчик, отверженный, чуэта[8]8
Чуэта – так на Мальорке называли крещеных евреев. Позже стало бранным словом.
[Закрыть], у которого отца убили, а мать все презирают! Почему он так важен для меня? Почему вообще так бывает?
Подойдя к калитке, он обернулся и взглянул на меня. Я увидела, как отчаянно блестят его глаза, и остановилась, не смея войти в их сад. Мне показалось, что он думает: «Стой, маленькая истеричка, здесь я хозяин, здесь мое царство. Иди к себе, к злой старухе, к ханжам и тайным порокам. Иди в свой сырой и темный дом, где даже крысы, как грешные души, не находят покоя, и где сверкает золотом сервиз, подарок короля. Иди, иди, тут мой дом, и тебе его не понять, смешная и глупая девчонка». Я стояла очень тихо, и Горого тихо сидел за пазухой, у самого сердца. «Глупая, испорченная девчонка, иди, кури, пей, склоняй латинские слова, спрягай французские глаголы, учись изящно двигаться из-под палки. Иди, и пусть тебя выдадут за жирного, гнилого богача или за зверя с бичом, как твой дядя Альваро». Голуби летели в Сон Махор над нашими головами, словно темные, быстрые хлопья, а тени их осенними листьями неслись у наших ног. Мне стало страшно, как в то утро, у смоковницы, когда гордый петух гневно глядел на меня.
И тогда Мануэль сказал:
– Ты меня подождешь?
Он уже исчез за стеной, а я – и впрямь истеричка, дура! – все кивала, словно Горого: «Подожду, подожду».
V
– Сперва я жила у папы с мамой, – сказала я, растянувшись на траве, под миндальными деревьями. – Что-то я помню… только я была очень маленькая. Говорят, бабушка не терпела папу. Папа и мама долго жили вместе, а потом, наверное, разошлись…
– Какая беда, – сказал Мануэль.
Он тоже лежал ничком, рядом со мной. Иногда мы решались взглянуть друг на друга. Я говорила тихо, а когда я к нему поворачивалась, его глаза были совсем близко. Мое сердце билось о землю, и мне казалось, что я слышу, как стучит сердце у Мануэля.
– Разве это беда? Я не помню ничего… почти не помню. Меня отвезли в Мадрид, в школу на Лебединой улице… Она называлась по-французски: «Сэн Мор». Когда я приезжала летом домой, родителей не было. Ни разу – ни папы, ни мамы. А мне что… У меня был вот он.
И вдруг – никогда бы не поверила! – Горого оказался у Мануэля. Темными руками в царапинах и свежих мозолях (не привык к лопате) держал Мануэль моего трубочиста. Крутил, разглядывал, не понимал, наверное, и молча, серьезно слушал меня, а глаза его блестели в тени ветвей. Внизу, за нами, величаво вздыхало море. За нами вставал зелено-желтый свет и падал на землю. Прорезая косую тень деревьев, лучи скользили по нашим спинам. Все было похоже на долгий, глубокий сон, который приходит раз в жизни. Зеленое сверкание омывало нас, а наверху, в небе, подстерегало яростное, красное золото огромного солнца. Мы знали, что солнцу с нами не сладить, пока мы лежим рядом, не смея взглянуть друг на друга. Искоса – именно так, как бабушка мне запрещала, – я смотрела на янтарное ухо, покрытое пушком. Мне хотелось пододвинуться ближе и, словно это раковина, послушать шум волн. Потому я так много говорила – тихо, как будто про себя или для Горого:
– А потом она умерла. Я почти ничего не помню. Маурисия – это папина няня – стряпала мне и рассказывала сказки. Она была очень старая. А когда она умерла…
Я говорила «он», «она», и Мануэль ни разу, ни разу не спросил – «Кто?». Он ничего не спрашивал, не выпытывал, только молча слушал и лежал ничком (как потерявшийся зверек, как я сама).
– Когда она умерла, отец отослал нас с Маурисией в деревню. Только не в такую, как тут!
Мануэль тихо сказал, не глядя на меня:
– Тебе там было хорошо?
– Да.
Мне было так хорошо! (Я замолчала, я вспомнила лес, речку, и у меня перехватило горло. И Андерсена, и Алису, и Гулливера, и Пятнадцатилетнего капитана, и маленькие ручьи, которые я делала для гномов прутиком в мокрой земле. И желтые, похожие на солнце, цветы, которые я втыкала в замочные скважины, и крики ворон, отдававшиеся в пещерах, и голос Маурисии: «Я вороненок, малый ребенок, нет у меня ни хлеба, ни жилья». «Матия, от папы посылка!»)
– У меня был кукольный театр, – сказала я.
Мануэль поднял голову.
– Ой, и у меня! Он мне прислал.
Я посмотрела на него. Он сильно побледнел и заговорил быстро:
– И книжки присылал. Я очень любил читать. Все больше про путешествия. Он столько плавал! Всю жизнь провел на корабле. Видел острова…
Мануэль поднял руку и прочертил в воздухе какой-то неведомый путь. Я смотрела, кровь била в виски, на языке вертелись слова: «Нет, не надо, не говори мне про это, про женщин и мужчин, я не хочу знать ничего про тот, непонятный мир. Не надо, не надо, я еще немножко поживу без этого». Но с ним сейчас случилось то же самое, что со мной, – как будто вскрыли нарыв. Я видела его профиль в зеленом сиянии листвы. Словно маленькие зверьки, мы понемногу сползали по каменистому откосу. Я только сейчас заметила, что мы сползаем вниз. Какая-то угроза притаилась сзади. А Мануэль говорил:
– Он присылал мне посылки из всех путешествий…
И – резко, словно у него кончилось дыхание:
– Он это любил… Он говорил, я буду такой же. А я боялся и часто думал, не остаться ли лучше с монахами.
Его рука поднялась и легла на мою. Он прижал ее к земле, словно хотел удержать меня, чтобы я не сползла туда, к страшной угрозе, в синий, вязкий омут, который мерещился мне еще на площади, словно всем весом своей ладони, моего уходящего детства, нашей доброты и невинности он хотел навсегда вдавить эти две руки в чистую, древнюю, мудрую землю.
– Правда? – тоненьким голоском спросила я, так тихо, что он, кажется, не услышал.
– Я ведь был не такой, как они! Сперва я не понимал. Жил у монахов. Наш настоятель – его двоюродный брат – меня любил. А я приезжал сюда только на зимние каникулы…
Мануэль задумался.
– Потом она мне все сказала. Я ведь не совсем такой, как другие, не так хорошо понимаю… Даже там, в монастыре, я знал меньше всех. Она мне сказала: «Сынок, ты слишком хороший, а тебе уже пятнадцать». А я подумал, что я гораздо старше.
Он уткнулся лицом в ладони, я положила руку ему на голову. Волосы у него были теплые и мягкие. Он не двинулся, пока я не убрала руку; тогда он взглянул на меня:
– В тот день я отказался от всех его подарков. Я понял, что должен быть с ними, с мамой, с Марией и Томеу… а главное, с ним, с Таронхи. Последние слова он сказал очень быстро, на одном дыхании. – Рядом с ним. Ведь его ела злоба, и все над ним издевались, никто с ним не дружил. «Мануэль, – подумал я, – вот твой дом, твой отец». Семью не выбирают…
Что-то давило мне грудь (бедный Горого, ненастоящий трубочист!). Мануэль продолжал:
– Я понял, что брат и сестра живут совсем не так, как я, и никто не хочет помочь им… и с ней никто в селении не знается. А Хосе говорил такое… он прямо сгорал от злобы! Он ведь ее любил и очень мучился из-за прошлого и из-за нынешнего тоже. Я даже думал, он и меня ненавидит. И вот я решил: «Надо сделать, чтобы он меня полюбил. И самому его полюбить когда-нибудь».
Мне было страшно все это слушать. Я никогда такого не слышала. Меня испугала не тайна его жизни (грязная тайна мужчин и женщин, в которой он не повинен), а то, как он видел неведомый мир, страшный мир, угрожавший нам с Борхой, из которого отчаянно пытался вырваться Китаец. Мир, на который намекали Гьем и Марине, мир, принадлежавший, по-видимому, таким, как Сон Махор. Сколько я ни старалась, я не совсем поняла то, что говорил Мануэль.
– И ты… остался с ними?
– Да, остался.
Бабушкины голуби летели обратно. Они садились на дерево и мелькали над нашей головой голубыми и зеленоватыми тенями, странно постанывая. Что-то дрожало в воздухе, словно крохотные капли стекла.
– Теперь ты по ту сторону, – сказала я. – По ту сторону стены, понимаешь? Не там, где братья Таронхи, алькальд, ну, все… И бабушка, наверное.
– Я знаю, – сказал он.
– И не страшно тебе?
Он ответил не сразу:
– Бывает страшно. Нет, скорей очень тяжело.
Он сказал «тяжело», и душная тяжесть медленно поползла по откосу. Мануэль взял с земли орех и положил снова; орех был пустой. Черное нутро зияло, словно злая пасть. Если бы мне не было четырнадцать, я бы заплакала. Я чувствовала его беду, как свою, и будто каялась в чем-то: «Вот почему он не такой, как Гьем и Борха. Поэтому он не наш. А может, наш, может – он с нами со всеми? „Он слишком хороший…“ Правда – хороший? А я – плохая? Борха и Гьем – плохие? Как все запутано! И Хорхе Сон Махор там, за стенами, выращивает цветы, боится старости».
– Мануэль, – сказала я. – Ты слишком…
Я не знала, как это назвать. Меня даже злило немножко, что я вижу его и слушаю. Мне хотелось приобщить его к нашим радостям – к лодке, к кафе, хотелось, чтобы он пошел с ребятами в рощу. Но что у него со всем этим общего? Что общего у него со всеми на свете людьми? Я смотрела на его израненные, непривычные к работе пальцы.
– Ты не думай… – сказал он. – Мое место было с ними, с озлобленными, с несчастными. Когда это все началось, я уже решил остаться. А теперь, ты же знаешь, его убили.
Из-под камня выскользнула крошечная зеленая ящерица. Мы с Мануэлем тихо смотрели друг на друга. Наши глаза были у самой земли, и ящерица из травы глядела на нас острыми, страшными глазками. Она была чем-то похожа на дракона, которого там, на витраже, убивал святой Георгий. «Мануэль с ними, – думала я, – со всей этой гадостью мужчин и женщин». А я росла и вот-вот должна была стать взрослой. Или, может, уже стала. Несмотря на жару, руки у меня зябли. «Нет, пусть еще подождут… еще немножко». Кто должен подождать? Только я сама предаю себя каждую секунду. Я одна предаю Горого и Алису в Зазеркалье. «Какое же я сейчас чудище», – подумала я и закрыла глаза, чтобы не видеть огромных и крохотных глаз притаившегося дракона. «Какое я чудище, если я и не девочка и никакая не женщина!»
Чтобы мне стало хоть немного легче, я сказала:
– А он тебя не зовет? Не хочет про тебя знать? Наверное, думает, ты его предал.
– Нет, звал два раза. Знаешь такого, с гитарой, который у него живет? Раньше они вместе ходили на «Дельфине». Теперь он старый, а поет, и ему эти песни очень нравятся. Зовут его Санамо. У него всегда за ухом красная роза. Он говорит, что Санамо – его единственный друг. Так вот, Санамо приходил к нам, вон туда, за те деревья, когда я собирал с моими миндаль. Он меня звал в Сон Махор.
(Я представила себе в раю, за деревьями, дьявола с темной розой у виска.)
– А я ответил: «Не могу, так ему и скажи. Мне надо помогать маме и младшим. Я бы хотел, большое ему спасибо. И еще скажи, что я его очень люблю, но пока они живы, к нему не вернусь».
Когда Мануэль говорил «очень люблю», голос его дрогнул и был такой горячий, звучал так близко, что я встрепенулась от зависти.
Мне захотелось стать очень плохой, жестокой. Я не знала, что ответить на эти слова, так больно задевшие меня. В голове вертелись глупости: «А я очень люблю Горого, я очень люблю стеклянный шарик, я очень, очень, очень…» Мне было тяжело. Как можно так страдать в четырнадцать лет? Меня терзала нерастраченная боль.
Вдруг я вскочила, опершись ладонями о землю – в них вонзились камешки. Ящерица испугалась и исчезла. Мануэль глядел на меня снизу, удивленно приоткрыв рот. Было так, словно кто-то разорвал завесу, за которой мы прятались. И я сказала:
– Идем туда. Давай, пошли!
– Куда?
– В Сон Махор.
– Что ты!
Он поднялся. Мы еще никогда не стояли так близко друг от друга. Я заметила, что он выше меня. «Может, он считает, что я старше. Ну, хоть – что мне пятнадцать!»
– Пошли, глупость какая!
И тут я впервые поняла, что он пойдет, куда я захочу.
Я уверенно двинулась вперед. Не слыша его шагов, я знала, что он идет за мной и всегда будет идти. (Как горько мне было потом! Как горько было когда-то, в давно ушедшую пору.)
Костры
I
Виноград поспел к середине сентября. Жена алькальда прислала бабушке первые гроздья на глиняном блюде в желтых и синих цветах, закрытом вышитой салфеткой. Бабушка взяла двумя пальцами прозрачную прекрасную гроздь, и особенно мутным и уродливым показался бриллиант на ее руке. Она отщипнула ягодку, пососала и выплюнула кожицу в ладонь.
– Кислый, – промолвила она. – Так я и знала.
Виноград – весь в алмазных каплях – остался на блюде.
Борха, хитро поглядывавший на меня еще с утра, сказал:
– В Сон Махоре, наверное, сладкий.
Говорил он это мне, хотя смотрел на бабушку. Потом аккуратно вымыл кончики пальцев и вытер их салфеткой. Он был похож на малолетнего Пилата.
– Подай кофе, Антония, – приказала бабушка.
Она никогда не вступала в беседы о Сон Махоре. (Как-то я спросила Китайца: «Почему она поругалась со святым Георгием?» – «Не кощунствуйте, сеньорита Матия», – ответил он. Но понял меня прекрасно и сказал чуть позже: «А почему вообще ругаются и знатные и простые?» И как-то непристойно потер указательным пальцем о большой.)
– Можно нам уйти, бабушка? – спросил Борха. – Мы бы с удовольствием прогулялись перед уроками…
Бабушка пытливо взглянула на меня, я покраснела. «Он что-то хочет мне сказать».
– Занимайся, – сказала мне бабушка. – Отец Майоль подыскивает для тебя школу. После всего, что ты натворила, надеюсь, ты подумаешь прежде, чем снова нарушать свой долг.
Потом перевела взгляд на Борху:
– И ты будешь учиться. Война затягивается дольше, чем мы думали, и мы тебе тоже подыщем школу.
Она помолчала.
– Ничто не должно нарушать уклад нашей жизни. Война – ужасное несчастье.
«Война? – подумала я. – Какая? Вот это гнилое молчание, жуткое молчание мертвых?»
– Я ненавижу войну, – продолжала бабушка. – Мы должны, по мере сил, жить так, словно ее нет.
– Когда мы пойдем в школу? – спросил Борха с такой улыбкой, как будто эта мрачная весть преисполняла его сладчайшими надеждами.
– После рождества, – сказала бабушка. – Раньше нельзя. Вам надо как следует подготовиться, чтобы мне снова не терпеть позора.
Она многозначительно взглянула на Китайца, а он склонил голову. В сущности, она его выгоняла. Что ему делать тут, если мы пойдем в школу? Мне показалось, что у Антонии, разливавшей кофе, задрожали пальцы.
Мы поцеловали бабушке руку, клюнули в щеку тетю и ушли. Побежали каждый к себе, сняли поскорей неудобную одежду, надели уродливую, но удобную и вышли снова.
Борха ждал меня на откосе. Он сидел под миндальным деревом и то открывал, то закрывал Гьемов ножик. Волосы падали ему на лоб.
– Мерзавка, соплячка лицемерная, – сказал он.
Я улыбнулась, изображая гордость, и пошла вниз, к причалам, где нас ждала «Леонтина». Он шел сзади. Я слышала, как он перепрыгнул через стену, точно лань.
– Дура! – продолжал он. – Предательница!
Он и впрямь лопался от злости. Внизу мы остановились. Оба мы запыхались и дышали с трудом.
– Выгоним тебя из нашей компании. Пошла вон! Мы предателей не держим.
Я пожала плечами, хотя колени у меня дрожали.
– Очень вы мне нужны, – сказала я. – У меня свои друзья найдутся.
– Ну и друзья. Все бабушка узнает.
– Уж не ты ли скажешь?
– Нет, не я.
– Ну, что ж…
Я начала понимать своего брата. Чтобы вывести его из себя, надо было притворяться равнодушной. Может, он так ненавидел Мануэля именно потому, что тот не обращал на него совершенно никакого внимания? Может, за то же самое он пылко и тайно поклонялся дону Хорхе?
Брат схватил меня за руку так крепко, что чуть ее не оторвал.
– Ничего ты не понимаешь, – сказал он, и голос его стал мягким, как там, ночью, на веранде. (Мне вдруг показалось, что с тех тайных перекуров прошло ужасно много времени.) – Я же для тебя стараюсь. Ты что, не знаешь, кто он? С ним никто не разговаривает. Его мать… да и отец, сама видела, как он кончил.
Стояла середина сентября, золотые листья лежали на влажной земле откоса. Как и тогда (и совсем не так) шли часы сьесты.
– Сам ты ничего не понимаешь! – сказала я. – Хосе ему не отец.
Я захохотала и пошла по краю пристани. Взглянув через плечо, я увидела, что Борха идет за мной, и услышала, как тяжело он дышит.
– Ты что говоришь, гадюка?
Я обернулась. Мне стало очень весело.
– Не может быть, – твердил он, боясь услышать имя, которое я не назвала. – Это все сплетни. Он – Таронхи поганый, сын этого…
Борха выругался – я еще ни разу не слышала от него таких слов, – покраснел, и мне стало его жалко. «Хуже обидеть я его не могла». Он сел на камень, словно ноги у него подкосились, и он не хотел, чтоб я это заметила.
– Не может быть, – белыми губами повторил он.
У наших ног шумело море. За деревьями, слева, белел домик Малене и Мануэля.
– А… а вы правда туда ходите?
Я злорадно кивнула, чтобы насладиться его горем. (На самом деле мы там еще не были. Я не решалась. Сама сердилась на себя – и трусила. Когда я сказала впервые: «Идем», – Мануэль пошел за мной против воли. Мы карабкались по тропинке. За селением, у самого леса, было поместье Сон Махор. Высокие стены сверкали в предвечернем солнце, из-за них торчали растрепанные, сероватые пальмы. С тех пор как Мануэль сказал мне правду, я боялась туда идти. Мы стояли совсем рядом и смотрели сквозь зеленую решетку на цветы, черно-красные, как роза, которую Санамо затыкал за ухо. Один раз мы услышали его гитару. Тихо, словно воры, мы крались вдоль белой стены поместья – словно бродячие псы, беспокойные тени. Звуки музыки проникали сквозь стену, и мы слушали, затаив дыхание. Что-то шуршало в знойном воздухе, а голосов не было, только гитара, солнце и ветер. Как-то раз, уже в сентябре, мы стояли у стены, смотрели друг на друга, будто впервые, и я вспомнила слова: «Скажи, что я его очень люблю». Ветер шумел у пристани; Мануэль сказал: «Тут ветер дикий, безумный. Я всегда его слышал, когда ходил в поместье на рождество». То же самое – «дикий, безумный» – сказал Китаец о Сон Махоре, когда Борха хвастался: «Все говорят, мы с ним похожи». И хотя он бросал невзначай, чтобы припугнуть компанию Гьема: «Мой отец кого угодно расстреляет» или «Он всех до одного велел перевешать», – походить он мечтал не на отца, а на дона Хорхе, который плавал на «Дельфине» к греческим островам. «И человек и ветер – дики и безумны».)
– Значит, ходите к нему в поместье… Значит, это не Гьем выдумал…
Я все кивала, хотя моя стойкость была на исходе.
– А его… видели?
Я не ответила – трудно столько врать. Мне было жалко Борху, хоть я и не понимала, почему ему и всем им так важен человек, с которым почти никто не знаком.
Борха оскалился – сверкнули его клыки – и крикнул:
– Пошла отсюда! Задавала! Видеть тебя не хочу.
Из-за деревьев послышался голос Лауро («Ой, опять эта латынь!»), и я сказала, чтобы добить Борху:
– Мануэлю латынь – раз плюнуть. Он ее знает лучше отца Майоля. Мы с тобой перед ним – тьфу!
Домой мы шли молча. Китаец тихо ждал, скрестив на животе руки, и глаза его были скрыты за стеклами очков.
Вечером пришли Хуан Антонио и сыновья управляющего и стали высвистывать нас из сада, из-за вишен.
– Эй, Борха, ихняя шайка хочет затеять драку!
Дни перемирия давно прошли. Небо обложили большие красноватые тучи. Борха спрыгнул с гамака и пытливо на меня посмотрел.
– С кем ты идешь?
– С тобой.
Он улыбнулся и пожал плечами. Потом швырнул на землю книгу и сказал:
– Нечего тебе там делать.
Подошел встревоженный Китаец.
– Идем, – сказал Борха, – идем, Китайчик.
Он был на взводе и смеялся по-своему, кривя рот. Китаец побагровел.
Ребята ждали у калитки. Хуан Антонио, весь в поту, затараторил:
– Они на площади! Костры разложили, звенят крючьями… Ну, мы им покажем!
– А твой дружок? – спросил меня Борха почти на ухо. – Он с кем – с нами или с ними?
Китаец смотрел на нас. Зеленые отблески очков падали ему на щеки.
– Сеньорита Матия, – сказал он. – Останьтесь, умоляю вас… не ходите.
– Пойду, – сказала я ему назло. – Я всегда хожу.
– Ну, Китайчик, ну, красавчик, пошли со мной! – Борха нехорошо хихикнул.
Китаец отломал веточку вишни. Руки у него дрожали.
– Я не могу, сеньорито Борха… Ваша бабушка…
– А ну ее к бесу! Пошли. Недолго тебе с нами гулять – слышал, после рождества выставят.
Мне показалось, что это уж слишком. Но Борха очень страдал из-за моих слов и сам не знал, что говорит. Китаец промолчал, но синяя вена у него на лбу вздулась, словно весенняя река. В первый раз мне пришло в голову, что и он страшен в гневе, что и его злоба может прорваться в один прекрасный день. Я протянула ему руку:
– Ну ради меня, – сказала я и скорчила гримасу. – Ради меня, любезный сеньор…
Лауро-Китаец раздавил веточку, я услышала легкий треск. Ребята помчались к селению. Мы медленно пошли за ними.
– Доиграется он… – сказал Китаец. – Натворит такого, что уже не скроешь от сеньоры и от доньи Эмилии. Ох, сеньорита Матия, если бы вы могли на него повлиять! Безумный мальчик…
Голос у него дрожал, быть может – от гнева. Но сладость притворной кротости смягчала его.
II
«Стоило посмотреть, как загорались их тела, и огненные языки лизали их утробы, и плоть их сверкала дьявольским блеском…» – читала я в книге, которую Борха нашел у дедушки. В ней говорилось о том, как жгли евреев. Тут, на этой самой площади, много веков назад.
Сверкали первые звезды, зной сменился влажной прохладой, веющей из леса. В сумерках развалины становились зловещими, плиты площади казались черными, земля – горелой. Даже мох напоминал кровавую плесень колодца или кладбища.
Горели костры. Самый большой – в середине, другой – ближе к обрыву, третий – у самого леса. Черные, страшные дубы мрачно высились в начале склона, но пахло от них чем-то знакомым, как там, в моем краю.
Железные крюки, уже подернутые зеленью, покоились в тайных местах, в земле. Их было три: Гьема (самый большой и черный – для тяжелых туш), Тони и хромого (никто не знал, как он добыл его, и никто не мог отнять). Как только откапывали эти крюки, кончалось перемирие. С утра до вечера они дразнили Борху, Хуана Антонио, Карлоса, меня, Китайца. Жгли костры, а если мы не обращали на них внимания, сжигали соломенные чучела, изображавшие Борху и Хуана Антонио.
Крюки они отважно украли в мясницкой: сперва один, потом второй, потом третий. Хайме, мясник, поклялся убить того, кто украдет четвертый. Борха и Хуан Антонио спали и видели, как бы открыть их тайники. Я очень боялась этих крюков – быть может, потому что вспоминала овечью голову у дверей лавки. Детский глаз – синий, вздутый, налитый кровью, – глядел пристально, тупо и зло, словно он воплощал вражду Борхи и Гьема. Даже теперь мне жутко и противно, когда я иду мимо лавки мясника.
Костры победно горели в сумерках. Деревенские ребята подбрасывали в огонь валежник из леса. Завидев нашу компанию, они убежали с площади и остановились подальше, рядком, чтобы посмотреть на битву. Костры горели в синих сумерках, и казалось, что уже совсем поздно.
Из леса вышел черный – весь в саже – Гьем. Рукав фуфайки спускался у него до самых пальцев, а в руке он держал зловещий крюк. («Капитан пиратов сражался с Питером на обрывах острова „Никогда“». Борха, бездомный Питер Пен, как и я, «ребенок, который не хотел взрослеть и вернулся как-то вечером домой, а окно было закрыто». Еще никогда не казался он мне таким хрупким. «Он делал весной генеральную уборку, выметал прошлогодние листья из леса Пропавших Детей». А мы, пропавшие дети, слишком выросли для игр, но не так еще повзрослели, чтобы войти в мир, о котором не хотели – или хотели? – знать.)
– Иуда, Иуда, Иуда!
Китаец остановился у края площади и стоял, молча скрестив руки. Лицо у него подергивалось, редкие усы темнели у рта. И вдруг он показался мне совсем молодым. До той поры я не думала, что он – мальчик, чуть старше нас, и просто увяз в грязи взрослых, до плеч провалился в мир, в этот колодец, в который соскальзывали и мы.
– Иуда, Иуда!
Ветер нес к нам это имя, шевелил гриву костров. Красные отблески, словно круги на воде, дрожали на старых плитах площади, на треснутых столбах заброшенной часовни и на полуразрушенных домиках. Крысы, хорьки и ящерицы бегали в страхе по обветшалым лестницам, метались летучие мыши, сновали в щелях блестящие тараканы. Темные глаза замочных скважин глядели внутрь, но ниточки красного света стремились к нам и будили крохотных драконов, вроде того, который так пристально смотрел недавно на меня. Запах гари и крики мальчишек обращали ящериц в бегство.
Китаец весь дрожал; быть может – боялся за свою тайну, которую мне вдруг расхотелось узнать. Мне показалось, что с тех пор как меня выгнали из школы, я падаю, как Алиса, в колодец, но это – колодец жизни, и по пути подстерегают жуки, ящерицы, крысы и мокрые розовые черви, и надо крикнуть: «Я не хочу! Пожалуйста, спасите меня! Я сама не понимаю, куда иду, и не хочу больше ничего знать!» (Но я уже пересекла рубеж и оставила Кая с Гердой наверху, в их крохотном садике.) Я посмотрела на Китайца – он сидел совсем рядом – и в первый раз пожалела того, кто старше меня. Я чуть не дала ему руку, чуть не сказала: «Не обращай на них внимания, они просто глупые дети. Прости их, они не знают, что делают». Но я испугалась первого взрослого чувства, я застеснялась – и жалости, и этих слов.
– А ну, кто идет в лес? Кому охота прогуляться?
Гьем торжествовал. Наверное, они выпили. У всех у них губы были испачканы и рубахи навыпуск. Круглые, гордо поднятые головы поблескивали в темноте. Борха был один (прощай, Питер Пен, прощай, я больше не помогу тебе весной делать генеральную уборку, придется тебе самому выметать листья), он стоял тихо, золотой в свете огня, и глаза его сверкали, как у дяди Альваро («Кого хочет – расстреливает, и вообще он самый главный и пьет за короля»), губа приподнялась над людоедскими клыками (вылитая бабушка, когда она жестоко и бесстрастно пробует кислый виноград или выгоняет ненужного учителя). Сзади, за ним, жались злые, трусливые, ничтожные оруженосцы: Хуан Антонио (пойманный бесом); сыновья управляющего (привязанные насильно к гнусному внуку доньи Пракседес, зубрящие летом латынь, как внуки доньи Пракседес, благочестивые, как сама донья Пракседес). У входа на площадь, весь дрожа, сидел Китаец, словно охраняя мир, который с каждой секундой ускользал от нас.
Борха кинулся к лесу. Лауро в страхе побежал за ним:
– Борха, не надо! Борха, оставь карабин! Ты с ума сошел… тебя убьют… искалечат… бабушка…
Он забыл и «вы» и «сеньору» – все забыл.
Я тихо ждала. Трусливый Хуан Антонио бочком пробирался меж деревьев. Хромой подстерегал его, позвякивая крюком.
– Ерунда, – сказал Борха. – Ерунда.
На площади, потрескивая, догорали костры. Борха держал обгорелое соломенное чучело в мешковатом, как у него, свитере. Почему-то оно было и впрямь на него похоже. Борха вынул его из огня в последний момент. Да, они были похожи. Правой рукой Борха поднял чучело и победно им потрясал. Из левой руки, сквозь рукав, текла кровь – ярко-алая, даже какая-то оранжевая.
– Ерунда, – повторил он. – Ну, я им задал! Запомнят надолго. Вечно мне тыкали в нос, что у меня карабин, а сегодня я на них пошел с голыми руками.
Он сильно побледнел, но улыбался. Никогда еще брат мой не был так прекрасен, никогда у него так не сверкали глаза. Гьем ранил его крюком в руку, и теперь Китаец перевязывал рану платком. Рана была небольшая, но у Китайца весь лоб покрылся потом. Вокруг снова стояла вязкая тишина. Вопли, оглашавшие недавно площадь, казались далекими, как сон.
– Мы вошли в лес, – подробно описывал Борха, – и я, вон за теми деревьями, сразу предупредил: «Я без карабина». А он: «Ладно». Но крюка не бросил. Мы притаились. Я вижу, его волосы блестят среди листьев, и бросился туда… и тут он на меня кинулся. Он тяжелый, а дерется плохо. Меня-то отец научил драться. Ты ведь знаешь, Китаец? Ты-то знаешь, что я…








