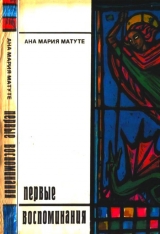
Текст книги "Первые воспоминания. Рассказы"
Автор книги: Ана Матуте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Висельной горкой называли холм на краю старой Мансильи, у древнего скита святой Екатерины.
Детьми мы часто лазили на Висельную горку. Говорят, в прежние времена там вешали осужденных. Мы искали кости, обломки черепов, но все впустую. Все камни, более или менее напоминавшие, а иногда и просто поражавшие сходством с астрагалом, берцовой костью или черепом (пусть даже черепом карлика или гнома), мы берегли как зеницу ока, спорили из-за них, выменивали, чтобы потом устроить у себя в парте несуразное, ни на что не похожее кладбище.
Дети не понимают смерти, но зачарованы страхом, который окутывает ее, как туман – тонкий и пронизывающий. Дети боятся мертвых, но все равно тянутся к ним. Жаркими летними вечерами дети пробираются в самый дальний угол кладбища и там, у церковной стены, роются в богатой и жуткой кладовой смерти. Дети убивают птиц, вешают собак, мучают кузнечиков, лягушек, летучих мышей – и все только затем, чтобы своими глазами увидеть, своими руками потрогать смерть. Это она поражает и завораживает их, это от нее они прячутся, укрываясь с головой, в ненастные ночи, когда воют волки и кричит сова, это ее вести они жадно ловят, слушая рассказы о происшествиях: пожаре, автомобильной катастрофе, о бродяге, замерзшем в канаве. И разве не они прибегают первыми, когда случается беда, и застывают с раскрытым ртом, не отрывая глаз?
С давних пор в канун андреева дня дети Мансильи сжигают на Висельной горке алькальда. Из старинной книги я узнала, как зародился этот обычай. Был будто бы в Мансилье алькальд, который отказался платить дань графу; он сговорился с крестьянами, вместе они подстерегли сборщиков подати и убили их. Год был неурожайный, а подати непомерно велики. Обычно графа встречали «медом, орехами, сыром и рыбным пирогом». И вот со всем этим спустя какое-то время и вышло ему навстречу все селение. Но граф решил отомстить своим подданным. Он быстро нашел виновников и велел казнить. Их отвели на Висельную горку, троих повесили, а алькальда посадили на кол. Потом его труп сожгли. Я вижу – вот он горит, а кругом валяются остатки снеди, приготовленной к пиру: куски податного пирога с рыбой, орехи, мед. Каким странным кажется мне это сейчас. А между тем дети никогда не пропускают этот день.
Они ходят за хворостом, потом собирают по домам «старье для костра», как в кавун Иванова дня. Я спросила их:
– Зачем это?
– На горку!
– А зачем?
– Алькальда сжигать.
С большим трудом добилась я того, чтобы мне объяснили. Объяснили то, что для них во всех отношениях важнее пелоты[12]12
Пелота – игра в мяч.
[Закрыть], рыбной ловли, даже важнее полдника, которым их кормят в этот день в муниципалитете. И вот что сказал мне Луис, черноглазый одиннадцатилетний мальчик, болезненный и не по годам рослый.
– Встанешь там, наверху, на горке, смотришь кругом и думаешь: отсюда на эти самые горы, на эту реку смотрел алькальд – в последний раз. А если бы это я?
Я удивилась этой мысли у одиннадцатилетнего мальчика. На другой день я пошла с ними: увидела ту самую реку, оцепенелое поле, отчетливый контур гор и небо – как натянутый ветром парус. Вспыхнул костер, и я подумала, вздрогнув; «А если бы это я?»
Перевод Н. Малиновской

Похороны ребенка всегда драматичны. Но в этих селениях, затерянных среди гор, дубовых и буковых лесов, похороны ребенка напоминают древний мистический обряд. Я бы даже сказала, что здесь в похоронах ребенка воплощается целая религия, замкнутый и завершенный строй мыслей и чувств. Смерть ребенка естественна и поразительна одновременно – как ливень, хлынувший на летнее поле в ясный полдень и растревоживший птиц. Как резкий взлет стрижей ясным утром. Как все то, что заставляет поднять голову, отвлечься от труда, досуга, мыслей.
К мертвому ребенку приходят проститься родные и близкие. А у ворот его ожидают, выстроившись в ряд, дети, которые вчера, позавчера или год назад играли с ним у реки или на площади у колоннады. За ними – нескончаемая вереница женщин. Крестьянки не часто говорят ласковые слова: разве что коровам, когда они телятся, овцам, когда ягнятся, и детям – когда они умирают.
– Прощай, голубь мой, прощай, светлый мой, прощай, роза александрийская…
Говорят будто вторят. Так говорили их матери и матери их матерей. Они унаследовали эти слова или сами угадали их. И этот похоронный обряд знали даже собаки – дворняжки, в которых швыряют камнями, и большие, спокойные псы, стерегущие стадо. Ритуал этой смерти – такой маленькой, таинственной и простой – как цветок шиповника, зацветший среди мертвого леса, обманутый осенним дождем и солнцем. Крест плывет над полем. Женщины воздевают к небу смуглые руки:
– Прощай, прощай, голубь мой…
Старик не плакал. Он тихо сидел у погасшего очага и шевелил палкой золу. Он не мог ходить и целыми днями сидел здесь – неподвижный, как ненужная мебель. Старик сказал мне:
– Гляди-ка, живой был, и нет его. Ну хоть бы зло кому сделал – ведь нет. А что мать на него орала, так ей это только на пользу – как пиявки. Он-то добрый был, про то и небу и земле ведомо. Такие и умирают. А мы еще поживем.
– Почему?
– Почему? Потому что на роду нам написано воевать, мучиться, из сил выбиваться, предавать, проклинать, потому что мука в нас земная, вот что. Соль в нас, горечь, огонь.
Старика считали сумасшедшим, но то, что он говорил, было хорошо. Я бы даже сказала, что его безумие было прекрасно. И мне нравилось его слушать:
– Незлобивы они, вот и уходят. А мы, злыдни, остаемся. И травят нас, и корежат, а мы жизнь каждый день у камней вырываем.
Он торжествующе взглянул на меня; глаза его были, как дым. Издалека, с кладбища доносились причитания, с холма – детское пение. Пахло тлеющей листвой, догоравшими ветками, хворостом. По сентябрьской траве процессия поднималась на холм, туда, где у ворот нового кладбища паслись белые и вороные кони.
Женщины вложили в рот мертвому ребенку бумажные цветы, убрали гроб лентами. Солнце круглое и зрелое, как плод, отражалось в стеклянной гробовой крышке. Старик повторил, и в его голосе мешались горечь и торжество:
– Мы еще поживем.
Перевод Н. Малиновской

Они появлялись на шоссе или спускались с гор – с повозкой, собаками и детьми, как цыгане или бродячие акробаты. Но они не были ни цыганами, ни акробатами. Хотя что-то в них напоминало и тех и других: чернота и блеск глаз, выразительные, как в пантомиме, жесты. Это были лудильщики. Мне не совсем ясно, что это за профессия: они паяют кастрюли, точат ножи, мастерят капканы и мышеловки, плетут силки и сети, чинят зонтики, если надо, могут подковать лошадь. Почти все умеют лудильщики. Старая жестянка у них в руках превращается в противень, комок проволоки – в мышеловку. Они умеют петь, танцевать, рассказывать истории и обязательно на чем-нибудь играют. Мужчины у них похожи на вождей племен, женщины смиренны и на удивление молчаливы, дети веселы и грязны. Собаки похожи на них: такие же ловкие, непоседливые и вороватые.
Лудильщики бродят по всей Кастилии вдоль и поперек. Никто никогда не знает, откуда они идут, куда. Сами они говорят, что у них есть дом – где-то неизвестно где, в каком-то селении, которое они описывают во всех подробностях. Лудильщики не любят, когда их путают с цыганами. Больше того – они относятся к ним с чуть заметным сознанием своего превосходства: «А, цыгане!..»
Если их дети пляшут, а после обходят зрителей, они говорят:
– Балуются…
И обижаются, если их называют циркачами.
Но что больше всего поражает меня в лудильщиках – это желание, чтобы их забыли, не узнавали. Если кто-нибудь, принеся в починку ружье или дырявую кастрюлю, говорит: «А вы у нас два года назад были…», они разводят руками, нервно пожимают плечами:
– Мы? Да нет! Мы здесь не бывали.
– Да как же! Я хорошо помню! И повозку, и коня помню, и мальчика старшего!..
– Нет, вы обознались!
Они не воруют, нет за ними ни преступлений, ни злодеяний. Разве что дети вытворят что-нибудь, и все. Откуда же это упорное, постоянное стремление не остаться в памяти? Может быть, оттого, что они покидают свои деревни, свои дома, своих друзей и родных и уходят куда глаза глядят?
Когда лудильщики умирают, их хоронят в пути, в каком-нибудь селении, на затерянном деревенском кладбище. Они не говорят своих имен:
– Как его звали?
– Томас…
И к имени ничего не добавляют. Вдова, сын молчат. Или пожимают плечами – настороженно, гордо, и глаза их, обычно веселые и блестящие, странно темнеют.
Из селения в селение ходят по дорогам лудильщики, унося с собой тайну, которую мне хотелось бы разгадать. В ней отсвет счастья, которого нам не понять, прекрасное и вольное понимание жизни, недоступное нам. Пусть забудут, путь не узнают – пройти – и все, просто пройти по длинной дороге, неизвестно откуда и куда. Пройти, впитывая солнечный свет, жар костра, шум ветра, крики птиц, смех детей. Пройти и сказать: «Забудьте меня. Меня нет. Меня никогда здесь не было. Я не вернусь». У них своя тайна, как у ветра. Своя тайна и своя мудрость, древняя и далекая – как солнце.
Перевод Н. Малиновской

Пастушонку восемь лет. Я не поверила, когда мне сказали, что он встает в пять утра, а идти ему далеко – волчьими тропами через вересковые пустоши и дубовый лес. Около полудня или чуть позже он приходит обратно. По утрам он помогает отцу или один пасет стадо, а днем его сменяет отец.
Иногда я видела, как он возвращается дорогой из Умбрии – медленно, придерживая котомку за ремень. Обычно он молчит и все думает о чем-то. В школе он бывает только тогда, когда нет других дел. Осенью дождь почти не перестает, и пастушонок ходит весь мокрый, длинные черные пряди прилипают ко лбу. Кажется, он не чувствует ни холода, ни жары, ни голода, ни жажды. Он другой, не похожий на нас.
По вечерам мы собирались и рассказывали сказки. Пока погода была хорошая, сидели на улице до первых звезд. Когда наступали холода, собирались в доме, у огня. Пастушонок подходил робко, неслышными шагами. Он стоял, слушал, но, если можно так выразиться, – непричастно. И почти все время улыбался – едва заметно, недоверчиво и чуть насмешливо.
– Тебе нравятся сказки?
Он слегка пожимал плечами, а иногда смеялся – коротким, прерывистым смехом. Как если бы его спросили:
– А тебе не страшно идти одному в такую рань, почти ночью в горы?
Так я и не поняла, нравились ему сказки или он их боялся. Однажды я спросила учительницу, прилежен ли он, умен ли.
– Мальчик столько пропускает! – ответила она. – Кто знает, о чем он думает. Ему не интересно. Он не глупый, но ему не интересно.
Много раз я пыталась разузнать, что за мир таится в этой маленькой темноволосой головке, в этих больших черных глазах. Сердце ребенка – всегда загадка, но самой сложной загадкой было сердце пастушонка. Ему не интересны ни игры, ни сказки, ни ученье. Он не спрашивает, как другие крестьянские дети:
– А какой у моря берег? А какие негры? У них и белки в глазах черные, и ногти, и зубы?
И я знаю – пастушонок мог бы столько мне рассказать. Ведь так часто он стоит задумавшись, как-то особенно прикусив нижнюю губу, засунув руки в карманы, а взгляд его где-то блуждает. Иногда он поднимает голову и прислушивается. Так, словно ловит что-то в шуме ветра и листвы, может быть, далекие голоса, внятные только ему. Голоса, которые кочуют, теряясь за буковыми стволами, вместе с речной водой, с криками безвестных птиц, смутно реющих над загадочной детской головкой в час, когда светает. Словно идет древний, таинственный разговор с природой, и мальчик не хочет, чтобы вторгались другие голоса, чужие слова, которые ему не интересны и пока не могут открыть ему мир иной и лучший.
Перевод Н. Малиновской

К середине сентября созревали орехи, у них было две оболочки: зеленая мягкая кожура и скорлупа – коричневая, твердая. Уже становилось холодно, мокро, земля пестрела красными и желтыми прогалинами. Ветки орешника отбрасывали синие тени на траву. Мы брали палки и колотили по ветвям, ожидая орехового ливня – зеленого града, сыпавшегося нам на голову и на плечи. Помню, мы уносили орехи к полуразвалившейся стене у реки, забирались на нее, усаживались верхом и кололи орехи камнями. Отдирали кожуру, сочная зеленая оболочка пачкала руки, и они долго не отмывались. Пальцы, вымазанные ореховым соком, были знаком сентября.
Крестьянские дети тоже любили орехи. Они тоже ходили с палками в орешник, но тайком. В деревне все дети лазят в чужие сады, даже если у них самих растет сад около дома. Есть в этих маленьких преступлениях наслаждение, в котором радость смешивается с легким страхом, щекотным, как укус комара.
Сознаюсь – и мы не раз участвовали в набегах на чужие сады, особенно – на орешники, даже и не вспоминая о том, что орехи росли у нас под окнами.
Мы шли следом за ребятами, волоча палки по траве, и она отвечала легким, таинственным шорохом. Мы собирались в условленном месте, и кто-нибудь один шел впереди – тихонько, стараясь не задевать веток. Помню смуглые ноги крестьянских детей – исцарапанные, вымазанные глиной; дырявые альпаргаты, – с такой нежностью я вспоминаю их сейчас; изношенные штаны, изодранные почти в клочья, всегда не по росту большие – отцовы или братовы обноски. Как змеи, их ноги скользили по веткам, мелькали в зарослях. Помню сырую траву, запах влажной земли. Всегда было много росы в сентябре, вся трава в росе. Чудесные сияющие капли лежали на земле, где копошились работяги-жучки, поблескивая глянцевыми крыльями, улитки, птицы, уже почуявшие приближение холодов. Наконец раздавался условный свист, означавший «путь свободен». И мы срывались с места, перелезали через ограду, прыгали в сад. Всегда мы ели орехи торопясь. Сдирали кожуру, разбивали скорлупу и, вздрагивая, засовывали в рот белую, нежную мякоть.
Может быть, поэтому всегда, когда со мной происходило что-то похожее, когда нарушался запрет, а совесть проскальзывала в едва заметную щель и радость смешивалась со страхом, я вспоминала, как легко раскалывался орех, вспоминала его вкус – горьковато-сладкий, мокрую траву и налитое, точно плод, щедрое солнце сентября.
Перевод Н. Малиновской

Не так легко почувствовать жалость, когда тебе десять лет. Чувствуешь восхищение, страх, изумление, презрение. Но жалость – взрослое чувство, уже изношенное, как и сердце. В десять лет исступленно любят все – траву, воздух, друга, собственные руки. Но не жалеют – никого и ничего.
Впервые я ощутила жалость, когда мне было девять лет. Воспоминание об этом так отчетливо, что и сейчас по временам меня пронизывает это жгучее тревожное чувство, мгновенное, как вспышка молнии. Это не было осознанной взрослой жалостью, я помню только, что она была глубокой и резкой, как голос, от которого задрожало сознание. Потому что сознание было тогда таким слабеньким зеленым деревцом, и его могло сломать все что угодно.
Сразу за нашим домом начинались Сестильские горы, и там, в горах, были пещеры. Высокие, напоминавшие огромную крепость или замок, эти скалы, багровые на закате, внушали нам уважение, похожее на страх. Но мы любили страх. Я думаю, почти все дети любят страх. Мы шли медленно, от холодного ночного ветра делалась гусиная кожа, и, дрожа, мы останавливались у входа в пещеру. Изнутри, как из колодца, тянуло сыростью и еще тем ледяным холодом, которым веет от неведомого, – страхом, великим страхом неизвестности.
Там жили летучие мыши, они висели гроздьями, вниз головой. Больше всего крестьянские дети ненавидят летучих мышей, волки не в счет. С незапамятных времен это для них воплощение дьявола. И мы заразились той же не очень понятной нам ненавистью. Может быть, только из подражания, из инстинктивного стремления не выделяться, которое заставляло нас поступать так же, как они. Мои братья брали с собой палки (со странной тоской смотрю я сейчас на эти длинные, вырезанные из орешника палки в руках у других детей) и стучали ими по стенам пещеры.
Я знала, что это делают, но однажды сама увидела. Ребята, держа за крылья, тащили летучую мышь – раскрытую, как веер. Их было, кажется, шестеро, и я, как завороженная, пошла за ними. Они ее распяли и стали мучить. Зажгли сигарету и заставляли курить, палили крылья, проклинали как только могли, со страшной ненавистью:
– Вот тебе, дьявол проклятый! Вот тебе, сатана!
Потом бросили и ушли. Кто-то проходил мимо, или их позвали. Прямо перед собой я увидела летучую мышь, прибитую гвоздями к черному тополю, с раскрытыми крыльями, еще живую. И в эту минуту пропал страх, болезненное любопытство и та слабая фальшивая ненависть, которая привела меня туда. Что-то словно оборвалось внутри – рухнули какие-то понятия, взявшиеся неизвестно откуда, смешались слова о добре, зле, справедливости, о том, что должно и чего не должно быть. И что-то смутное и живое, как река, нахлынуло на меня, я закричала и кинулась выдергивать гвозди, борясь с омерзением, страхом и состраданием. Я оставила летучую мышь лежать на влажной траве и ушла, и плакала, сама не понимая почему.
Перевод Н. Малиновской

У Рафаэля были светлые волосы и голубые глаза, его родители, крестьяне, жили в достатке. Братья, старшие и младшие, работали в поле. Но Рафаэль был не похож на них, он был как-то не ко двору. И потому в конце концов его отослали с пастухами в горы, с тех пор он редко появлялся в селении.
Я хорошо помню, как Рафаэль в грубых башмаках, кожаных штанах, золотоволосый, гнал свое стадо мимо нашего дома к Сестилю. Нам нравился Рафаэль, потому что он был приветливый, ласковый и говорил несусветные вещи. Из-за этих самых несусветных вещей, которые он говорил и делал, родители и братья отослали его. Но за них-то мы его и любили. Мы не всегда его понимали, но всегда радовались встрече. Заметив на горе у обрыва щуплую фигурку, мы складывали ладони рупором и звали его. Потом он пел. Взрослые говорили, что поет он очень плохо, служанки просто умирали со смеху от его пения. А нам нравилось, иногда даже сердце замирало – как от перекатов грома в горах.
Рафаэль очень любил моего отца. Только его он посвящал в свои тайны. Нам нравилось, когда он приходил и говорил с каким-то неуловимым жестом:
– Отец ваш дома? Мне поговорить с ним надо.
Отец терпеливо выслушивал его. Рафаэль был одержим одной мыслью – жениться. Но во всей деревне не нашлось девушки, которой бы он понравился, и он стал выдумывать невест. Помню, как-то он смастерил себе кольцо из фольги.
– Видите? – спросил он, улыбаясь плутовато и простодушно.
– Очень красиво, – согласился отец. Серебряная бумажка сияла на смуглом корявом пальце. Рафаэль понизил голос:
– Ну куплено было… подарено… – и лукаво подмигнул. Потом вытащил из старой-престарой сумки фотографии своих невест – портреты актрис, вырезанные из газет и журналов. Все хвалили его вкус и выбор, а мы, дети, радовались этим прекрасным любовным историям, хотя не очень-то верили в них.
Прошли годы, и началась война. Когда мы вернулись в Мансилью, переменилось все, кроме Рафаэля. Люди стали не так искренни и простодушны, не так приветливы, не так бескорыстны. Только Рафаэль, уже постаревший, остался прежним. И все так же по сентябрьской траве он гнал свое стадо к Сестилю. Правда, он стал неразговорчив, и в глазах у него появилась тоска, которой мы никогда раньше не замечали.
Как-то кухарка сказала мне:
– Рафаэлю взбрело в голову, что все белобрысые ребятишки в деревне – его дети.
Часто видели, как он выслеживал детей. Бросал стадо и бродил около школы. Особенно он любил двух мальчиков, совсем светловолосых. Носил им конфеты, орехи, вырезал дудочки из тростника, свистульки. Однажды принес дрозда в клетке, которую кое-как смастерил сам, а на другой день нам сказали:
– Бедный Рафаэль! Отцу Альфредина и Матео надоела эта история. Он его подстерег, схватил за ухо и всыпал – здоровенной такой палкой! А клетку так ногой поддал, что дрозд вылетел – красота!
– А Рафаэль?
– Да что Рафаэль… ребра ему пересчитали, нос разбили – привалился к стене и плачет.
Дрозд улетел; Рафаэль так и не нашел свою любовь. Мы больше не видели его на горе. Он заболел, не выходил из дому и только в пасхальные дни, когда по улице шла процессия, подходил к окну. Его печальное лицо, цвета пепла, было чужим.
Перевод Н. Малиновской

Оно было на пустыре за плотиной, вдалеке от селения. Иногда мы добирались до него, но почти никогда не заходили за ограду – это место наводило тоску. Но мы часто смотрели на него с моста. Блестели на солнце большие белые кости, из рощи и зарослей терновника по временам доносились странные хищные крики, кружили огромные стаи черных птиц, которых мы боялись.
Лошадей мы любили. Еще маленькими мы научились разговаривать с ними, ездить на них, привыкли их гладить. В деревне все дети любят лошадей и гордятся ими.
Но лошади тоже старились и умирали. Сначала мы смутно это осознавали, но год от года понимание смерти становилось отчетливей. Иногда мы спрашивали о собаке или зверьке, которого держали в доме:
– Где он?
И нам отвечали с каким-то неопределенным жестом:
– Умер зимой.
Или:
– Грузовик задавил.
То, что животные, даже самые красивые, умирали так же, как люди и дети, лишь очень медленно становилось для нас реальностью.
Поэтому пустырь с конскими костями, хоть мы и сторонились его, с каждым годом все больше пугал нас. И однажды испугал так, что с тех пор мы больше никогда не ходили к нему, пока не кончилось детство. Ни одна смерть не потрясла нас так, как смерть Али-Бабы, коня Сальвадора.
Случилось это в августе. Мы играли возле моста, когда он появился на дороге, в золотой пыли. Из года в год мы видели, как на нем пашут, как он пасется в октябрьской траве – черный, блестящий. Мы ездили на нем верхом, кормили его сахаром, столько раз смотрели на него во время молотьбы. Сальвадор его очень любил и, поглаживая по шее, говорил тихонько: «Али-Баба…»
Мы застыли на месте, когда увидели, что они идут к кладбищу лошадей – медленно, прижавшись друг к другу. И только тогда мы в первый раз заметили опухоль у Али-Бабы, его неуклюжую походку и старость, с которой уже ничего нельзя было поделать. Нас будто обдало ледяным ветром, и мы пошли за ними, и там, за черными тополями, Сальвадор убил Али-Бабу.
Мои братья, я и еще один мальчик по имени Себастьян – мы молча стояли, сдерживая дрожь. Было слышно, как трещали ветки, когда возвращался Сальвадор. Он был в крови. Себастьян схватил камень, дико заорал и кинул в него. Мы бросились бежать и с яростным отчаянием хлестали кусты. Но Сальвадор не рассердился, он шел медленно, опустив голову, так, будто совершил преступление и мы были его судьями.
Мы вышли к реке и там все вместе – мужчина и дети – бросились на землю и заплакали.
Перевод Н. Малиновской









