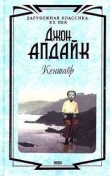Текст книги "Кентавр (СИ)"
Автор книги: Альфия Камалова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
– А что, – поддержал он. – Давай поженимся, будем строить дом, это в моих возможностях. Поставим пока туда будку железную с замком – для инструментов, стройматериалы привезем.
– Ну, тогда я не буду продавать стройматериалы. Зачем, если дом построим? – обрадовалась я. – И что же ты думаешь? – Жанна обращает ко мне смеющееся лицо, и смех ее рассыпается тихим колокольчиком. – Он от меня аж на метр отскочил. – «Это уж, –говорит, – твои личные дела!» – Так что вранье – это в нем заложено. А в пьяном состоянии тормоза ослаблены, врать еще легче.
– И еще! – вспоминает Жанна. – У него тогда на руке синяк был огромный. Ритка ворвалась к нему в кабинет, и, не дожидаясь, когда люди разойдутся, ударила его каской по голове. Он успел заслонить лицо рукой. Удар был такой сильный, что рука болела всю ночь.
Но на следующий день он позвонил мне и сказал: «Если можешь, прости. Я жестоко обманул тебя. Ко мне пришла жена и принесла справку, что она беременна. Я должен вернуться домой и поднять хоть одного ребенка. Потом уже, позже, когда я заговорила о ребенке, он заорал на меня, что нет никакого ребенка, что он свистел.
ГЛАВА 28
1
Весна стремительно набирает темп. В тени еще лежит снег, рыхлый, льдистый, а на солнечной стороне уже подсох асфальт. Тротуары и дороги сплошь залиты грязными кашеобразными лужами пополам со снегом и осколками льда. Капель уже не звенит, а шумно низвергается и напористо барабанит по скатам карнизов и балконных навесов. Сквозь дробный стук тающей воды отчетливо пробивается одинокий голос скворца, посвистит-посвистит вестник весны, а затем примолкает в чутком выжидании и опять продолжает свой призывный посвист, видимо, ищет подругу.
Я вспоминаю картины Шагала, где он изображает летящих в небе мужчину и женщину или обнявшуюся парочку, возлежащую в букете цветов.
Любовь окрыляет, человек влюбленный возносится над повседневностью. Где мой полет? В своем горьком любовном похмелье я похожа на черно-серую ворону, неловко подскакивающую и уныло волочащую свои подбитые крылья.
Сны, которые снятся мне, похожи друг на друга. Кто-то преследует меня, и от кого-то я, охваченная страхом, панически убегаю, и почему-то несусь я всегда по лестнице вниз – пролет за пролетом – и упираюсь в тупик.
Вчера в день вранья – первого апреля – ворвался ко мне по телефонным проводам голос Райсберга – гремит, бульдозером прет.
– Ты меня возьмешь к себе?
Я не верю своим ушам! После его бегства, мне казалось…И в мыслях я уже окончательно распрощалась с Юрочкой Райсбергом.
– Ты шутишь? – недоверчиво спрашиваю я.
– Нет. Не шучу! Я серьезно. Возьмешь меня к себе? Сначала на полгода, дальше посмотрим.
Я хохотнула.
– В этом спектакле я должна играть какую-нибудь роль?
Он зло передразнил мой смешок.
– Нет, это не розыгрыш и не спектакль. Будешь сегодня ждать меня? В восемь часов. Будешь ждать?
– Ты что выпил?
– Да, немножко. Но с завтрашнего дня я не пью. Так да или нет?
Мне не нравится его тон, его давление. Я понимаю, его заносчивость идет от ущемленной гордыни, от необходимости кланяться, особенно в тот момент, когда наши отношения переживают не лучшую фазу своего развития. Я молчу долго. На том конце провода ждут с нетерпением и раздраженностью. Ни в какие слова я не верю. И мне унизительно сейчас хвататься за этот брошенный мне шансик, так пренебрежительно брошенный, с таким одолженьицем.
– Ну так, что? Да или нет? Я приду в восемь. Мне надо одного человека в ресторан сводить. Приду, расскажу. Ну, так да или нет?
Что такое «с завтрашнего дня я не пью» – это я хорошо знаю. А тут еще ресторан. Настроение у меня упало. Кого он ведет? Женщину?
– Почему мне всегда достаются одни помои? – брякнула я вслух и тихо положила трубку.
Мальчик меня достал. Я не хочу его любить, обнимать, заниматься сексом (хотя мое живое тело в этом нуждается). Я вспоминаю, что обнимая Райсберга за сильные гладкие плечи, я таяла от нежности. Здесь ничего подобного нет, хотя в постели Самирчик заботлив и неутомим.
В субботу утром я его еле-еле выпроводила.
– Скажи, – говорит, – дочери, что я – твой муж.
Вернувшись домой, он опять не оставил меня в покое. Без конца мне звонил, опять и опять напрашиваясь в гости, пока я не сказала, что ухожу к родителям и вернусь только вечером. Вечером звонки один за другим – не беру трубку. В десять часов не выдержала напора – подняла. Есть причина для отказа: спать хочу.
– А как же я? – беспомощно спрашивает, как ребенок.
– И ты спи.
– Но я не хочу один.
– Придется. У меня ребенок.
– Я приду, когда она заснет.
– Ну, зачем? Ведь все уже было, – начинаю заводиться я.
Он пустой, без внутреннего стержня, ему нечем заполнить себя, и он свое безделье хочет разделить со мной. Слава богу, наконец, что-то дошло до него! Все воскресное утро, и весь день, и весь вечер он не надоедал мне. Позвонил в два часа ночи.
Спросонья я его не узнала, спросила, кто это. Он был неприятно поражен.
– Как?! Ты со многими спишь?! Многие тебе звонят?! Меня убивает, что ты меня не узнаешь!
Рассказывает, где был:
– Ездили в Магнитку с парнями, были в сауне с девочками. Девчонкам по четырнадцать лет, ту-упы-ые! Им охота на машине поездить и выпить. Одна так приставала, что я даже пнул ее.
– Что так непривлекательна? – усмехнулась я.
– Зачем? – возмутился он. – Я же тебя люблю!
2
Райсберг за апрель месяц дважды пытался построить со мной отношения. Всерьез готовился – старался сделать все так, как нужно мне. И по новой закодировался, перед тем, как в очередной раз решиться вселиться ко мне.
Вломился напористо с непременным своим «другом».
– Однако! – с таким ироничным восклицанием встретила его я.
– Однако! – передразнил он. – До чего же ты противная! «Однако!» – помяни мое слово, ты никогда не выйдешь замуж! Потому что ты противная!
– Ладно, я противная! А ты такой лапушка! И все женщины тебя обожают!
– Да, меня женщины любят! – с удовлетворением кивает он. – А тебя замуж никто не возьмет!
– Почему это? Пока я сама этого не хочу! На днях мне один так и сказал: «Скажи дочери, что я твой муж!» Я его расталкиваю утром. – Уходи, – говорю, – счас дочь проснется. А он мне…
– Так ты с ним… – он озадаченно сморщил лоб и утвердительно качнул головой.
– Да! А вы что-то имеете против?
Он молчит и сопит.
– Если мне не изменяет память, на этой неделе ты закодировался. И сколько продержался?
– Пять дней. Меня Даутов сегодня напоил. Ну не мог я ему отказать! У него сын Валерка от передоза умер. Уже второго похоронил. И старший Андрей тоже был наркоман. Представляешь, какое горе! Плачет: «Какой бы он ни был – сын же мне!» Так что я с поминок! Не мог не выпить! Представляешь, какой ужас: оба сына… Вся отцовская надежда! И оба в тартарары… И пожить-то толком не успели – одному двадцать три было, другому – двадцать на днях исполнилось. Гиблое дело – наркота! Захватывает полностью. Без дозы – не человек, и все им по фигу: ничего им в жизни не надо – ни учиться, ни работать не хотят, главное поторчать, и все тут. Все наркоши импотентами становятся.
– Алкоголики тоже.
Он пожал плечами.
– Вчера только так одну отъяривал! Иду сегодня от Даутова, дошел до нее, осталось только на звонок нажать – сам не знаю как, повернулся и к тебе пришел. Ты оставишь меня у себя?
Я молчу. Потом нерешительно:
– Если только из бабьей жалости…
– Вот-вот! Оставь меня из бабьей жалости!
– На диване!
– Возле себя!
– Нет, я постелю тебе на диване.
– Рядом с собой! – говорит он угрожающе.
– После всех-то твоих!
– Дура ты ревнивая! Ты ревнуешь, да?
– Да нет! Чего ревновать? Разве они лучше, достойнее меня?
– Постели мне рядом с собой! Ты всю ночь будешь обнимать меня! Я всю ночь буду обнимать тебя! – не отрывая взгляда, он долго и пристально, смотрит мне в глаза, затем угрюмо и обиженно отворачивает лицо.
Внутренне я млею и таю от нежности к нему, я любуюсь его насупленным по-мальчишески лицом, свежим блеском губ, которыми он совсем недавно, входя, чмокнул меня в щеку. Млею и таю, но не отпускаю себя, упираюсь: вчера, когда я так скучала по нему, он не вспомнил обо мне, он «отъяривал» другую.
– Нет, – говорю я ему спокойно. – У меня есть другой, а у тебя – другие.
– Другой… Ну, спасибо за откровенность. Ценю откровенность. Можно я позвоню от тебя?
Я кивнула и ушла от него в другую комнату. Сижу в кресле, и мне видно, как он долго стоит с трубкой в руках, низко опустив голову. Говорит с кем-то. С кем? С Людой?
– Да, выпил. Что значит: «тебе нельзя»? Это я сам решаю, можно или нет.
Должно быть, там он не получил добро. Он набирает другой номер.
– Гузель? Как дела? Можно я к тебе приду?
Договорились быстро.
Он вошел в комнату, сел напротив меня.
– Если хочешь, я останусь. Скажи только.
– Нет, – говорю я спокойно. – Иди.
– Ты дура! Ладно, я пошел. – В дверях он снова повернул ко мне лицо. – Скажи, и я останусь.
Я отрицательно качаю головой. «Ты – дура! Дура! Дура!» – запальчиво выкрикивает он, и дверь за ним захлопывается.
Ну, конечно же, я опечалилась. «Это все, конец» – обреченно думала я. Но утром в девять часов (на работу мне только к десяти по расписанию) он вламывается ко мне снова.
– Дай мне ключ! Мне надо перекантоваться. Я хочу выспаться у тебя до обеда.
Он сел на пуфик в прихожке, я стою возле него и чувствую, как между нами растет теплота притяжения. Его руки обвиваются вокруг моей талии, он привлекает меня к себе и прижимается лицом к моей груди. Потом его руки раздвигают молнию на моем халате, и он губами ласкает мне грудь. Я чувствую, как упруго заторчали мои соски, и по телу прошел ток. «Помоги!» – он пытается освободиться от моего лифчика, но я отстраняюсь и деловито привожу себя в порядок.
– Ты вчера ласкал другую.
– Нет! Я нажрался и спал. Сейчас я на руднике. В два часа мне надо на оперативку. Черт! Мне надо было взять отгул. Я высплюсь, Малыш, и вечером буду в форме. Вечером мы с тобой, моя Лапочка, будем заниматься любовью, ладно?
Когда в первом часу я пришла на обеденный перерыв, он спал. На скорую руку я приготовила куриные окорочка с картошкой. Но есть он не стал. Поцеловал меня, заторопился на работу.
– Ты когда придешь, в семь? А я в полшестого.
– Я ж дала тебе ключ.
– Ах, да! Ну, пока, до вечера.
Но опять двадцать пять! – вечером я его не дождалась. Что он делал? Скорее всего, пил – дорвался после пятидневного воздержания. Помнил ли он обо мне? Думаю, да. Свидетельство тому – два робких анонимных звонка после рабочей смены.
А я-то весь день летала, как на крыльях, радовалась, что так легко все получилось – без нервотрепки, без объяснений, без столкновения самолюбий. Мы вместе! Он теперь со мной! Я любила его и не желала терзать себя мыслями о том, что он вчера «только так отъяривал одну», а сегодня после бессонной ночи с Гузелью, пришел ко мне отсыпаться. Я заскочила в пару магазинов, чтобы было чем кормить своего любимого. Но… уже в который раз он только искоса взглянул на блюдо, которое я поставила на стол, и ушел, чтобы по дороге перехватить какой-нибудь чебурек. Как всегда, он и сам не заботился обо мне и моей заботы о себе не принимал.
Ключ! Я доверила ему ключ от квартиры. Ночью я плохо спала, злилась. В конце его рабочего дня я впервые в жизни, грубо, не выбирая слов и выражений, выплеснула все свое кипящее негодование ему по телефону.
– Хорошо, будет тебе ключ до пяти, – сказал он мне кротко и растерянно.
Минут через десять к подъезду подкатила знакомая «восьмерка» цвета кофе с молоком, и молодой парнишка вручил мне ключ: «От Райсберга».
3
С тех пор прошло три недели. От него ни слуху, ни духу. Сколько дней я стояла у окна, наблюдая за подъезжающими седанами. Видела, как от сияния майского солнца преображался двор; зримо, как на полотнах импрессионистов, засверкал воздух. Дымчато-нежно зазеленели клены. Из жалких обрубков тополей – от них после культурной обрезки остались только высоченные пни – вверх навстречу солнцу потянулись длинные гибкие ветви, напоминающие ручки с раскрытыми ладошками клейких молодых листиков. Во всей природе ощущалось какое-то торжествующее самоутверждение.
А я все ждала и любила вот такого непутевого и небрежного ко мне. И томилась, и наполнялась теплотой, и плакала по ночам от безысходности. Я знала, что Райсберг не изменится, он всегда будет пить. И нет смысла продолжать отношения: семейную жизнь он не потянет – не осилит планку, а быть его любовницей, как он хочет… Я ему душу отдаю, а он лишь тело берет… а что тело? – пустая оболочка. Господи, да в его отарах много таких овец, как я, которые хотят быть единственными.
Смотрела фильм Мотыля «Несут меня кони». Герой, так же, как Райсберг, «срывает цветы» без всякой ответственности и небрежно топчет их, ничем не дорожа. Он увел женщину от богатого мужа. Она продала свой «Опель», чтобы на что-то жить с ним, заставил ее сделать аборт, когда было уже поздно и опасно для жизни, потом разлюбил ее и решил бежать.
После фильма мне показалось, что Райсберг вовсе не так уж и виноват, он никогда не берет ответственности за страдание, он не живет рядом со страданием, он уходит. Он живет только там, где он нужен, и уходит, когда он в тягость.
10 мая
Вчера резко похолодало. Ртутный столбик упал до шести градусов, и два дня над городом висела угрожающая серая хмарь. И опять я стою печально у окна и гляжу на погасший наш двор. Выстроившись вдоль тротуара, чернеют стволы кленов. Поскучнела красавица-береза, задумчиво притулившись к стене соседнего дома. Обрубки тополей машут своими длинными ручонками-ветвями, протянув их в небо, и о чем-то шепчут, шелестят тревожно их распустившиеся листья. А вот и она, отрешенно погруженная в себя и увешенная нарядными белыми сережками виновница всей непогоды. Черемуха расцвела! И сыплет с неба мелкой злой моросью. Снежинки в мае! Но и они, попорхав шаловливо, падают печальной каплей на унылый мокрый асфальт.
Прошел месяц со дня нашей разлуки. Я ж не дура, все я понимаю, что ничего хорошего не получится из нашего примирения. Но мир стал тусклым и безрадостным, я автоматически выполняю свои привычные обязанности на работе, и дома. По ночам по-прежнему реву. Он не снится мне, но подсознание рождает бредовые образы, в которых отражается мое состояние. Я вижу: в тусклом свете пасмурного дня вереницей движутся мои родственники. Я – ребенок. Переваливаясь на кривеньких ножках, я перебегаю от одного к другому, чтобы радостно всем сообщить: «Тетя Таня сказала, чтобы в баню все шли!» Моя мать, кидает на меня злобные раздраженные взгляды, ругает меня: «Уродина! Вы посмотрите на это чудовище! Она же Квазимодо!» Я и сама чувствую, что я Квазимодо, и боль углями обжигает мое нутро. «Ты слышал?» – говорю я брату. Он осуждающе смотрит на мою мать. А я беру ее на руки, потому что она превращается в туго запеленатого младенца, теперь я со злостью и наслаждением бью ее по лицу. Лицо ее скривилось, издало истошный визг. Визг этот, как ударом плети, обжег мою душу, и уродливый младенец – это уже не мама, это я сама, сморщив безобразное лицо, захлебнулась в отчаянной обиде: «За что? Ведь я только сказала, что тетя Таня зовет в баню…».
Проснулась я с ощущением боли и пекла в груди. Весь день я чувствовала себя несчастной, оттого, что полюбила недостойного человека и не могу его разлюбить. Зачем мне такой человек, который перекатывается из одной постели в другую? Нет, откусывать от такого пирога маленький кусочек, урвать свою долю – не для меня.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Каникулы в Сосновке
ГЛАВА 1
1
Братья Полины с отпуска приехали злые-презлые. Давно мечтали съездить на Таймыр – там охота и рыбалка первобытная, природа первозданная, девственная.
– В мир хотелось, далекий от цивилизации, чтоб и себя немножко дикарем почувствовать, – рассказывает Петр.
– Дикарем? – переспросила Полина. – А зачем тогда ружье с собою взял? – пошутила она.
– Я ж сказал «немножко дикарем». Танька с Ларисой с нами не поехали, никаких условий, говорят, человеческих нет; ни душ принять, ни раздеться, чтоб в реке искупаться, комары ж, говорят, заживо жрут. Вам, говорят, рыбалка нужна, а нам-то что там делать, кормить вас ухой и тарелки мыть? Нам готовки и дома хватает! Короче, жены наши к морю на Кипр улетели, чтоб на песочке поваляться и на солнышке погреться. А мальчишек мы с собой взяли, и партнеров по бизнесу из Москвы пригласили, а те еще друзей своих позвали.
– Чтобы я еще раз с чужими куда отдыхать поехал – без семьи?! В первый и последний раз! – с большой досадой произнес Данила. – Вот все думаю, а если б наши жены с нами поехали? Эти москвичи и к ним бы на шею сели! Хорошо, что их не было! Так и тащили бы все на себе! Обидно, чем наши-то жены этих столичных хуже, они ведь в прислуги им не нанимались!
– Да, ладно, Дань, не кипятись! – успокоил его Петя и философски заметил. – Так оно в жизни: кто везет, на тех и едут.
– А в Красноярске, когда надо было вещи на вертолет загружать? Мы свои перетаскали, а эта четверка стоит эдак важно, руки в брюки. Смотрю, а наши-то пацаны, Тема с Алешкой, – ну, не приучены они в стороне стоять, всегда они со взрослыми наравне – смотрю, уже уцепили, навьючивают на себя их здоровенные тюки… Ну, жалко ребят, не мужики ж еще, кости неокрепшие, а баулы по полцентнера! – с раздражением продолжал Данил. – А те, так ниче, стоят эдак барственно. Я уж матом собрался их обругать, да Петька опередил: «Что стоим? Чего ждем? – спокойно говорит, с улыбкой. – Тут грузчиков нет, нанять некого». Думаю, молодец Петя, умеет дипломатично подойти, не ссориться же с компаньонами в самом начале отдыха. Я вообще их не понимаю, – продолжал распаляться Даниил. – Днем спят, валяются в палатке, по ночам вокруг костра сидят, на гитаре бренчат, поют. Ну, правда, зачем так далеко за этим ехать? Дым костра понюхать можно и в Подмосковье где-нибудь.
– Они к другому образу жизни привыкли, к западному ближе. У них жены дома не готовят, в ресторанах привыкли питаться. Я как-то раз в Москве ночевал у них, утром открываю холодильник – нечем поживиться, шаром покати, йогурт один стоит.
Вот так они всегда, – подумала Полина. – Один ворчит, легко вскипает, громко возмущается. Другой молчит и снисходительно улыбается. А кого надо бояться? Петра, конечно. Данька-то – безобидный, покипит-покипит и остынет. Петр в глубине души тоже добр, но он сложнее. Иногда, кажется, что некоторые бессовестно пользуются его великодушием и долготерпением. Но и это не так просто, как кажется. Он смолчит с улыбочкой, и вида не покажет, что не все ему по нраву, но только близкие знают, что он злопамятный, ох, какой злопамятный: ничего не забывает, весь негатив он откладывает в папки своей памяти до поры до времени, и горе тому, кто предел его терпенья переполнит. Всыпет на орехи, все грехи припомнит, и то, что в детстве не так сделал, и что в юности не так сказал, и мало того, что в кровь покусает – раздавит, уничтожит, с землей сравняет! Но отбушует, отштормит, глядишь, и снова на море штиль. И снова он великодушен, щедр, и подарками одарит и с проблемами поможет расчухаться.
– Вот я и говорю, – не унимался Даня. – Таким, чтобы расслабляться, надо на курортах фешенебельных отдыхать! Здесь – условия суровые, здесь проверка мужского характера, здесь сила нужна, выносливость. Знаешь, иногда набегаешься за зверем на охоте, все мышцы гудят натруженные, зато голова какая легкая! И стрессы все сбрасываются! Это тоже отдых, но отдых активный мужской. Я так им и говорил. Особенно дамочкам их, которые ничего не умеют и ничего не хотят, ну им-то что тут интересного? А они говорят, что везде побывали, все посмотрели: и чатьи буддийские, и соборы готические – на экстрим теперь потянуло, за романтикой, дескать, приехали, тутошнее небо якобы их к размышлениям о вечности мироздания располагает. А небо там… оно и в самом деле… грандиозное. Ночью черная бездна над миром простирается (точно, как вечность!) и миллиардами звезд она утыкана, и свет их лучей из бесконечности вселенной до нас долетает. И это ощущение усиливается еще оттого, что кроме нас восьмерых, да рыбы в реке, да медведей в лесу, да полчищ этой злющей-презлющей мошкары – далеко-далеко за сотни километров никакого цивилизованного мира нет! Одна только природа – живая, дикая, свободная! Так вот Петька-то, сама знаешь, спать не любит, без работы не может. А я куда без него денусь? И Артем с Алешкой всегда рядом…
– Слушай, я тебе так много слова не давал! – со смехом перебил брата Петр. – Ты что один все хочешь рассказать? Азарт, понимаешь, бешеный! Сапоги болотники оденем, стоим в воде, недалеко от берега. Рыба клюет мгновенно, блесну не успеваешь кинуть. Это когда она стаей идет. Хариусы полуторакилограммовые, ленок, такой крупный, весом в три-четыре килограмма! Снимешь с крючка, кинешь на берег, а берег там весь камнями-голышами усыпан, круглыми такими, водой отполированными, так эта рыбина бьется на валунах, прыгает, дугой извивается… Так приходилось слегка оглушать ее ударом о камни или хребет ломать, чтоб не мучилась. В первый день мы не рассчитали, много рыбы наловили. Почистили, пожарили – сковороду для этой цели привезли большую, как противень в духовке, и ушицу ароматную с дымком сварганили. Не-е, дома такую не приготовишь – от нее же дух такой костровый! Сами от пуза наелись и компаньонов накормили. Ну, все думаем, мы вам праздник живота устроили, теперь ваша очередь. И что ты думаешь, бляха-муха, они нам на ужин – рожки!
«Ребята, ну что же вы делаете! Там в кустах – щуки пяти-шести килограммовые! Рыбы столько! Пропадет же, стухнет!» Мотивируют тем, что неохота им свою провизию обратно везти (одних спагетти в пачках у них целый мешок)… Мы с Данькой, засучив рукава опять за работу, крупную рыбу разделываем, солим, в бочку складываем. Потом уже отлов этой рыбы мы стали строго контролировать. Ловили, конечно, для спорта, для удовольствия и – обратно в реку отпускали. Смотрю, и мальчишки осторожно с крючка ее снимают и в воду суют, она вильнет своим длинным телом меж камней и уходит. И Данька эдак ласково с пойманной рыбой разговаривает: «Тихо, тихо, счас реанимацию сделаем! – говорит, – Да не бейся ты так, поранишься. Вот, теперь плыви! Живи, дружище!».
– А тайменя, как ловили! – подхватил Данила. – Такой рыбалки у нас еще не было! Я с утра сделал три заброса: и первый – таймень, и второй – таймень, и третий – тоже таймень! Смотрю, не мне одному фарт валит. Соревнование устроили! Тут же взвешиваем. У меня самый крупный – шестнадцать килограмм. А потом Артем вытащил – восемнадцать шестьсот! Кобаняра! А когда Петро своего попытался взвесить, безмен разлетелся. Я его собрал, хорошо еще, что пружина не лопнула, прицепили осторожненько – все двадцать! Ну, а двадцать – это уже предел на весах, на большее шкала не рассчитана. Вот это был лосяра! Петька взял его под жабры правой рукой, еле удержал, аж рука трясется, левой рукой тоже подцепил тайменя: «Давай говорит быстрее, фиксируй для семейной хроники!». Я сфотографировал. Тема тоже захотел запечатлеть себя в истории. Поднял Тема того гигантского тайменя еле-еле двумя руками, а потом говорит: «А теперь на мой фотик сними». А Петька ему так серьезно в глаза заглядывает: «А ты его еще раз сумеешь поднять?».
Видеофильм посмотрели. Рябь воды, пики лиственниц, синь холмов и яркие пятна палаток. В низине Тема с Алешкой морошкой лакомятся. Крупные желтые ягоды рассыпаны по мху, а мох проваливается, мягко вибрирует под ногами. Есть неудобно, приходится постоянно сетку от накомарника приподнимать, чтобы ягоду в рот засунуть. Леша приподнял свою сетку, скатал ее и закрепил над шляпой. Тема посмотрел на него и так же сделал. Одной рукой они ягодки срывают, а другой беспрерывно перед лицом помахивают. «Черт! Они в глаза лезут, и в рот, и в нос набиваются! Блин, все чешется! Надо в кружку собирать!» – досадливо выкрикнул младший – Алешка.
– Смотри, – со смешком комментирует Даниил, – Петькины пацаны морошкой всех угощают. Сами наелись, теперь отцу и дядьке несут попробовать. Московские, между прочим, тоже не отказались сибирской ягоды вкусить. Во воспитание! – все время удивляюсь! – говорит Данила, воспользовавшись тем, что брат вышел на балкон на покурить. – Ведь в богатой семье мальчишки растут, и отказа ни в чем не знают. Петька сам жаловался: уж не знаю, – говорит, что на день рождения подарить, чем обрадовать, чем удивить, все у них есть, уже и мечтать не о чем. Другие в таких же семьях оболтусами растут, наркотой от безделья балуются. А эти и в любви купаются, Петька-то без ума их обожает, сыновей своих, но ведь не избалованы – нет! Я своей Лизке не сумел любовь к труду привить, белоручкой растет, да и, собственно, мало я ею занимался. Жена все с ней. Был бы сын – больше бы времени воспитанию уделял, а так… не получилось как-то. А у Петра насчет трудового воспитания – порядок в семье строгий.
Полина засмеялась:
– Петька-то он двужильный! И Таня на него бочку катит: «Я не успеваю за тобой жить! У меня нет таких сил, чтобы угнаться за твоим темпом!». Жалуется мне: «У нас в семье не принято говорить: я не хочу или я устал. А дети наравне с нами и никогда не жалуются. А он не видит, как они устали… Я тогда набрасываюсь на него, как гусыня: «Пожалей детей! Никто не может, как ты! Они устали!» – И он сразу руки кверху: «Все-все-все…Отдыхаем! Бросайте работу!».
– Да, – подтвердил Даниил, – сыновья у него никакой работы не боятся: и огород вскопать, пожалуйста, и газоны скосить, и рубанок в руке держать умеют, и в технике только так ковыряются. Артему после девятого класса Петька старый Рафик купил, туды-сюды с пацанами на рыбалку гонять, тот без конца ломается – ремонтируй сам. Разобрал-собрал, все детали в своих руках подержал, и уже, глядишь, можно парню к окончанию школы хорошую машину подарить. Только Артем-то в технике не больно шарит. А вот младший, Лешка, технику, как живую, чувствует.
– Мама говорит, что вы оба – и ты, и Алешка – на прадеда похожи, – добавляет Полина, – Внешне и по характеру: оба чернявые и толстогубые, обстоятельные и упертые. А Тема – внешне-то он в мать пошел, светленький, голубоглазый, как Татьяна, а характером он не в нее – слишком мягкий, безалаберный… Зато у него способности к кулинарии! Он уже не хуже отца шашлыки может приготовить. Ой, а что это у тебя глаза так заплыли – без накомарника ходил?
На экране под навесом Данька сидит с опухшим лицом, котлеты из щуки жарит, снимает с жаровни, ломает ее, белую, сочную напополам, сам пробует и еще кому-то кладет в протянутую руку.
Петр тоже в трудах – мощный костер разжигает. «Это будущая баня, – поясняет он в камеру, – вот тут гора камней, на них бревна пирамидкой сложили, потом, когда все отгорит, сверху палатку поставим, веников нарежем, будем париться и нырять в студеную экологически чистую воду».
А вот и, знакомая Полине заочно, веселая компания московских друзей собралась у ночного костра. «Душа» общества – смуглый, узколицый Стас-гитарист. В его репертуаре много хороших бардовских песен – Трофим, Розенбаум, Третьяков... Он сыпет остротами, веселит всех. По профессии он доктор-дерматолог, но по призванию, скорее, артист – у него глаз наблюдательный и мимика подвижная, и он так смешно всех передразнивает, знакомых очень похоже пародирует, так, что все, кто с ним у костра сидит, просто со смеху покатываются.
Такой он в восприятии Петра. Но вот Данила думает о нем иначе:
– Хитрый еврей, скользкий, как угорь, – не слишком дружелюбно дополняет он комментарии брата. – А вот жена его! – показывает он пальцем на яркую крашеную блондинку с холодным надменным лицом.
– Умная очень, языки знает, она где-то в посольстве работает, в зарубежные командировки часто ездит, – говорит о ней Петр.
– Наглая и беспардонная, и ведет себя так, как будто у нее миллион заняли и теперь мы все у нее в вечных должниках, – характеризует ее Данила.
К костру походит Богдан – молодой компаньон Петра, высокий, полноватый парень со светлыми волосами в легкую рыжину. Он садится на бревно, держа в руке литровую банку, и со злостью поглядывает на смазливую пышноволосую девушку. «Жена его – Леночка. Сам рыжий и жену под себя выбрал в масть», – дополняет Данила. Леночка не сводит смешливых глаз со Стаса-артиста и, кокетливо улыбаясь, подпевает ему. Богдан грубо толкает ее ногой и протягивает ей свою пустую стеклотару.
– Молока принеси! – говорит он совсем не в унисон мелодичным гитарным ритмам.
– Молока?… – растерянно повторяет Леночка. – Сгущенку хочешь? Я принесу! – услужливо вскакивает она.
– Молока, я сказал, – сварливо повторяет ей муж. – Корова тупая! Пока ты мозгами тупыми сообразишь, уже десять раз можно туда-сюда сгонять и все приготовить!
– Там сливки сухие есть, – подсказывает ей Петр. – Разведи водой вот в этой банке, намешай ему погуще, вот и будет вам молоко.
– А где их взять эти сливки? – спрашивает она уже у Петра.
– Где-где? – мягко улыбается он. – Там же, где все продукты, в палатке продуктовой.
– Где-где! У черта в бороде! В супермакете в Москве! Может, еще спросишь, где палатка продуктовая находится? – ворчит Богдан.
Леночка возвращается и, счастливо улыбаясь, протягивает банку с густой молочно-белой жидкостью своему мужу.
Лицо его кривится в ядовитой ухмылке.
– Что ты мне банку-то суешь?! Я что тебе чукча из банки пить?! Ты что по-человечески в кружку налить не можешь?!
Леночка присаживается рядом с мужем, наливает молоко в кружку, непонятно чьей рукой протянутую – камера не показала хозяина этой руки, ласково обнимает мужа за шею и нежно поглаживает его по щеке.
– Богдашечка, теленочек ты мой! Ты не из кружки должен пить, а из ведра языком лакать. Хочешь, я тебе в ведерочко налью?
– Ты мне зубы не заговаривай, кукла крашеная! Только и умеешь ноготки пилить и наращенными ресничками хлопать. Я всерьез тебе говорю, когда научишься по-людски все делать, а не по-кукольному!?
Но Леночка никак не реагирует ни на колкие язвительные шуточки в свой адрес, ни на откровенно-грубые выпады мужа, она просто не слышит, не замечает их, и все ластится, ластится к нему… У Леночки свои испытанные методы воздействия на мужа. Она знает, как успокоить своего разбушевавшегося мачо. Вот так прямо у костра она, ласкаясь, как кошечка, трется, прижимается к нему, и Богдан расслабленно-самодовольно обнимает ее, но и в разнеженном, размягченном выражении его лица, в голубеньких, как у ребенка, глазах в любой момент может вспыхнуть властный повелительный огонек.
Тихо льется песня, два женских голоса подпевают Стасу. Во мраке ночи белесо клубится дым, с треском взметает костер светящиеся снопы искр. С букетом шампуров, унизанных золотисто-оранжевыми кусками жареной рыбы, появляется Петр.