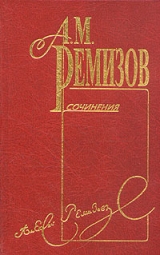
Текст книги "Том 3. Оказион"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 44 страниц)
Святой вечер *
Глава первая
Нет, если уж где справлять канун Рождества – рождественский сочельник, то, само собою, не в Петербурге.
Первым делом как есть кутью садиться, отвори окно, да, бросая за окно, на волю, первую ложку, проси деда Корочуна кутью есть. Дед Корочун над зимою первый: Корочун и зиму строит и горы насыпает, чтобы на санках кататься, и рядит инеем деревья, чтобы покрасивее было, он же, по рассказам старых людей, и Христа-Младенца пустил о Рождестве к себе в хлев, когда Ирод-царь велел избивать младенцев по всей земле, он же и разные кудесы знает и такие сказки сказывает, от которых и страх берет, и еще хочется. Любит Корочун, если кто медведем ряженый пляшет, и сам, на старости лет, так пройтись может, что любого молодого за пояс заткнет, – седой ворчун и затейник, без него и кутья не в кутью!
Но об этом в Петербурге и думать не годится, если ты хоть сколько-нибудь благоразумен и дорога тебе не опостылела, твоя нищенская, до отупения однообразная, в постоянных заботах о куске хлеба, мелочная жизнь.
Как известно, по петербургским правилам, за окно бросать ничего не полагается, и всякое выбрасывание, хотя бы и такой всем приятной сладости, как вареный ячмень на меду с грецким орехом, может кончиться не совсем приятно: там разбирать некогда, подберут твою кутью до последнего зернышка и повезут ее, под охраной, куда полагается… А затем еще не известно, захочет ли сам дед Корочун под такой большой праздник в Петербурге находиться? Ой, что-то очень сомнительно, чтобы приятно было старому деду по Невскому путешествовать или где на Островах сидеть. И скорее всего перекочевывает он об эту пору в самые дальние степи, в дикие и широкие, и уж там, на просторе, разгуливает, ест кутью, да зиму кует, коротая свои дни, последние и студеные.
Стало быть, как ни верти, а выходит, в конце концов, что если даже ты смельчак такой и не страшно тебе ложку кутьи за окно бросить, все равно, даром: Корочуну она попасть не попадет, а в лучшем случае собаке, а ведь собака, обнюхав ее, еще чего доброго, и съесть не откажется. Вот как!
Раздумывал Скороходов, раздумывал, как поступить: и кутьи хочется поесть по-настоящему, и боязно, и боязно, и досадно: что ж в самом деле, одному, без Корочуна кутьей наедаться?
И решил, наконец, Скороходов, уж тряхнет он по всем в долги влезет, а уедет из Петербурга, чтобы хоть один раз – единственный в своей стесненной жизни отпраздновать по-людски Святой вечер.
Глава вторая
В дальние степи, в дикие и широкие к Корочуну путь долгий и беспокойный. Остановки и пересадки – конца-краю не видно. В тесном вагоне холодно. С боку на бок больно все. Скороходов кое-как примостился, хотел отдохнуть, и заснул на ключах. Проснулся, – ноет в боку. Переложил ключи в другой карман, – заснул на кошельке. И обомлел весь бок. Лег он на спину. И опять беда: свеча в фонаре догорает, – стеарин потек, и фонарь запылал. Гарь, копоть.
Растворили двери, прогнали угар. Стало еще холоднее: зуб на зуб не попадет. А пассажир ходит, дверей за собою не притворяет.
«Экий, ты, пассажир, глупый, ну что тебе стоит, рука не отвалится!» – пеняет Скороходов.
А поезд с каждою верстой опаздывает и все медленнее движется.
«Экий ты, поезд, скучный, ну что тебе стоит, паров что ли не хватит!» – пеняет Скороходов.
Только бы прошла поскорее ночь, а там, завтра, как зажжется звезда, настанет и Святой вечер.
Медленно ползет скучный поезд. И версты как-будто длиннее стали, и верст будто больше.
Скороходов перекладывался с ключей на кошелек, с кошелька на ключи, ложился и так и сяк: ничком, и навзничь, а уж заснуть не было сил, только дремалось.
По соседству переругивались муж с женою – мастеровые.
– Осип головою фонарь прошиб! – пилила мужа жена за какого-то Осипа, выскочившего по пьяному делу из вагона, когда уж тронулся поезд, и угодившего башкою прямо в фонарь.
– Компания! Ничего! Прямо теперь в участок! – смеялся муж, подлаживаясь к жене: тянуло его еще выпить, а водка у бабы была спрятана, и не было ходов уломать бабу.
Юнкер, примостившись на верхней лавочке, спрыгнул не без ловкости и, толкнув сундук, в котором, должно быть, эта самая бабья водка хранилась вежливо извинился перед мастеровым.
– Пожалуйста, пожалуйста! – закивал мастеровой.
– Пожалуйста! – передразнила баба.
– Знаем обращение, нам не впервой! – и вдруг обозлившись, мастеровой начинает ругаться, – экие вы, бабы, и чего прешь на этот вокзал? Давно б дома были, разорва, вот вы… Когда теперь приедем? На Пасху? Ведь, говорил же я, нет…
Баба видит, что проштрафилась, сдается:
– Винить невинного человека! Вы меня не вините, я не виновата этим делом.
И уж доносится жадное бульканье. Наливается бабья водка, и надо думать, из большой посуды в стаканчик, а пьется стаканчик с таким вкусом, непьющий запьет.
– Водка хлебная, а хлеб пшеничный, здорово!
– Здорово! – шипит баба, – прохвост ты, обормот, здорово!
Какой-то пассажир, белесый и такой постный, словно где-то из спины у него, из какого-то спинного позвонка святое деревянное масло точится, совсем уж умаслившийся, потерял свое место и ходит по вагону и пристает без пропуска к каждому:
– Кто ты и куда едешь?
Кое-кто отвечает, но потом отвертываются, а потом уж посылают к черту.
Постный человек, наконец, остался один, он уселся на кончик лавки, и ему кажется, что едет он один во всем вагоне, из хребта у него сочится святое деревянное масло. Кто он? – сам уж не соображает и вспомнить не может.
– Кто ты и куда едешь? – бормочет постный.
А какой-то безбилетный, разместившись под лавкой, так уплетает на сон грядущий, будто не две, а целая четверка скул у него, а кушанье такое вкусное, и объешься и еще запросишь.
Потом все затихает, и затихшее несется, перебрасываясь из кулька в рогожку. И поспеть вовремя нет уж надежды. Стучат колеса. Поднявшаяся метель воет – стучит в колесах.
Огарок в закопченном фонаре чуть светит.
Глава третья
«Нет, лучше уж было бы в Петербурге остаться, куда ни шло!» – ерзает после бессонной ночи Скороходов и укоряет себя и оправдывается.
Кончается долгий день, вечереет.
Скоро там, среди широкой дикой степи, в закутанном белым снегом, как белым вишневым цветом, старом родном доме, за кутью сядут. Скоро зажжется Рождественская звезда. Но станция, на которой Скороходов вылезет, так еще далеко, страшно ему подумать. Метель не дает хода, да проклятые пересадки.
«Постелят стол сеном, поставят миску с кутьей, засветят свечи, сядут вокруг стола… Святой вечер!» – поддразнивает себя Скороходов и тянется весь, не находя места.
Какая-то шляпа, с острым подвижным лицом – по вагону говорят, что это и есть агитатор– читает вслух газету. Шляпавыбирает в газете что почище и позабористее и, снабжая прочитанное собственными приложениями, предоставляет публике жестокие выводы из прочитанного и добавленного.
«Приходите в трактир Парамонова, – отчеканивает шляпа-агитатор газетное сообщение, случайно подслушанный разговор по телефону, – спрашивайте дворника с рыжей бородою, по пятьдесят копеек на человека, чтобы бить жидов и интеллигентов…»
Скороходов дальше не слушает, кого еще бить надо за пятьдесят копеек, кроме жидови интеллигентов, а может быть, за ту же цену и убить. Да и слушать нечего! Сам дворник лучше всяких газет знает, кого бить и когда бить, потому что он, рыжий, все знает. И от него, рыжего, все зависит, и судьба Скороходова, и судьба всей земли русской, и судьба всего света белого. Вот он, может быть, за одно уж с жидамии интеллигентами, и самого седого Корочуна укокошил и лежит себе где-нибудь под лавкой, лежит, как залег, ему и горя нет, спит. Да и как не спать ему счастливому, ведь ему нет дела ни до Скороходова, ни до русской земли, ни до света белого, ни до седого Корочуна – сыто брюхо и слава Богу. И уж ждать нечего, ни ждать, ни надеяться. Он убил это слово, – надеяться, вычеркнул его из русского словаря. И лежит счастливый, растрепанный и путаный, спит. И оттого все безнадежно треплется и путается.
Представилось Скороходову, будто он поднялся, чтобы посмотреть, отчего шум такой по вагону, а вагон, будто весь рыжего цвета, как борода дворника, и все пассажиры рыжие, и слушает Скороходов и ушам не верит.
– Ура, рыжий дворник от Парамонова! Ура! – надсаживается вагон и вдруг ухает в какую-то рыжую кашу.
– Ваш билет! Ваш билет! – тряс и пихал кондуктор задремавшего Скороходова.
Вваливаются в вагон стражники. Испитые, продрогшие, в рваных полушубках с винтовками в окоченевших руках, они садятся неудобно, кучкою.
– Вихри враждебные…– ладно затягивают песню на другом конце вагона: поет гимназист, кадет и какой-то солдат.
Стражник поплоше робко подходит к шляпе-агитатору:
– Дайте, барин, папироску по бедности! – просит стражник и не отходит: в один руке винтовка, а другая совочком сложена.
– На бой кровавый!.. – не унимаясь, несется песня, подхватываемая тесным вагоном.
Поезд остановился.
Скороходову опять пересадка.
– В свое время поспеем! – утешает привыкший к стоянкам кондуктор.
Рядом отправляют поезд с запасными, не попавшими на воину.
Шум, гам.
– Подавай поезд! – орет кишмя-кишащая платформа, и летит ругань, небу жарко, да и весело: загибаются винтиля, какие не загнет ни один язык, кроме русского.
«Экий ты, язык русский, нет тебя ругательнее, что же ты не выручишь!» – пеняет Скороходов и, поглазев на толпу, покорно садится в новый вагон, стараясь забыть, кто он и куда едет, как тот вчерашний маслоточивый пассажир.
В вагоне много солдат, едут солдаты в деревню, домой на побывку.
Какой-то курносый мужичонка с лицом, вдоль и поперек перетянутым, будто бичевкой, мелкими, глубокими морщинами, уплетает сало в соседстве с огромным петербургским кавалеристом. Они земляки. Разговор у земляков ладный.
– Ну, как, погром у нас был?
– Был, – мужичонка лукаво подмигивает.
– Что такое погром? – кавалерист проглотил вкусный кусок и принялся за другой, не менее вкусный.
– Погром… капиталистов били, потому как они имеют. Но откуда они имеют? Кто им дал? У всех спервоначала одно было. Откуда они взяли, а?
– Усердием.
– Усердием! Так вот за это самое усердие и погром.
– Разбоем-то ничего не возьмешь.
– Верно, совершенно верно, – мужичонка постукал о столик пальцем и, загнув палец, поднес его, прокопченный и замазанный, к засаленному рту земляка.
Кавалерист вкусно обтер себе рот, поправил усы и вдруг рассвирепел.
– А таких вот субъектов, которые так говорят, знаешь ли ты, что с такими субъектами в Петербурге делают?
– ?
– А вот так – в порошок.
– !
– Да ты сам-то откуда?
– На мыловаренном служил. Я – сердцелист.
– Сердцелист, а ты до которого места?
– До Глистницы, – плутовато подмигивает мужичонка и начинает вилять, – конечно, поляки все и жиды.
– Они все отобрать хотят, – закуривает кавалерист, видимо успокаиваясь.
– Да я и сам думаю, – хихикнул вдруг мужичонка, – приглашали меня, а я себе думаю: шиш! Сам я так думаю.
– Святый вечер…– донесло до Скороходова заунывным гулом древний колядский припев и, повторяя припев, покатило все дальше и дальше за поездом в широкую дикую степь, где зажглась уж Рождественская звезда, – Святый вечер!
– Боязно, – шепчет солдат с верхней лавочки, – вот едешь, а в тебя бомбой…
– Упаси Матерь Божия, Царица Небесная! – вздыхает женщина, соседка.
– Едем мы как-то в разъезд, – шепотом рассказывает солдат, голос у него какой-то оробелый и перехваченный чем-то, либо простудой, либо страхом, либо водкой, либо, Бог весть, еще чем крепким, – едем мы ночью, а навстречу нам шайка. Я как пальнул, один хлоп на землю, а потом другого, а потом третьего. Кричу околоточным, и те стреляют. Наутро командир спрашивает: «Ты, Замерчук, стрелял?» «Так точно, ваше высокоблагородие». «Спасибо тебе, братец». «Рад стараться». Д-да. А то едешь другой раз, думаешь: уж приведет ли Бог домой вернуться…
– Морда! Измучаешься! Домой вернуться?! Не найдешь себе места! – замечает хмурый сапер солдату.
А в другом конце вагона идет спор о войне.
– На иконы надеялись, хе, хе!
– А вы на что?
– Я с вами не разговариваю.
– В рот тебе кол! – огрызается задетый.
И опять подымается спор, перебираются имена и печатные и непечатные, не то грызутся, не то ладят.
А я порченая, потому и спать не могу, – говорит с растяжкою, по-московскому, молодая баба, уступая место старухе, – а вложила в меня эту болезнь моя подружка. «На, говорит, милая, надень сорочку!» Как надела я, бабушка, эту сорочку, так и пошло…
– Что же это такое, Господи, на свете-то делается! шамкает старуха, крестя свой утиный рот.
– И не в ней причина, а в нем, постылом, он ее и подослал ко мне с проклятой сорочкой. «На, говорит, милая, надень сорочку!» А работали мы с ним на одной фабрике за заставой и бастовали вместе. Вот за забастовку в тюрьму сажают, а за это, небось, не тронут…
– Руки коротки! – зевнул кто-то из-под лавки.
– У нас в деревне тоже, девушка, глазом портят, а был один старичок, волчьим лыкомот зубного ноя лечил: помогает.
– Это тебе не забастовка! С этим средством и почище дело можно сделать! Да я-то чем виновата? – жаловалась порченая, и исступленно смотрела через сонные, спутанные головы в ночь, словно бы искала кого-то, кто придет заступится, снимет с нее порчу, сковавшую ее по рукам и ногам.
– Святый вечер…– опять донесло до Скороходова заунывным гулом древний колядский припев и гудело близко, будто на самое ухо, и далеко, кругом, из измученного сердца терпеливой перепутанной родной земли, – Святый вечер!
Скороходов посмотрел на часы: часы у него стояли. А узнать не у кого было. Вышел он на площадку, поискал звезду. Темно, снег идет. А уж должна бы гореть звезда! Он достал хлеба, раскрошил его, и, закликая Корочуна, взялся за хлеб, как за рождественскую кутью:
– Корочун, Корочун, иди к нам кутью есть!
1905 г.
Казенная дача *
Глава первая
Время приспело весеннее. Не хотелось дома сидеть, тянуло бросить все и идти. И уж как завидно было тем, кто мог бросить все и идти.
Василий Пташкин, человек с обязанностями, связанный по рукам и ногам жалованьем, мог, пожалуй, только помечтать о таком блаженном состоянии, да и то не без раздражения. Работы, как нарочно, с каждым теплым днем прибывало. И часто с утра до позднего вечера приходилось просиживать ему в полутемной, прокуренной конторе над премудрою книгою счетов и расчетов с повторяющимися изо дня в день постылыми цифрами и записями.
А смысл этих пташкинских постылых цифр и записей заключался в том, что без них не могло существовать дело, не могла ходить фабрика, а без фабрики не мог держаться город, а следовательно, и его жизнь, как одного из тысячи тысяч винтиков городской машины. Но какой был смысл всей этой городской машины и Пташкиной винтовой жизни? И неужели в борьбе за завтрашний строго размеренный несвободный день? Или за освобождение от каторги этого завтрашнего дня?
«А если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который в конце концов гибелью целых поколений все-таки будет завоеван и должен прийти?»
Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог Пташкин, просто сил не было.
Дневная, наполненная от часа до часа обязательным трудом фабричная жизнь явственно сказывалась и в само собою закрывающихся усталых глазах его и в том охватывающем глухом сне, который без милосердия валил Пташкина на кровать и держал его до утра, когда каторжный день уж снова протягивал свои губастые лапы, чтобы, впившись в своих невольников, высасывать силы и мысли и затыкать беспокойную глотку, требующую ответов.
К счастью Пташкина у него еще удерживалось то, что могло еще удержаться у невольника, душа которого под постоянным гнетом не отдалась последнему отчаянью: Пташкин еще видел смысл своей жизни в борьбе за освобождение от каторги назначенного ему судьбою дня.
Пташкин слыл за человека беспокойного и не подходящего к тому мирному жителю, скрипя и охая выносящему тяготы жизни и не знающему иной, кроме данной, маленькой и забитой, маленькой и скучной, которую если представишь невзначай, так скулы от зевоты треснут, и сердце сожмется от всей ужасающей ее бессмысленности.
«Нет, лучше быть болотной жабой, зимою засыпать, а летом квакать, чем человеком, из-за какой-то затхлой норы и пустых щей век свой вечный сгибающим спину».
Так будто бы выражался беспокойный Василий Пташкин.
Да и на самом деле, Пташкин был беспокойный. Ведь это его совсем еще недавно посадили в кутузку за то, что толпился. Но при всем своем беспокойстве Пташкин был и весьма чувствительный, а вся его испитая фигурка весьма деликатна. Ведь, это ему барышни в письмах писали: Васечка – цветочек!
Вот почему всякий раз по весне, как прилетать птицам в родные леса и открывать веселые дни Пташкина захватывало на мечтательный лад и неудержимо тянуло куда-то за город от фабричных труб, суеты улиц, от этих булыжников, от которых каменели сами чувства. Бросил бы все и пошел…
Да нет уж, куда там пойдешь, куда идти Пташкину! Нет уж, хоть бы так куда за черту города выбраться. И будь у Пташкина хоть какая-нибудь возможность, он по примеру других, более осчастливенных судьбою, и как это ни глупо, а переехал бы на дачу. Но так как и такой возможности не предвиделось, то оставалось Пташкину только мечтать и, мечтая, корпеть в городе.
Глава вторая
Был конец марта – теплая пришедшая с весною ночь. И черный горизонт чернее ночного беззвездного неба сулил дружное таяние и первые цветы.
Пташкин возвращался домой хоть и усталый, но весь уходящий, Бог знает, за какие черты возможностей и мысленно проходил по полям и лесам, через жаркие пустыни и топкие болота, куда-то к самому морю, которое, впрочем, знал больше по картинкам, да во сне как-то видел. И когда достиг он, мечтая, но не моря, а закопченного, переполненного жильцами дома, где снимал комнату, какие-то люди так окружили его, маленького и невзрачного, словно был он опаснейший из опасных зверей, вроде какого-то Дракона, пожиравшего некогда и простой и непростой народ, а после всяких никому не нужных формальностей и несообразностей обыска предупредительно усадили его на извозчика, и жандарм – спутник его добродушно сказал извозчику:
– За город, милый, на дачу, самая пора теперь на дачу… пошел!
* * *
Долго ожидаемый тюремный начальник наконец явился. Старик видимо давно уж улегся на боковую, и возбужденный, спросонья имел вид не то отчаянно-пьяного, не то угорелого человека, которому не только двигаться и делать что-нибудь, а просто тошно на свет взглянуть. И, выполняя предписанные ему законом правила приема арестантов – осматривая Пташкины вещи и голого Пташкина и ощупывая Пташкина до потери всякого стыда и гадливости, он сопел и тыкался, а когда принялся записывать в большущую книгу, тоже установленную законом, его морщинистая сонная рука сажала кляксу на кляксе и, не слушаясь здравого смысла, попадала как раз не туда, куда следовало, – ив графе поступления в острог стоял март месяц, а в графу месяца попал Василий Пашкин. Окончив с грехом пополам всю чепуху приема арестанта, старик надел форменный теплый картуз и старую затасканную шинель и, не глядя, вышел из приемной, чтобы идти досыпать свой старческий сон, беспрестанно прерываемый и острожным днем и острожною ночью.
«Эх, – думал старик, – и есть же такие счастливцы, как полицеймейстер, спи, сколько влезет!»
«Эх старик, старик, не в том дело!» – подзвякивали на его же собственных обузных сапогах его смешливые шпоры, нагоняя на старика бессонницу.
Появившийся, словно выросший из-под земли, бородатый надзиратель в валенках повел Пташкина по лестнице через путаные коридоры в верхнее помещение и, помешкав у дверей камеры, принял от другого надзирателя жестяную лампу привычно и легко, как привычно и легко брался когда-то за соху, отпер камеру и, как когда-то скотину в хлев, впустил Пташкина.
– Сегодня из вашей только что одного выпустили, гладкого из себя, пожалуйте-с! – поправился надзиратель, произнеся острожное пожалуйте-с.
– Клопов много? – спросил Пташкин, принимая лампу и зная уж по опыту, что о клопах спросить никогда не мешает.
– Попадают в щелях, известно, народу тут всякого пребывает много, напролом так и идут, спокойной ночи! – и, заперев камеру за Пташкиным, надзиратель пошел ходить по длинному коридору между спящих камер от окна к окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.
«Эх, – думал бородатый, – и есть же такие счастливцы, как начальник, спи, сколько влезет!»
«Эх, бородатый, бородатый, не в том дело!» – подшлепывали его же собственные ворчливые расползающиеся валенки, нагоняя на бородатого какой-то знакомый ему, испытанный еще в детстве лесной страх.
Глава третья
Пташкин, оставшись один, внимательно осмотрел свое новое помещение – свою дачу.
По размерам камера оказалась просторнее всех комнат, какие приходилось ему занимать на воле. Видно было, что камера не одиночная, а общая – душ на десять и, должно быть, предназначавшаяся для тех, кого собирались подержать подольше. Два высоких окна, обеденный стол, и если бы не огромные нары вдоль всей стены, смежной с другой необитаемой камерой-умывальницей, просто танцуй и дело с концом. И нельзя сказать, чтобы было не чисто, – деревянный пол заботливо вымыт, а тюфяк в углу нар такой тугой, словно бы не соломою, а мочалом набит. Лечь можно, да и как еще выспаться, а выспаться самая пора.
Пташкин разделся и лег.
И, мысленно пройдя все прожитые дни, слившиеся в один вчерашний день, и все вечера, собравшиеся в один вчерашний вечер, Пташкин принял всю начавшуюся свою острожную жизнь, как нечто неизбежное и необходимое, что должно было рано или поздно наступить. Но в душе его вдруг поднялся поперечный голос и задавил все уживающиеся голоса.
«Эх, и счастливые же, счастливые эти все там, за дверью, на воде!»
А ламповый огонек, среди глубокой ночи такой нестерпимо яркий, пробившись сквозь веки в глубь глаза, запрыгал изводящей, убегающей огненной точкой.
И Пташкину казалось, будто идет он куда-то, а какая-то огненная точка все прыгает перед ним и поймать ее не дается, а уйти от нее – не схоронишься. И не огненная точка, а живое огненное существо кривлялось перед ним: «А меня-таки можно поймать, ну-ка – ну-ка —!»
Проснулся Пташкин, уж день начинался. Проснулся Пташкин от страха: приснились ему красные раки, будто ползут на него такие красные раки, как вареные, и явственно живые, и загребают раки клешнями, хотят его съесть и больше никаких.
Сон оказался в руку: вся подушка и простыня пестрели кровяными пятнами, но это были не рачьи загребающие клешни, а раздавленные клопы, и кругом тюфяка целая стая клопов, недовольно уползающая в свои темные и тайные, одному Богу ведомые норы и гнезда.
«Вот тебе и дача!» – подумал, одеваясь, Пташкин, и начиная свой первый острожный день.
Грязь и скорбь старой просиженной камеры при скудном свете, проникавшем через полузабытые пыльные окна, выступала во всей своей неприкрашенности, сиротливости и тоске подневольного приюта.
– Да, конечно, дача! – уже громко сказал Пташкин, вспомнив, как один хозяин-дачник клялся жалующемуся дачнику-жильцу на всякие дачные беспокойства и уверял всеми святыми, что дача без клопа, что птица без крыла, ничего не стоит.
Глава четвертая
Там на воле уж так хорошо – все распустилось, землю пахали, река пошла, – так было хорошо, что лучше и не могло быть.
Одна беда, ведь, там на воле всегда было некогда, не было времени ни пройтись, ни книгу прочесть, а тут, на этой даче, когда книга была пропущена, читай да читай, сколько влезет.
И Пташкин по целым дням читал, и незаметно проходило его дачное время.
– Ну, что клопы? – осведомлялся бородатый надзиратель, сам незаметно, как клоп, вползавший в камеру, и книга откладывалась, начинались дачные разговоры.
– Ничего, понемногу покусывают, вот тоже блохи.
– Это оно, жилище-то ихнее, его надо заделать, тогда они сгинут. У меня на кухне завелись клопы, я их жилище-то и замазал, и хоть бы один, все пропали. Против шкурки их… от шкурки уж житья нет, ничем, ты ее не выведешь. Вот прусак, тот кусает больнее, зато редко.
И бородатый надзиратель вдруг, как прусак, пропадал.
Камера заперта. Пташкин снова один с книгою,
Под дверью Пташкиной камеры излюбленное место собеседования каторжан.
– И идет нас целая партия и все на восток прямо до Ядовитого океана до города Ихняго, к которому нет приступа, а на север Кавказские горы станут, – повествует какой-то каторжник из своей каторжной географии.
– А Урал? – перебивает неуживчивый голос.
– Зачем Урал?! Урал, вон где, а Кавказ тут станет, а вон Ядовитый океан, всю землю омывает.
– А Херсон?
– Дура! Херсон под Киевом, Херсон на другом конце света. Н идем мы, и сами уж не знаем, куда идем, лес за лесом, реку за рекою, море за морем, конца-краю не видно.
Каторжная география путаная. Каторжная повесть долгая. И никогда бы не кончалась, и никогда бы не распуталась, если бы за мирною беседою не следовала непременная ссора. И долго перекатывается под звон кандалов, отборная русская ругань, и кажется вовсе и не руганью, а какою-то полевою свирелью, свиреющей наперекор всем птичьим ладам и свистам, где-то в широких лугах у Ядовитого океана, омывающего всю землю у города Ихняго, к которому нет приступа.
– Кусают? – осведомлялся другой уж безбородый надзиратель, сам незаметно, как клоп, вползавший в камеру.
– Кусают, – вздрагивал Пташкин, и книга откладывалась, начинались дачные разговоры.
– Сковырнуть надо это их жилище… Ты его лови, не лови, клоп жить будет, раз его жилище цело. Вот прусак, этот редко, а клоп… жить будет.
И безбородый надзиратель вдруг, как прусак, пропадал.
Камера заперта. Пташкин снова один с книгою.
И оканчивался день.
Долго гремела молитва. И не молитвенно-разухарской песнею, разухабистою погудкою катились по тюрьме последние слова крестом твоим жительство.
Наступал вечер. Запирались все камеры. Тишина входила в тюрьму. И только часовые ходили по длинному коридору между затихших камер от окна к окну, загороженному лето и зиму крепкою решеткою.
– Вот это, скажем, яйцо курица снесет в апреле, а другая в мае, ну так вот разные бывают яйца…
– А у вас давно куры несутся?
– Слава Богу, с Пасхи несутся.
Пташкин прислушивался, и ему казалось, не часовые под дверями его камеры разговор вели, а что-то в щелях нар разговаривало.
В восемь велено было ложиться спать. Пташкин ложился, но спать не спал, все ворочался, слушал, все прислушивался.
А там на воле уж так хорошо – поспевали красные ягоды, дозревал хлеб, – так было хорошо, что лучше и но могло быть.
Глава пятая
Всякий день Пташкина водили на прогулку. С прибауткою выводили Пташкина на прогулку.
– Без пяти минут пять, пожалуйте гулять! – сказал бородатый надзиратель и добавил, – пожалуйте в баню.
«Дача дачей, а все-таки не мешает и, в город съездить, поразвлечься!» – вспомнился Пташкину разговор двух приезжих в город дачников, входящих на бульваре в отделение для прохожих.
Предстояло развлечение.
– Нынче в новую, – тряс бородатый бородою, – потому, как старую сломали, а находится она за стеною.
Пройдя через двор, Пташкин с бородатым вышли за ворота и свернули на огород, расположенный у острожной стены. Среди гряд стоял шалаш. Это и была новая баня.
– Вы сюда, под рогожку, нагнитесь, сюда, вот так. Походная, лагерная, проход небольшой, вот так.
Пташкин, не рассчитав, сделал слишком большой шаг и попал в яму для стока воды.
И началось развлечение. Извлеченный из ямы, Пташкин покорно разлегся на лавку, и работал березовый веник по его раскрасневшейся от пара спине.
– Пригнитесь, вытяни ноги! – кричал, впадая в раж, бородатый, напаривая насмерть до смерти перепуганного Пташкина.
– Хлеб наш насущный дашь нам есть! – разухабисто неслась по коридору вечерняя молитва, когда, выпарившись, возвращался Пташкин к себе в камеру, и в глазах у него мелькали и капустные гряды, и синее вечернее небо, и пчелы, опевавшие заходящий день.
И запертый снова, оставшись один в камере, где даже стенам опостылело стоять, Пташкин почувствовал вдруг, что читать он больше не в состоянии, не может он читать книгу, не понимает ничего, и пускай книга сама по себе вещь очень хорошая, но тут она противна ему, невыносима, совсем не нужна, и также почувствовал он, что больше он уж не может спать и не отоспаться ему в этом проклятом логовище, в плену у какого-то всемогущего великого клопа, от которого все зависит, и его жизнь, и жизнь всей земли, омываемой Ядовитымокеаном, с неприступным городом Ихнием. Все, что угодно, только ни минуты здесь, ни одной минуты он не хочет оставаться. И пускай лучше пристрелят его, но он уйдет отсюда, он бросит все и пойдет.
– Эй, караул! – закричал Пташкин, ударив кулаком и дверь, и вся его жалкая фигурка заколыхалась от поднявшейся в нем богатырской силы, готовой разнести не только дверь, но и побольше.
– Чего вы кричите? – клопом вполз бородатый надзиратель и невозмутимо смотрел на возмущенного, не унимавшегося Пташкина.
– Прокурор! Караул! – кричал Пташкин.
– Прокурор был и только что уехал на дачу.
– На дачу? – переспросил недоверчиво Пташкин.
– Известно, летнее время, куда ж больше ехать. Все господа ездят на дачу, а прокурору казенная полагается, – бородатый ухмыльнулся и, желая, должно быть, объяснить разницу казенных дач, добавил с расстановкою: – это вот на вашей даче, ваш брат все в одном положении и лето и зиму, а господа только летнее время ездят на дачу. Спокойной ночи!
Глава шестая
Прошло лето, и осень прошла. Осенью, как и весною, тяжко было за стенами. Началась зима. А Пташкин и вправду оставался все в одном положении на своей даче.
И дачнаяжизнь его была похожа на ту отупляющую, недачную жизнь его на воле, только вместо работы, под тяжестью которой мутились все его мысли, тут расседался он весь от праздности и тоски. Каторжный день сменялся ночью, ночь приносила убогий сон и, уходя с рассветом, передавала убогую жизнь каторжному дню.
– Если все дело заключалось в борьбе за освобождение от каторги завтрашнего строго размеренного несвободного дня, то какой был смысл того свободного дня, который и конце концов гибелью целых поколений будет завоеван и должен прийти?
Ни спрашивать дальше, ни отвечать не мог уже Пташкин, – просто сил не было.
Одно желание, единственное наполняло все его существо: выйти на волю!
И па желанная воля везде одна стояла перед Пташкиным.
Она гляделась из глаз старика начальника, полицеймейстера, прокурора, она таяла в улыбках бородатого и безбородого, она разливалась лазурью по небу, она говорила в лесном шуме, она чирикала в воробушке, она сверкала и гремела в грозе, она цвела в цветке, она колосилась в травах, она подымалась паром с земли и, звездами вспыхивая в ночи, неслась над землею, везде она – одна она, единственная вольная воля.





