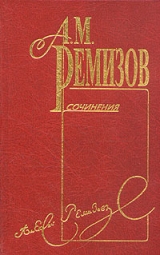
Текст книги "Том 3. Оказион"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц)
Новый год *
Снежный был день.
Снежинки летели молча, – конца не видать. Пришел вечер, принес темноту, и в темноте без пути шел снег, засыпая дороги и крыши и городьбу.
Пришел Васильев вечер – новый год.
Было тепло. Так в февральскую распутицу бывает тепло.
В запушенных окнах горели огоньки. Тиририкала где-то гармонья одноголосая.
На колокольне поверх жилья с оттяжкой звонили ко всенощной. Мешал ветер звонить, уносил звон в поле да в белый лес.
Винную лавку заперли. Сиделец с ключами пропал в снегах: больше не проси – ни вот столько не даст.
У покачнувшейся убогой избы копошились два лохматых взъерошенных тела, а из распахнутой двери белый валил пар.
– Сволочь, паскуда! – гудел запекшийся мужской голос.
– Не пущу, говорят, не пущу! – с воем в ответ визжала баба.
– Фекла, будет, слышишь…
– У, окаянный, разорвала бы тебе харю твою поганую, стерва ты занавозная.
– Заткни глотку, Фекла, слышь, не в комнатах…
– Рвань ты коричневая, полосатая! Не допущу я срамоты на себе: пялить бы тебе пугалы свои дурацкие, нет… барыни! напакостить мне на твоих барынь!
– Ну, не пойду, слышь, не пойду, – сдался было сапожник, да видно шило кольнуло куда, развернулся и ну колошматить: – лахудра ты, шлюха грачевская.
– Душат!!! черт! – взвизгнула баба – свинья резаная и, уродливые закувыркались круглые Кирилл да Фекла и молча давили друг друга, крепко обнявшись, – не разберешь.
Не звонит колокол ко всенощной, замолчала гармонья одноголосая, тихо на улице. В окнах огонек подергивается краснотой, сочась сквозь снега тихо на улицу, не тявкает Лайка – пушистая, дремлет под пушистый снег; не спят одни вострые ушки да тоненький нос.
Налево пойдешь – много верст, – один снег; направо пойдешь – много верст, – один снег.
Кудрин, закутанный в огромную шубу, весь в снегу надорванно-молча пробирался среди снега. Чуть еще померкал день, как вышел он из своей комнаты, обошел город десятки раз, и теперь опять возвращался домой.
Васильев вечер – новый год или пустынность и глушь и без конца дорога пробудила в нем другие годы, другой город.
Да и так никогда – разве он мог? – никогда не забывал о них.
Там было не так: застроенность города, живые, движущиеся улицы, фонари, экипажи – и ни одной птицы; там было не так: суетня, сутолка и спешка на всех парах. А над всем одна мысль, и вся душа пронизана только этой одной мыслью. Подымалась она с зарей – зари там не видно, замирала с зарей – зари там не видно, и ночью будила и бунтовалась.
А имя ей – вольность.
В книжках, в театре, даже в опере он искал воплощение борьбы за нее. И если не находил, шел мимо.
Год за годом – сердце не улеглось, не остывала горячка.
Что только не приходило в голову? – и все это теснилось и прыгало по струне прямо в ту бесконечность: там, не потухая, горело вечным светом это одно слово, этот единственный звук.
Не было буден, не было ненужных, докучливых минут. Шибко и гордо бились минуты, час за часом, год за годом.
И та, которую он встретил, представлялась ему его вечной спутницей до последней минуты там… Так уж пошло: в той бесконечности, где горит единственный звук – это одно слово, стоит столб, на столбе перекладина.
Эх, если бы тогда… какое счастье, веруя, умереть! кончилось ничем. Попал сюда. И ничего не сделано. Вот и все!
И опять вспомнилась она такой, как ее встретил: эти глаза, в которых читаешь обреченность и горят огоньки необузданной страсти и смеха…
Да… они шли с «Ревизора», – Кудрин вобрал в себя воздух, а с воздухом и всю память о ней, – шли вместе, и ему стало вдруг ясно, что он всю свою жизнь только и искал ее, только и думал о ней и говорил свои слова так, будто она их слышала. Ему показалось тогда, что и она в тот миг то же подумала. И они молчали. Может быть, ему только показалось тогда…
И клялись на всю жизнь: они пойдут вместе, они умрут вместе… никогда не забудут, не оставят друг друга.
– Она и умрет.
– Да… но…
Кудрин схватился за карман: в кармане на донышке в истрепанном синем конверте хранились несколько писем; три года назад, в первый год своей ссылки, он получил от нее эти письма…
– То-то, забыла, – протянулся из глуби сердца нехороший голос.
– Забыла, – беззвучно сказал Кудрин и передернулся.
В кулачок сморщилось тело.
И одиноко у него и холодно на душе. И забился бы в снег и плакал бы… И странно ему: он когда-то уж все это пережил. Да, гулял с нянькой, отстал и заблудился. А потом хватились… Нет, не все так: на нем теперь огромная неуклюжая шуба и позвать некого.
– Ай-ай-ай, какой ты! – смехом протягивается из глуби сердца нехороший голос, – какой ты – смешной!
Но ему уж нет дела, какой он: смешной или не смешной, ему все равно; и если бы сию минуту мир провалился или… пускай мир в тар-тарары летит – пускай! – ему ничего не надо.
– Ай-ай-ай, какие глупости! – смеется нехороший голос, и Кудрин начинает смеяться этим мелким, не своим, захватывающим дух смехом.
– Свобода! – заливается нехороший голос, – какая свобода! – и, трыкнув, острой слезинкой шпыняет сердце.
А он стоит на дороге – весь не больше горошины, тоньше соломинки, а шуба на нем гора-горой.
Беспомощно глядит вокруг, а позвать некого.
* * *
Домик, в котором жил Кудрин, стоял особняком прямо под ветром на берегу. Дурная о домике ходила слава; и красные занавески в окнах хозяйкиной половины настраивали на игривый лад. Впрочем, как водится, всякий считал нужным плюнуть и выругаться, а шепотом сказать что-нибудь такое, от чего слюнки текли. Такой уж подлец человек, большого с него и не спросится.
Зимой жутко: без огня вечером зря не шатайся, – то в баню волк затешется, а то и еще какой грех – и укокошат спьяну и надругаются, – за этим в карман не полезешь.
А ветер свистит, обсвистывает домик, выворачивает с реки белые широкие полосы-лыжи, подымает их столбом на страшную высь и, закалив там в поднебесном холоде, пускает гребнем на землю. И чешет белую землю, расчесывает ледяными зубьями до черной плеши, аж пар валит. А солнце, такое красное, когда на масленицу впервые оно выкатывается из тьмы дымов, словно из жаркой бани, – такое красное. И немо стынет до заполдня разверзшейся пастью.
Из домика все видно, не надо и на волю выходить.
А вот весной пройдет лед, встанет лес, зацветет берег, заалеет остров… не насмотришься. Медная ночь. Она все обнажит, прогонит всякую тень, и, Бог знает, кто только не скажется… Целые жизни выходят из леса, подымаются с полей, целые жизни плывут из реки, катят с гор и забредают сюда и пляшут у домика. Она перевертывает мир вверх тормашками, медная ночь.
А там за знойным летом осень.
Осень, – когда золотой лист летит, не держится на дереве и не найдешь в лесу ягоды, – одна ягода да и та горькая – рябина. Из полей перебираются змеи в лес, уходят в землю. Тешится Леший последние дни над соломой, смеется; и ему черед провалиться сквозь землю и до весны уж не выскочить.
Пролетят гуси. Вон журавли.
Колесом дорога! колесом дорога! – закричат ребятишки.
Ну, кричи не кричи, – не услышат, не остановятся; они не остановятся – зимы не задержат.
Осень.
Ночь обтыкалась чистыми звездами. Постелился Белый путь. Занялись Девичьи зори – три сестры – недоступные, три сестры – проклятые, весь век им гореть зарей.
Ветер-баюн трясет ветвями – убаюкивает.
В домике свет зажигай!
И красные надуваются занавески в покосившихся окнах.
* * *
Дверь отворил наборщик Козел.
Кудрин сконфузился.
Поскорее протер очки. Сказал:
– Там такое творится, все глаза залепило, даже до… слез.
– А я давно поджидаю вас, – подмигивая единственным глазом, юркий и вертлявый, семенил Козел в валенках, – жду, а сам себе думаю: и куда это могло занести вас в такую скверную пору. Почта пришла, перечитал все газеты, мне, как сами знаете, Александр Иванович…
Поставили самовар. Приготовили все, что нужно, к вечеру.
Кудрин сел к столу за газеты.
Козел, не умолкая, тараторил.
Козла не любили. Целыми днями слоняясь из дома в дом, каждый раз заводил он одно и то же, рассказывал вечно одну историю: и о своей тюремной жизни, и о том, как болят у него глаза, и что поделывают остальные. Работы у Козла не было, подходящего к его ремеслу ничего не могло найтись – одна слава, что город, а любое село просторнее! Никаких книг и газет не издавалось, и речи об этом не могло быть.
Но Козел не мог примириться. Не пропуская ни одной газеты, он вечно критиковал их, разбирая по косточкам все тонкости печатного дела. И было так, будто завтра же он начнет свое дело на удивление не только этой норе дьявольской, но и всему честному миру.
Жил он не один, а с женой. Жена его – портниха, как-никак, а без работы не сидела. Ну, а ему что делать? Дома болтаться, только мешать, вот и, знай, шатается.
– Я вам скажу, Александр Иванович, по истинной правде, все они, с позволения сказать, свиньи. И чем они заняты? Им бы только пьянствовать. Кирилл с женой чем свет за драку принимается. Иван шашни завел со здешней… Давиться хотел. К жене помогать девочка ходит, так рассказывала – сама видела. Подумайте, пошел в сарай, отстегнул там себе помочи, да на помочах… Хорошо еще, вовремя захватили. Тоже и компанию водят! Нечего сказать, хорошая компания! И я, как старший, я не могу сказать этого? Больно видеть, Александр Иванович, я в тюрьме двадцать два месяца высидел, глаза лишился…
Правда, другие находились в лучших условиях. Слесаря, сапожники, они скорее могли найти себе заработок. Но то, что выпадало на их долю, было настолько мелко притронуться пропадала охота. Все это какие-нибудь починки, которые под стать разве мальчишке, но никак не мастеру. И часто сидели, сложа руки. А сидеть, сложа руки, невозможно. Ну, и бывал грех. Козел принимал это к сердцу, раздражала его еще и та непочтительность, с которой относились к нему.
– А интеллигенты! – перекосился Козел, – Бирюков знать никого не хочет, его и дома никогда не застанешь, все в лесу, а вон Дальская… да нешто можно так: я, как рабочий человек, и потому, значит – толпа. Да какая же я толпа, сами посудите?! – и Козел петушком прошелся с одного конца комнаты на другую и обратно, – а раз я – толпа, значит, все: и дурак, и негодяи и скотина… Жене тоже за кофточку второй месяц не платит.
Кудрин бросил газету, уставился на Козла. Ему хочется сказать, что все это неправда, что это просто нехорошая сплетня, и он стучит спичкой о коробочку, говорит глухо:
– А не скоро еще нам отсюда…
– Мне, как агитатору, – жеманится Козел, – сами знаете…
Закипел самовар.
Козел рассказывает газетные новости, которые только что прочитал Кудрин, и долдонит без конца.
Понемногу подходят другие.
* * *
Кудрин собирался чем-нибудь занять этот вечер, выделить его из других вечеров, таких однообразных с пересудами и переругиваниями.
Он прочтет им, он напомнит о их прошлой жизни, вызовет их лучшие воспоминания, введет в тот мир, где они раньше жили, и разбудит ту душу, которая их двигала.
Разве они не были правы? Разве их бунт не сама правда? Они хотели жить лучше. Кто же не хочет жить лучше? Они верили, добьются своего, победят старый мир. А на его место воздвигнут новый. И будет на земле – рай.
А, может быть, в этой борьбе за лучшую жизнь таится глухой бунт против того страшного закона, которым раз навсегда положено человеку здесь лишь мечтать, но никогда не увидеть этого рая,
Почему я должен только мечтать?
А если я его и не хочу совсем, или хочу вот чтобы сейчас, а после там, когда-то… да плевать мне на все.
А они глубоко верили! Не от одного же отчаяния обрекли себя на голод и тюрьму и смерть. Они не боясь ее, отдавались ей: пусть их телами она задушит этот мир и сама задохнется, а из их крови встанет новый – и бессмертный.
Кудрин читал.
Книга мало подходила к его мыслям. Но ему казалось, именно этими словами он и передаст всю свою душу.
Почему я должен пресмыкаться, а в награду за мое рабство только мечтать?
Кто положил закон? Зачем положен закон? И разве нет силы снести с земли эту твердыню и рассеять ее навсегда?
И если все это так, где же вольность? где искать ее?
Нет, – человеческой жертвой, человеческой мукой земля возьмет свою свободу.
Кудрин слышал свой голос, но этот голос был не его, а чей-то повелительный и грозный, – ее.
И он не может не повиноваться ей.
Он поползет на коленях и будет собирать прах от ее ног и будет просить ее, не смея сказать, просить этими глазами, и пусть она ударит его по глазам, пусть она еще и еще ударит его, только бы позволила идти за ней.
– Да, человеческой жертвой, человеческой мукой вы возьмете рай и не в мечте только, а здесь!
– Был у нас один сапожник Флотов, – насколько мог тихо сказал сапожник Иван Козлу, – колбасу любил до страсти. Так он, ты мне поверь, тоже говорит раз, будто рай действительно будет и самый настоящий вроде какой-то огромной повсеместной колбасной: и ешь и нюхай, сколько влезет
– В колбасных ловко пахнет! – обрывисто заметил Козел и, отвернувшись от Ивана, закрыл свой единственный глаз.
Кудрин продолжал.
Он уже ничего не понимал, сами собой выговаривались строчки, сами собой выкрикивались фразы.
– А еще был у нас такой Лаврун, – шептал Иван, – хоть что хочешь, сделать может. Вот мы и поспорили раз, а он и говорит: хотите, говорит, я сейчас нагишом в муравейник сяду и, не пикнув, высижу четверть часа. Ан, говорим, не сядешь! Ан, говорит, сяду! Лес, как тут, неподалеку. Вот и отправились. Нашли кочку. Спустил он с себя штаны да, не говоря худого слова, и плюхнулся. Так они его, поверь мне, как есть выели, сам я осматривал. А ему хоть бы что, оделся да и домой. Только после все почесывался.
– Конечно, – отозвался шорник Лупин, – муравей не бумажка…
– Ха-ха! – кто-то не удержавшись громко захохотал.
Кудрин читал.
И не видел ничего вокруг себя, не замечал, что творилось в комнате, – он видел ее, она одна стояла перед ним такая, как ее встретил…
Комната, между тем, набивалась публикой.
Это с хозяйской половины завсегдатае гости. Дверь не была заперта: какой-то один зашел полюбопытствовать, а за ним другой, а за ним и третий. Сначала скромно и тихо. Но потом от тесноты ли, либо оттого, что некоторые были не в себе и хоть кричать не кричали, чтения вовсе не было слышно.
Комната дымилась: по полкам и потолку лез табачный дым и медленно спускался на пол грудой окурков.
Свободного местечка не было.
Чьи-то руки, будто отделенные от туловища, висели в увязающем воздухе, сливались друг с дружкой и разлипались, и какая-то нога, лебезя, все ходила кругом, да подковыривала.
И вот чей-то палец кривым толстым ногтем принялся водить по книге.
– Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Но Кудрин все еще бормотал что-то, отгоняя назойливый палец, как муху.
– Скажите, пожалуйста, как вас зовут? – и что-то шершавое погладило его руку.
Книга упала под стол.
– Я вас где-то встречал, – тянул тот же спотыкающийся голос.
– Вы г-н Кудрин, позвольте с вами познакомиться, я – Пундик!
Кудрин оторопел.
– Я ничего не понимаю, – сказал он Пундику.
– А я все понимаю, я – паспортист, и все это ерунда.
– Вот, вот видите, – загородил Пундика Козел, – вот она…
И отливаясь, долбили крики и разговоры.
– Вы, как хозяин, – тянул спотыкающийся голос, – эту ночь веселей… проведем.
– Это черт знает! – слесарь Гаврилов, обозленный, поднял кулак.
– Ура! – заорала комната, – ура!
– Дура-дура! – пересекались крики.
Должно быть, пробило полночь. Хлопало, пузырило, чокалось.
Несколько рук потянули Кудрина.
Полон стол был в бутылках. Натащили гости.
– Обязательно – как хозяин – с новым годом, – тыкали Кудрина.
– Александр Иванович, а Александр Иванович, – подчивал сапожник Кирилл, – а это мое приобретение. Фекла принесла, сам коптил, сам солил.
– Яичка-с, яичка-с, – латошил какой-то скользкий.
Кудрин не сопротивлялся.
– А колбасики, Александр Иванович, а Александр Иванович, сам коптил, сам солил.
В глазах зеленело, подкашивались ноги. Отшибало память.
– Может, нам продолжать чтение? – спросил растерянно Кудрин.
– Черт с ними, лучше уйти, – сказал Гаврилов.
– В сарай? – захохотал Лупин.
– «Во пиру была, во беседушке…» – завизжал вдруг пьяный старушечий голос.
Расступились.
Посередь комнаты не ходила, а сигала хозяйка-старуха, размахивая сулеёй во все стороны.
И шла прямо на Кудрина, зацепила его незанятой костлявой рукой. Проливая водку, полезла целоваться.
Кудрин не сопротивлялся и, как ни противно, поцеловал пьяную старуху. Но старухе мало было, она хотела еще, еще раз, – и липкий, беззубый ее рот тыкался в его губы, старался прикусить и подержаться, а лягушачий ошпаренный язык норовил послаще всунуться…
Хохот перебивал все крики.
– Ай-да бабушка!
– Да она любую за пояс заткнет, ха-ха-ха!
– Ху-ху-ху!
– Саня, Саня, – куёвдилась старуха, – ух, хвостом пройдусь, сверлит, тело прыгает, ух! да – а, во пиру была…
– Александр Иванович, а Александр Иванович, – жужжал на ухо сапожник, – сам коптил, сам солил… варененькой… копчененькой.
– Я вас обидел, раз-дра-жил! – хватал за руку телеграфист, – я, можно сказать… мы пришли без позволения… чтение послушать… как какие-нибудь свиньи-нахалы и тому подобное.
– Ну что ж, что старуха, – я знал одну.
– Дохлая кобыла.
– Нет, не дохлая.
– Ну и черт с тобой!
– Я стыда не знаю, – кричит осипший голос, – кой стати Богу молиться, я – старуха!? – и, пожимая плечом, хозяйка снова зацепила Кудрина и молодецки, будто в двадцать лет, чижиком закружилась с ним.
Он выделывает невероятные прыжки, подпрыгивает мячиком и одного хочет: удержаться и не упасть.
А может быть, он просто мячик, а все остальное – недоразумение? Очки запотели, ничего не разбирает. Только один рот ошпаренный, сжимающийся, как резинка, летает в глазах.
– Али скачет, али пляшет, али прыгает, – причитает старуха, приговаривает, – ух сейчас, ух пойду, пойдем Саня в баню – в баню.
И не вынесла нога: со всего размаха грохнулась старуха, а за ней и Кудрин. И сулея кокнулась: брызнув, полилась водка по полу.
– Я вас обидел, можно сказать, безобразный труп ужасный, я раз-дра-жил?
Несколько человек бросились на хозяйку. Откуда-то появилась веревка. Стали веревкой скручивать.
– Сволочь, целую бутылку, эка сволочь!
– Охо-хо – подлец – перепелястый черт – хо-хо, – стонала старуха.
Кудрин брыкнул кого-то каблуком и поднялся. Очков на нем не было.
Накинув плащ,
С гитарой под полою…
И один какой-то голос взял вразрез всем голосам: и стало мутно и душно.
Затиририкала гармонья.
Старуха, со связанными ногами, ползла на цепких руках и плакала.
Ударились в пляс.
Ноги и руки бултыхались, егозя под самым потолком.
С Козла стащили куртку и штаны, И в одних валенках, скрестив руки, семенил он от печки до полки, залихватски заводя ногу за ногу, как заправский танцор.
Было так, будто плясала одна валенка с черной бородой, об одном глазе.
Глаз подмигивал.
А перед Козлом не плыла, а скакала Фекла, подбирая высокую юбку, и так скалила зубы, будто кусать сейчас кинется. Шерстяные вязаные паглинки на толстых ногах заполняли комнату; и непреодолимо тянуло поймать ногу и ущипнуть.
В кучке, у полки с книгами, разместившись поудобнее, тишком кусали кому-то пупок для отрезвления. Кто-то сопел и захлебывался.
Кудрина тащили к столу выпить.
– Вы, можно сказать, как хозяин…
– Я все понимаю, – я паспортист…
– Сам коптил, сам солил…
Он ведь привык с проститутками шляться
Пылкие ласки от них получать.
Он ведь не сделает пылкие ласки…
– Хочешь, я тебе всю рожу раскрою?
– Ну-ка – э-э!
Среди каши, топотни и визга какой-то длинный с рыжей бородой навалился грудью на гармонью, и гармонья хряснула.
А слесарь Гаврилов, развернувшись, стал бить рыжего по голове и по лицу. И слышал Кудрин, тоненько заревел рыжий, словно ребенок, тоненьким голоском, жалобно.
Тоненький голосок проник всю комнату.
Паспортист Пундик, проливая рюмку, жаловался, что он все понимает и нет для него ничего непонятного.
– И все ерунда.
Какая-то девица, с расстегнутым лифом, ударяя кулаком по столу, растроганно объясняла полицейскому писарю, что жить ей тут невозможно и что она уедет в Австралию.
– И пущусь я в путь, прямо – в Австралию.
Кирилл и Фекла, морща носы, упрекали друг друга.
И еще какие-то тела на кровати, ни на что не похожие, не то смеялись, не то рыдали.
Кудрину вдруг захотелось взять перечницу и поперчить каждого. Но перечницы, как ни шарил, не мог найти.
– Я вас обидел, я раз-дра-жил? – тянул телеграфист.
– Сволочь, целую бутылку, эка сволочь!
Пусть он поищет волос умиленья
Пусть он поищет румяней лицо…
* * *
Знать, надоела гостям комната. Гонит хмель на улицу. На улице метель метет, оснежает окна, птицей заглядывает в трубы, обваливает кирпичи.
В комнате темь.
Но пропадает всякая надежда успокоиться.
За стеной пищит гармонья одноголосая, тяжелый каблук дробно выбивает по полу. Дверь отворяется: кто-то, шарахаясь, бродит по комнате, сбивает со стола бутылки, натыкается на стулья и тычет в Кудрина пальцами.
Все горит: и подушка, и кровать и воздух.
Хоть бы каплю холодной воды, один глоток…
– Попить! – просится Кудрин, как малое дитё, и вдруг холод сковывает все его тело, и душа уходит в пятки…
У него пять ног, он их ясно почувствовал… И онемевшей рукой пересчитывает; не может понять, откуда их столько? и онемевшей рукой пересчитывает.
– Что-что-что? – точит нехороший голос, точит, стучит маленьким красным язычком прямо под сердцем.
– Попить! – просится Кудрин, как малое дитё.
– Свинья! – отрыгнулось под кроватью чье-то мертвое тело и, широко зевнув, захрапело, поскрипывая зубами.
А он уж не может ни слова выговорить, он забыл слова, он никогда их не знал…
– Агу! Агу!
И лежит пластом и водит руками, ощупывается, пересчитывает свои целых пять ног.
– Агу! Агу!
А позвать некого.
За стеной пищит гармонья одноголосая.
Звонят в церкви к ранней обедне; далеко в поле относит колокол.
По хлевам скот договаривает свой ночной разговор по-человечьему, как всегда под новый год.
Пробуждается белый свет метельный, как метельной прошла ночь, встает новогодний день и торопится, чтобы прибавиться на куричий шаг.
Востроухая Лайка, проспавшись, лает на ветер.





