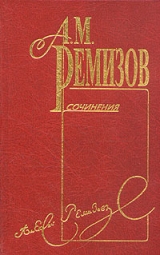
Текст книги "Том 3. Оказион"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
Про эту историю я как вычитал в газете и очень тогда меня растрогало все, и я себе все представлял этого бродячего погашенного Петьку среди нас горящих, и мне очень было его жалко. Потом я позабыл о Петьке, другое жалел, о другом думал, и вот вспомнил… а вспомнил я Петьку и всю его жалостную повесть при обстоятельствах самых плачевных – в жандармской комнате, в дежурной, на нашей границе.
Возвращался я домой в Россию из путешествий. В первый раз я был за границей, и немалого труда стоило мне за рубеж переехать – в Петербурге у меня не оберешься дела! – но жалеть не пожалеть, от всего не нашего был я тогда в восхищении, все мне казалось там и бело, и хорошо, и благодатно, ведь это уж потом, много спустя, я их грязищу-то вот как черпанул, в обе горсти…
Должен сказать, народ правильный и, конечно, как старших, есть за что и уважать и благодарить их – какую крепкую церковь построили они себе каменную, воистину: врата адовы не одолеют ее, прямо по колокольчику доведет до врат небесных! а какие мудрецы жили на их земле и подвижники, воистину: свет неизреченный фаворскийв явь видели! да и в обиходе житейском чего только ими ни повыдумано, ну, клопа, скажем, нашего доморощенного воздухом у себя вывели, разве что так последыши остались, в Париже живут, и мужик у них с голоду не пухнет, разве что так… а трудятся по-лошадиному и не без проку конечно, что говорить, есть за что уважать!
Но впервые-то, увидев у них только одну белизну, одну чистоту, одну благодать, я был от всего в большом восхищении и все-таки с неменьшим восхищением подъезжал я к нашей земле: ну, какая ни есть, а своя, и пусть мы раздорны и разбродны и дураки набитые – выгоды своей частенько, хоть и под носом она, вовсе не замечаем, мимо прем, и обойти нас не так уж трудно, пускай все это верно, не ложь, но, Господи, Троица наша с татар неколебимо стоит, и старцы по лесам еще не перевелись, тоже фаворские, и баня у нас есть, а порядку… ну, порядку и мы научиться можем, безобразничать-то и нынче не очень ловко становится, и не так уж мы все ленивы, как сами о себе на весь мир протрубили, а что если мы в вагон за час забираемся, то, ей-Богу, это везде, это и в самых первых городах их, все равно, как и везде, поезда опаздывают!
С нетерпеливым чувством подъезжал я к границе, к дорогой России нашей, лучше которой на всем свете ничего для меня не было.
Осмотрели мои чемоданы – недозволенного я ничего не вез, правда, много у меня было ненужного, да ненужное в расчет не берется, и паспорт мне выдали.
Взял я билет, сдал багаж и сел чай пить, – до горячего чаю охота большая была: конечно, там хорошо, там все хорошо, да только чай-то теплый подают, и никак, никаким словом не вдолбишь им, что теплого этого и даром тебе не надо, – сижу за столиком, пью чай горячий, и такое благодушие нашло, чувствую, распариваюсь весь, – эх, и кипяток же крутой!
Так приятно и час прошел. Минут за двадцать до звонка расплатился я за чай, хожу по тем местам, где мои чемоданы смотрели, хожу так – сейчас, думаю, и! покачу – покачу по родимой землице!
– Вы Баукин Петр Иванович? – имя и отчество и фамилию мою называют, жандарм называет, и откуда взялся такой, один Бог весть.
– Я, – говорю, – самый.
– А он рукой мне так – дорогу показывает:
– В дежурную пожалуйте, ротмистр вас просит! – а сам огромадный, поперек возьмет, переломит, вот какой.
А ротмистр, вижу, торопливо так проскочил, телеграммой помахивает. Уверенно иду, знаю, ничего за мной нет такого, чтобы что-нибудь. И пришел я в дежурную, и тот жандарм великий со мной. А там, в дежурной, их великих таких штук пять стоит, а комнатенка тесней и не придумаешь – как стал, так и стой.
Тут подошел и ротмистр.
Мой жандарм на меня ему:
– Вот они, – говорит, – которые по телеграфу.
Смотрит на меня ротмистр – молодой еще человек и чистенько так одет.
– Вы, – говорит, – Петр Иванович Баукин?
– Я, – говорю, – я самый.
– А чем, – говорит, – вы докажете, что вы самый Петр Иванович Баукин и есть?
– Как, – говорю, – чем, да вот же паспорт, сами же вы его только что мне выдали! – да скорее в карман за паспортом, паспорт тащу.
А ротмистр у меня из рук паспорт мой взял, повертел его, повертел, да жандарму тому великому, не глядя, и сунул.
Стоим друг против дружки, смотрим друг на друга, ничего я не понимаю и как понимать, не придумаю, а вижу, что он-то понимает что-то.
– Так чем же вы докажете, что вы и есть Петр Иванович Баукин?
Стоим, смотрим.
Тут-то вот и вспомнил я Петьку, вспомнил, как погасили мальчишку, и подлинно, душа у меня в сапоги ушла, и уж что ответить и сам не знаю: ехал я за границу таким-то, – и мысленно называю себе имя и отчество и фамилию свою, – а вернулся и уж не такой, – и мысленно опять называю себе имя и отчество и фамилию свою, – был Петр Иванович Баукин, и погасили! – стою, душа в сапогах, и нет на языке слова.
А ротмистр знай свое:
– Докажите и докажите, что вы Петр Иванович!
И, должно быть, вид у меня был жалости подобный, еще бы, когда тебя не признают за тебя, а ты сам и есть живой налицо! – и это вот понял ротмистр.
– Может, вас тут знает кто? – спросил ротмистр.
А кому тут знать!.. и вдруг вспоминаю, видел, в буфете, и как раз против меня за столиком сидел, тоже чай пил и тоже, как я, распаривался, благодушно, актер один, «всей России известный» комик Лалаев, и сам ротмистр подходил к нему разговаривать…
– Постойте, – говорю, – есть, сидит тут в буфете актер, всей России известный, Лалаев!
– Лалаев! Сидит, как же! – и ротмистр не без удовольствия повторил фамилию актера, – Лалаев!
– Этот актер Лалаев, – хватаюсь я за последнюю, только с перепугу и возможную, соломинку, – этот актер, человек образованный, он что-нибудь, может, слышал обо мне… из газет или читал…
Ротмистр необыкновенно готовно вышел справиться обо мне в буфет к актеру. А я остался один с моими богатырями в дежурной, в клетушке; признаюсь, и по смотреть на них мне было страшно.
Что-то очень уж скоро вернулся ротмистр.
– Нет, не слыхал, не знает! – ротмистр только пожимал плечами.
«Ну, значит, – думаю, – погасили!»
И уж что прочитал ротмистр на лице у меня, на погашенном, одному Богу известно, только сказал он мне как-то совсем по-другому, совсем не так, как встретил.
– По телеграфу вас задержать велено, – сказал ротмистр, – вот и карточка ваша! – да карточку мне прямо к носу.
И как глянул я на карточку, так не то, что вы сапоги, а из сапог уж вот-вот душа выскочит: поразительно, моя! я – вылитый, я! ну, все, и глаза и нос и даже шляпа, ну, с меня, с меня самого! а вместе с тем что-то, не могу уловить что, а не мое, нет, не я! И вижу, не я, а в чем дело, не догадываюсь.
И долго бы мне так в догадках мучиться, одно спасло – наитие Божие.
Снял я шляпу, да себя за ухо: то за одно, то за другое…
– Уши, – говорю, – видите, уши-то видите? – а сам все тяну, то за одно, то за другое, – не мои!
Тут и ротмистр нагнулся к ушам и все богатыри с ним – и откуда такой народ подбирается рослый! – все богатыри с ним уши мои проверять: посмотрят на карточку – и на меня и опять на карточку – и на меня.
– Ошибка! – услышал я, ротмистр сказал, – уши не ваши, совершенно верно! – и я почувствовал, как в руках у меня очутился паспорт, ротмистр в руку его мне сунул.
До вагона дошел я без шляпы: в одной руке шляпа, в другой паспорт. До вагона провожал меня ротмистр, и уж приятелями мы простились: с ним тоже раз было, это он мне дорогой рассказывал, тоже случай, чуть раз не погасили…
Три кукушки одна за другой прокуковали полночь – в ледяной избушке, в лубяной избушке и в пировых палатах. Оставалось только посошок, да и по домам – в путь добрый.
И на загладку обнес нас хозяин пряником, – заглядишься: ну, как сливки густые самые, такой на вид пряник, и конь на нем в упряжи вскачь несется, везет телегу, из Городца пряник, городецкий, а раскусить не то что там зубом, не возьмет и зубило! – а надпись: берегиса.
1907–1913 гг
За святую Русь *
Полонное терпение *
С. П. Ремизовой-Довгелло
1
На курячий шаг от русской границы, когда оставался какой-нибудь час пути, нас, душ триста русских, выгнали из вагонов и погнали на другую платформу.
С напиханными ручными чемоданами тащились мы, как попало, через пути на другую платформу.
Говорили, что паспорта будут проверять и после проверки отправят в Россию, говорили также, что, кроме проверки паспортов наших еще осматривать будут багаж и опросят, откуда и зачем человек едет, и, если найдут, что попал в немецкую землю по надобностям, отпустят в Россию, а если таких причин не окажется… Но дальше не договаривалось: немыслимо было, чтобы таких причин не оказалось, и в этом у всякого была полная и твердая уверенность.
Тесно окруженные солдатами, мы стояли на платформе своих чемоданов, веруя в исход благоприятный – вернуться в Россию.
И вдруг:
– В Россию ехать невозможно, дальше не повезут!
Ошарашенные, не веря словам, стояли мы, не двигаясь.
А с разных концов перелетало:
– Не повезут! Мосты разрушили, пути испорчены! – и падало на голову беспощадно и безысходно.
И когда понята была вся невозможность вернуться, никто, однако, не согласился принять ее, и, сдвинувшись с места, все затеснились к дверям, где стоял офицер, объявивший такую невозможную, недопустимую весть.
Неужто невозможно?
– Русские взорвали мосты, – дошло от той двери, где стояло начальство и распоряжалось.
«Ну, что бы, – подумалось, – подождать немного, ну, пропустили бы нас, а там и взорвали!»
Еще не обтерпелись, и всякий вздорный вражеский слух принимался за чистую монету.
Простая русская баба с лицом безвозрастным, нянька, с двумя сонными девочками и большим сундуком не трогались с места.
– Повезут, – стояла она на своем, – небось, повезут. Проталкиваться некуда было, у дверей стояли часовые, их и можно было спрашивать, но они ничего не могли ответить, как одно и все то же о взорванных мостах.
– Русские взорвали мосты, дальше не повезут!
Никто не глядел ни вперед, ни назад, глядели в землю на свои чемоданы, волей-неволей принимая подневольную участь.
И вдруг:
– В десять поезд уходит в Берлин, желающие могут ехать!
В Берлин! Назад? Ехать теперь?
И те, кто присел, покорившись, и те, кто еще не сдавался, все передвинулись.
– Ни за что! – так выговорилось в один голос, лучше тут переждать, пешком пойдем до границы, не надо нам Берлина!
– Скорее берите билеты в Берлин! – шныряли перепуганные и растерянные.
Подымаются чемоданы: может и вправду лучше ехать в Берлин?
– Лучше ехать в Берлин, – уговаривают несогласных, – тут уморят, а там уж как-нибудь.
И теперь только за деньгами дело. Русские деньги всех есть, а немецких много ль наскребешь, русские деньги не принимают и не меняют, без денег в Берлин не проберешься.
– Дайте мне десять марок! – хватает незнакомого незнакомый.
– А мне пять.
– Мне только двух не хватает.
– Все останутся тут, в Берлин нельзя ехать! – объявляет начальство.
Чемоданы опускаются: все останутся тут. И как это можно было подумать, что ехать в Берлин, конечно, лучше тут, чем опять в Берлин.
– А тут нас посадят в крепость.
– И пускай, и хоть на цепь сажают, а все-таки ближе к России.
– Повезут, – стоит на своем нянька, она с узелком возится: дети есть просят, – небось, повезут!
– Мосты разрушены, пути испорчены! – повторяется безнадежное.
«А может, все это одна выдумка, и на самом деле и мосты целы, и пути не испорчены?»
– Всех повезут в Россию! – объявляет начальство.
В Россию! В нашу Россию!
Побросав чемоданы, все срываются с места и толкутся к дверям, где стоит офицер, объявивший благую, желанную весть.
– Когда же, когда в Россию?
Какая-то молодая женщина с русским открытым лицом – сама Россия наша, громко заплакала,
– Да ведь мы едем в Россию! – утешают ее.
– Мы едем в Россию! В дорогую нашу Россию! – громко говорит она и смотрит сквозь слезы туда, где граница и наши поля раздольные и наш лес частый и наша дебрь глубокая, туда к сердцу России – к Москве.
Как-то неловко примостившись на ручных чемоданах, тихо, жалобно плачет барышня.
– Меня тут оставят, меня никто не возьмет с собой! – и бесполезно делает усилие, чтобы подняться, а встать не может.
– Я вас не оставлю! – говорит та, что от радости заплакала.
– Что с ней?
– Ноги отнялись.
– Когда же повезут нас в Россию?
– Слава Тебе, Господи, в Россию! – я положил свой ручной чемодан, – единственное уцелевшее достояние мое, сокровища римские: камушки с Форума и от Петра апостола, и стал пробираться к двери, очень пить хотелось. И когда добрался до двери, в вокзал – в буфет не пускали. Оказывается, отпущенные на всех нас, на триста душ, какие-то четверть часа, о которых я ничего не слышал, прошли, и двери заперли.
«Ничего не поделаешь, – думаю, – видно, потерпеть придется!»
– А наш багаж? – спросил кто-то.
– После войны получите, – сказал солдат.
– Сожгут! – сказал другой.
– Как сожгут?
Но солдат ничего не ответил: такое ли время, чтобы о багаже рассуждать, – усатый, как кот.
– И Бог с ним, с багажом, только бы самому-то живу остаться! – сказал какой-то с продавленной соломенной шляпой.
– Когда же в Россию?
– Скоро ли отправят нас в Россию?
– Когда в Россию?
Не стоялось на месте, все передвигались, только барышня та, у которой ноги отнялись, сидела на чемоданах, но уж не плакала, – ее не оставят.
– В полдень объявят! – передалась весть от запертой двери.
– В Россию! В дорогую нашу Россию!
2
На вокзальном дворе, куда согнали нас с платформы, разместились мы у своих ручных чемоданов под открытым небом в ожидании полдня, когда повезут нас в Россию.
Нас оцепили солдаты, и никуда не выйти, не пройти из цепи.
– Кто пойдет в город, того расстреляют.
– Кто пойдет в буфет, того расстреляют.
– Сиди смирно, жди и терпи!
И самые нетерпеливые и самые беспокойные понемногу затихли, и только Ира, с белыми косками девочка, никак не могла угомониться.
– Что сказал офицер? – вертится Ира, заглядывая в глаза матери.
– Офицер, деточка, сказал, потерпеть надо! – говорит невесело мать своей белокоске, – скоро и поедем.
– Когда поедем?
– После обеда.
– Я, мамочка, есть хочу.
Настал полдень. Скоро ли поедем? Нетерпеливо ждали распоряжений. Или и еще подождать придется? Да, подождать придется: лишь в три часа выяснится, когда повезут нас в Россию.
– Кто пойдет в город, того расстреляют.
– Кто пойдет в буфет, того расстреляют.
Сиди смирно, жди и терпи.
На глазах у нас приходят и уходят поезда: одни с границы, другие к границе, везут солдат и призывных.
– Мамочка, а как этот Берлин называется?
– Алленштейн.
– Алленлейн, – тянет девочка, – а что сказал офицер?
– Потерпеть надо, деточка.
Из города к станции подходит народ, разряженный по-воскресному.
«И у нас, поди, все разрядились, – думаю я, глядя на любопытных, разряженных, проникающих через цепь на нас поглазеть, – у нас нынче Ильин день!»
Закрапал дождь, не ильинский, редкий: этот скоро пройдет.
«Этот скоро пройдет, а у нас нынче гром гремит, катит грозный Илья по небесам в колеснице!» – и вспоминаю крестный ход в Москве, крестные хода в нашу Ильинскую церковь.
Три часа прошло и четыре, и пять, а распоряжений все не было.
В шестом часу у вокзальной загородки появился фертоватый солдатик и каким-то изнеженным картавящим голосом и как-то насмешливо объявил от начальства, что в Россию ехать безнадежно.
– В Россию ехать безнадежно! – повторил солдат распоряжение.
– Что сказал офицер? – беспокойно допытывала Ира.
Но ей мать ничего не ответила. И никто ничего не отвечал, и уж не спрашивали, спрашивать нечего было, раз безнадежно.
– В Россию ехать безнадежно!
Любопытного народу все больше и больше, одни останавливались за охранною цепью, другие проникали за цепь и стояли возле чемоданов наших, всякие: и молодые, и старые, – молодые люди с тросточками и сигарами, нарядные барышни, кумушки и детвора. И одни только смотрели на нас, как на зверей в зверинце, другие же держались вольно, беззастенчиво и нескромно рассматривая нас и зубоскаля.
Неужто нас тут оставят на ночь? Не верилось, а приходилось согласиться.
Мать с тремя девочками примащивалась на ночлег. У детей был не по-детски сосредоточенный взгляд, и от этого взгляда недетского некуда было схорониться.
Неужто и их оставят тут ночь ночевать?
Нас, душ триста, и среди нас много детей и больных женщин, и стариков, все мы не на войну вышли: большая часть возвращалась с курортов. С утра, как выгнали нас из вагонов, прошло времени немало, последние силы поистратились, и уж боль и немогота подняли свои жалобы.
– Был я у турок в плену, – рассказывает красивый старик из военных, – но такого не видел, ведь тут дети и больные, разве так можно?
И сам он совсем больной кутался в плед, и жена его едва держалась, перемогая открывшуюся боль.
Барышня, у которой отнялись ноги, лежит на чемоданах с закрытыми глазами, и та, что не покинет ее, сидит в ногах молча, терпеливая, гордая Россия. А вокруг любопытные.
– Важная русская дама! – говорит какой-то и лезет к ней с сигарой совсем к лицу.
А поезда все приходят и уходят: одни с границы, другие к границе, везут солдат и призывных. Призывные проходят как-то не глядя, – должно быть, нелегко было подняться: там дом и семья остались, да и хозяйство насиженное, А солдаты ничего, – влез в зеленую шкуру и совсем ничего, смотрит – защитник отечества! – только как-то не по мерке, не чета начальникам, у тех все словно кованно.
С каким-то вызывающим гудком подкатывают к станции изукрашенные флагами автомобили с военными, и вся разряженная толпа шарахается, как от пожарных, и опять собираются, все теснее и ближе подходят к нам на даровое зрелище, не сидится на месте, я все хожу, все слушаю и смотрю, заглядываю в глаза любопытных, нас рассматривающих, как зверей в зверинце, перехожу от тросточки с сигарой к бантику и кружевцам, от развязных кавалеров к хихикающим барышням.
Сквозь солдатскую цепь и толпу любопытных протиснулась старая старуха, стала и смотрит: что она видит?
– Бабушка, – говорю ей, – неужели среди детей твоих и внуков никого не найдется, ну, хоть одного, кого бы сердце пожалело. Я не о себе, я как-нибудь… я все претерплю, я вот о них, ты посмотри, ведь, это все больные, и вот эта Ира, девочка белокоска, как же так можно, так безучастно смотреть и смеяться? Бабушка, я знаю среди твоего народа есть великие имена и святые и ты, ты, может, не знаешь, я скажу тебе, в Великом Устюге у нас, на святой Руси, это далеко отсюда, еще дальше, за Москвой, жил великий угодник праведный Прокопий, высший подвиг принявший Христа ради, он от земли твоей, он немец родом.
Старуха покачивала седой головой, щурилась, все рассмотреть хотела сквозь сумрак вечерний, и что она видела?
– Бабушка, тут недалеко на немецкой же земле есть город Вена, там собор стоит св. первомученика Стефана, в соборе есть икона Матери Божьей, перед ней свечи горят, много свечей и со свечами горит моя свеча за всю русскую землю. Бабушка… ты слышала о святой Руси?
На минуту старуха подняла глаза и как-то явственно посмотрела и мне показалось, что она видит кого-то, узнала и вот скажет…
Новые приходили из города, проталкивались, теснили друг друга, оттеснили ребятишек, загородили и старуху.
И вдруг меня осенило.
– Карл Иваныч! Где тут Карл Иваныч? – сказал я достаточно громко, так что все слышали, – Карл Иваныч?
Я вспомнил нашего учителя Карла Иваныча, того самого Карла Иваныча, с которым начались наши первые уроки и прошли последние экзамены. Ведь, Карл Иваныч должен был где-нибудь тут находиться, где-нибудь в задних рядах что ли, и если бы знал он, а он узнает, что тут творится, он обязательно сделает им замечание, ведь нельзя же в самом деле так! И не может быть, чтобы наш добрейший Карл Иваныч остался безучастным.
– Карл Иваныч!
Толпа заволновалась, расступались, пропуская кого-то через цепь к нам, прижавшимся к своим чемоданам. Я думал, комендант. Нет, оказалось, штатский в цилиндре.
– Пастор, – сказал кто-то.
– Пастор, – обрадовался я, – пастор! – и что-то от нашего Карла Иваныча показалось мне в знакомом лице его.
Обращаясь к нам и толпе любопытных, пастор от волнения едва мог выговорить слово.
– Русские, – сказал он, – русские сделали попытку взорвать мост, но, к счастью это не удалось, и все-таки погибло триста немцев и пятьдесят русских.
– Русские, русские… триста немцев погибло!
Говорили громко, заговорили еще громче.
– Да за это разорвать мало! – сказала какая-то женщина, она это так сказала от всего своего возмущенного сердца.
– Русские, русские… – передавалось недобро с конца в конец.
Пастор едва переводил дух, лицо его вздрагивало.
– Я дам вам воды и хлеба, – едва выговорил он к нам обращенные слова и пошел черный сквозь темную толпу.
А какой-то, тоже в цилиндре, его спутник, обернувшись, крикнул:
– Ночлег вам будет отведен в местном гимнастическом обществе, больных поместят в больницу.
– Что сказал черный офицер, мамочка, что он сказал? – Ира, перепуганная, прижалась к матери, словно спасаясь от кого-то.
– Нас накормят, деточка, а потом и спать ляжешь!
Солдаты подвинули нас в глубь двора, со всеми уцелевшими своими чемоданами перетащились мы к улице. Какие-то люди принесли большие корзины с хлебом и ушат с водою и еще какие-то свертки, – свертки с колбасою, как узнал я вскоре.
Я стоял поодаль, вплотную с низким сквозным забором, унизанным любопытными, я стоял с теми, кому нельзя было пить сырую воду – раздавали в чашках сырую поду, – и есть колбасу. Очень было тесно, но и в наш, со всех сторон стиснутый круг, набирались с воли любопытные и толкались, мешая тем, кто ел и пил пасторскую жертву. Голод дал себя знать, и был большой шум вокруг воды и корзин с хлебом.
И когда все было съедено, какой-то человек, обходя по рядам с пустой корзиной, выкрикивал:
– Десять пфеннигов! Десять пфеннигов!
И белые пфенниги сыпались в корзину, – каждый клал свою жертву за хлеб и воду, и колбасу.
И я подумал:
«А пастор, должно быть, все напутал, и об убитых немцах, и о русских!»
И еще подумал:
«Как же это так, научились люди и без ковра-сам о лета на аэропланах летать под облаками, а не сберегли сердца, застыло и дух померкнул!»
И мне хотелось крикнуть туда, на мою родину, на святую Русь – донесет ли ветер мой зов на святую Русь моим братьям и сестрам, – чтобы крепко берегли святорусский завет, берегли святую Русь, милость и пощаду, – залог победы.
Ждали, когда поведут на ночлег, еще верили, что где-то в гимнастическом обществе отведено помещение, и что больных поместят в больницу. Но вот откуда-то с передних рядов от одного к другому шепотом пошла ходить весть.
– Всех повезут в Россию, передавайте тихо!
И, передавая тихо один другому, тихо подвинулись мы на старые места. Но когда это сбудется, в Россию повезут нас, долго ли еще ждать нам, – никто не знал. Только желалось, а потому и верилось, что скоро.
– Сначала обыщут, потом и повезут.
– А мосты?
– Всех повезут.
Ира больше не спрашивала. На кулачках своих, как-то вздрагивая, неспокойно спала она, и две коски ее, как усталые опущенные крылышки, спускались к земле. И тут же в корзиночке спали ее игрушки: всякие зайцы.
Потребовали выдать оружие.
Но никто ничем не отозвался: какое могло быть у нас оружие!
Поминутно освещаемые рефлектором, мы стоим у своих чемоданов плечо в плечо, готовые по команде всякую минуту тащить свои ноши к вагонам, в задних рядах начался обыск. Я для безопаски развернул мои римские камушки с Форума и от Петра апостола: без завертки они совсем маленькие и неприметные; жду своей очереди, да вряд ли дождусь, – очень уж долго копаются. Час за часом идут, а нам нет распоряжении, и уж ночь.
С границы подъезжают переполненные поезда. Выбегают из вагонов насмерть перепуганные, и глаза их такие огромные от ужаса и какой-то огонек горит в них, люди бегут с непомерными непосильными тяжестями на плечах, все простой народ.
– Эйдкунен подожгли! Эйдкунен горит! – говорит кто-то.
– Из Эйдкунена бегут.
И другие, новые подъезжают поезда, а люди те же, на одно лицо, гуськом бегут с тем же ужасом и огоньком в глазах, согнутые до земли под непомерными, непосильными ношами.
В нашу партию вбежали три женщины и глаза их были, как у тех, и огонек горел… Они опустились на землю, тяжело дыша.
– Стреляют, там стреляют!
– Где стреляют?
Они – русские, хотели перейти от Эйдкунена в Вержболово, пошли и вернулись.
– Стреляют, там стреляют! – повторяли они, мотая головой, словно какой-то страшный сон отгоняя прочь.
– А как же нас повезут?
– И нам тоже идти от Эйдкунена?
И на минуту: «А не лучше ли остаться тут?» – эта мысль охватывает и самую упорную мысль и твердую: «вернуться».
– Бог милостив, – обнадеживает кто-то – как-нибудь перейдем
Полночь. Любопытных нет больше, после зрелища диковинного, поди, спят все, обнадеженные, сладким сном. Одни солдаты стоят на карауле.
Как во сне, не сочинишь про такое, и как сон, не передашь.
Привидениями кажутся в этой ночи солдаты в касках, прикрытых чехлами. А за их мертвенной цепью – те с огромными от ужаса глазами, и огонек в глазах.
За полночь. Сменились солдаты. Еще мертвенней цепь их. И петух не поет. И нет просвета.
Как во сне, не сочинишь про такое, и как сон, не передашь.
– Спи, Ира, спи, рано еще тебе видеть такие сны, спи пока, твой ангел-хранитель сохранит тебя!
3
Чуть забрезжило, предутренний свет ознобом пошел по спине, потушили рефлектор, а нас, за ночь позеленевших, вывели с вокзального двора, заперли по товарным телячьим вагонам, и поезд с курьерской быстротой помчался.
– В Россию?
– В Данциг.
Нас везли к Данцигу, так сказали нам солдаты, когда закрывали вагон.
В темноте разместившись по лавкам – нас было душ тридцать в вагоне – дремали. Кто-то заснул. Только две польки в белых бумажных платках выли.
– Не надо плакать, все доедем! – утешала их та, что заплакала от радости, когда объявили весть о России, – все поедут в Россию.
Но польки безутешны. Одна грудью кормила, и малый ее хлопец голодный плакал. Их схватили на границе, мужа ее забрали, а ее с сестрой заперли в этот телячий вагон, обещая доставить в Варшаву, и вот мчат в Гданьск.
Поезд мчится без остановок.
И уж когда стал день и белым большим своим светом через чуть приоткрытую дверь осветил наш вагон, поезд остановился. Вагон раскрыли, три солдата вскочили к нам – двое стали по бокам и один в середке.
– Кто посмотрит, – сказал солдат, – того застрелят!
И поезд тронулся, медленный, по долгому крепостному мосту.
Солдаты то и дело брали на прицел, метя в кого-то, кто мог быть там, за мостом, а третий, лицом к нам, целился в нас.
И от стука ружей сверлило в ушах.
Я сидел как раз против солдата и, хоть наклонил голову, чтобы не смотреть – кто посмотрит, того застрелят! – я помимо воли моей правым глазом видел красную кирпичную крепость, крепостной мост, солдат на мосту, пулеметы и дуло ружья.
Какая-то девочка, оказавшаяся сзади меня, забилась ко мне под ноги, и я чувствовал, как она вздрагивала вся до последней дрожинки: кто посмотрит, того застрелят!
Казалось, и конца не будет, такой медленный путь, такой долгий мост, такой длинный поезд.
И когда, наконец, переехали мост, солдаты спрыгнули и закрыли вагон, долго никто не подавал голоса и головы не подымал, хоть и не было страха, что вот возьмут и застрелят.
И опять поезд помчался. И трясло, что усидеть было трудно. Так неслись до другого моста.
Все, что было, и, казалось навсегда прошло, вновь повторилось. Снова раскрыли вагон, вскочили солдаты и под ружейным дулом потянулся бесконечный путь.
– Кто посмотрит, того застрелят
Тут случилась со мной странная вещь, я заснул и во сне попал куда-то в поле, и все бы хорошо, да словно на аркане меня держит кто-то… вдруг рванул и я проснулся. И увидел лицо солдата не того, который в нас целил, а крайнего, который прицеливался в кого-то, кто был за мостом, и я поражен был необыкновенным сходством лица его с моим соседом, сидевшим против меня, и у того и другого видно было, как напрягались все мускулы, и мелкая дрожь осыпала кожу.
И я подумал:
«Если нас всякую минуту пристрелить могли, то и солдат этих, целившихся куда-то туда и в нас, тоже пристрелить могли, – кто-то за мостом, должно быть, в них прицеливался.»
И вот мы, тридцать душ, под ружейным дулом и трое солдат, целившихся куда-то за мост и в нас, все мы с одним чувством, как я теперь ясно понял, медленно проезжали долгий второй мост.
Казалось, и конца не будет: такой медленный путь, такой долгий мост, такой длинный поезд.
Бог пронес, благополучно проехали и этот мост, солдаты закрыли вагон, и опять поезд помчался.
– Куда? Не в Россию?
– И не в Данциг.
Поезд мчал назад от Данска по берлинской дороге. Неужто назад в Берлин!
Через приоткрытую дверь нам видны были станции, переполненные солдатами. Мы ехали по дороге к Берлину. Было жарко в вагоне и мучила жажда. Без еды человеку и день и два можно, а без питья куда труднее. Нам было трудно, а детям совсем было плохо. Жалко было смотреть, а помочь нечем.
Мне иногда казалось, что все это во сне снится, и не могу я проснуться. И соседка моя, странная барышня, была совсем, как из сна.
Когда в Ильинскую субботу в Берлине я протиснулся в первый попавшийся вагон – в спальный, там в проходе оказалось и еще несколько человек таких же, как я, с билетом неспальным, и эта барышня. Барышня на первых порах нам рассказала, что потеряла свою мать и маленькую сестру, – мать ее и сестра попали в другой поезд, но скоро о матери совсем как-то забылось, а впоследствии, в Алленштейне, о матери она ни разу не упомянула, а говорилось о каком-то важном дяде, который живет в санатории в Берлине, где и она жила. Барышня ехала в Петербург к родителям… Одним говорила она, что она чешка, другим, что воспитывалась в Лифляндии, а третьим, что она немка. С первых же слов не без задору заявила она, что она австрийская подданная, а потому враг всем нам, русским. А в Торне, на большой остановке, когда она особенно ласково и игриво повернулась к проходившему офицеру, тот ей грубо заметил:
«Уберите свою морду, я вижу с кем имею дело!»
Странная, очень странная барышня.
И за всю дорогу ничего враждебного от нее никто из нас не видел, напротив, и одна слепая старуха, на все четыре стороны отпущенная из больницы после операции, каким-то чудом втиснувшаяся в наш берлинский спальный вагон, без нее просто бы пропала, – барышня ухаживала за нами. Заявляя солдатам, что она подданная австрийская, она получала большие льготы, и в Алленштейне ее пропустили в город, и тогда принесла она нам бутербродов, а тут на всякой остановке она высовывалась из вагона, заговаривала, расспрашивала, добиваясь, куда нас везут. Вела она себя необыкновенно вольно и около нашего вагона шли разговоры легкие и веселые, совсем не под стать вагону, и постоянно слышался смех. Что-то стрекозиное было в существе ее с неутомимостью и беззаботностью, довольно высокая, очень тонкая, ничего себе барышня, только глаза какие-то – пустые какие-то до жестокости, и она никому не смотрела в глаза, словно сама это чувствовала. Непонятно было, зачем она ехала с нами в нашем телячьем вагоне, где даже уборной не полагалось, и терпела с нами и голод и жажду. Она позеленела вся, а ни разу не пожаловалась… жаловаться? – она смеялась не меньше, чем там, в берлинском спальном вагоне, наша странная барышня.





