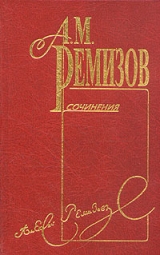
Текст книги "Том 3. Оказион"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
Жизнь несмертельная *
I
У каждого человека своя судьба. И всякому вот эта самая судьба и велит надеть рясу или форменный сюртук, хочешь или не хочешь. А не покорится который, погибнуть ему и стоять у голодаевского кабака с ручкой.
Так уж положено и все так идут.
Все-то, все, да не Иона Петрович.
Иона Петрович Боголепов человек особенный и судьба его особенная, он не в счет.
Был Иона достопримечательностью нашего города.
А город, вы знаете, какой у нас? Целый день по улице никто и не пройдет. Изредка барбос полкановский пробежит – и окошки отворят посмотреть на него. И только вечером, часов в девять, чиновники направляются кто в клуб, кто в трактир. Да поутру в ранний час кухарки бегут на базар.
Летом жара да духота, не приведи Господи. Выйдешь на улицу, так тебя и ошалоумит: глаза вылезут, пот градом, пыль столбом, терпеть невозможно. А если в полуденный час заглянешь в окошко к столяру Бабухину, сидит столяр у окошка, ворот расстегнут, на голове мокрая тряпка и сам икает. Господи Боже, сил нет!
Так никто и не выходит, один выходит Иона.
Ему все ничего. Во всякое время и по всяким делам, во всяком направлении, куда угодно. Такой уж бойкий он да юркой, настойчивый, – бесхвостый.
Невелика птичка, с лица черен и даже черномаз, бородка клочьями, на лбу волосы прилипли, водкой на семь шагов разит. А пальто со следовательского плеча широко и рукава длинны. Карманы набиты каменным да бронзовым веком – в разговоре вынимает то одну, то другую вещь и на ладонь себе: гляди и поучайся! А из боковых карманов торчат книжки, рукописи, столбцы, – у него все есть.
Покровитель его, председатель архивной комиссии Сахновский, говаривал:
– Никогда у тебя, Иона, ни гроша нет, а знающий человек может тебя ограбить тысячи на три. Столько в тебе достопримечательности.
А доморощенный историк наш Миловзоров после перемены лепетал жалостно:
– Ионочка, ангел, спуль какую рукопись, опохмелимся.
Велики были клады Ионины, но проворство рук его изумительны. Он мог на глазах владельца изъять документ или даже небольшую книгу. И почетный попечитель, губернатор Корноуховский, не успел ахнуть, как в его присутствии, у него на глазах, в казенном архиве Иона стащил автограф Благословенного Императора. Выразив Ионе благодарность за его деятельность, губернатор, обратившись к старшему архивариусу, сказал недвусмысленно:
– Он человек полезный, но все-таки его сюда не пускайте.
Знакомство мое с Ионой началось на толкучке у навеса старика Ларионыча. При первом же нашем разговоре поразил меня Иона Петрович свойствами нечеловеческими, а исключительно принадлежащими единому всемогущему Господу Богу.
Во-первых, вездесущием: по его рассказам нередко выходило как-то так, что одновременно был он и в Нижнем, и в Ярославле, и в нашем богоспасаемом городе.
Во-вторых, всезнанием: какую бы вещь ему ни показывали, хотя бы самую новую, хотя бы винт от паровика, Иона не терялся и, принимая вид, человеку не подобный, толковал без всякого:
– Этот винт от такой-то части, сделан в таком-то году.
– Вот так кум, исполать! – ввертывал спиток Ионин Миловзоров, – ты все знаешь.
Знал Иона действительно все, даже и то, чего совершенно никто не знал.
Так, живя около церкви Стефана Сурожского, объявил он в газетах, что на огороде его дома, как раз против окна его спальни, находится место, где великого князя Василия II-го Васильевича задавил медведь.
– Да, на этом самом месте медведь подавилвеликого князя! – частенько повторял Иона, подымая палец кверху.
Бог его знает, на этом или где еще, по крайней мере, летописи в одном сходятся, что жил великий князь Василий II не в нашем городе, а в Костроме, где и принял лютую смерть от медведя.
Но и такая справка нисколько не смущала Иону: он уверял, что великий князь приезжал нарочно охотиться к нам.
– Знал, шельма, куда заехать, – подмигивал куму историк Миловзоров, – лучше здешней рябиновки не найдешь.
Все знал Иона и не только о прошлом и самом деберьном, а и грядущее не было от него скрыто.
В людях шли молва, будто свиток – столбец такой – отыскал Иона длины непомерной, обвился весь, как плащаницей, и носит на себе, двадцать лет читает, дочитать не может, а написано в том свитке, как нашему русскому царству быть.
И всей подлунной.
Ну, ручаться не могу, не видал, впрочем, раз засидевшись в Пассаже, трактир у нас такой громкий, был я свидетелем, как Иона, нагрузившись, хвастал каким-то столбцом необыкновенным, и при этом похлопывал и поглаживал себя.
II
Жизнь Ионы, хотя и необыкновенного человека, началась обыкновенным человеческим рождением в белом церковном доме, выходившем на огороды.
Окно было раскрыто, и крик протопопицы был слышен далеко, даже на бульваре. И опытные старожилы, вставая со скамеек и оглядываясь назад, говорили:
– Никак протопопица опять родит? Никак это седьмой будет?
– Пятый, – возражал осведомленный в делах семейных.
– Верно, пятый, – соглашались догадчики, – надо быть, мальчик.
– Бесхвостый будет, – отозвался шедший мимо пономарь Друшлак.
Первые дни Иона был здоровый и тихий мальчик. Ничем он не беспокоил, только очень прожорлив. И эта прожорливость с ростом развилась в нем до невозможности, и воровство сделалось его непременным делом. А чтобы не вводить в изъян родителя, стал он воровать у других.
Бит бывал нередко и жестоко. Но с летами исхитрился и достиг в этом деле замечательного проворства рук.
Мне помнится, он первый и произнес слово, теперь законнейшее, а тогда, как пугало: экспроприация. Раньше я что-то ни от кого не слыхивал.
Вообще же всякое хищение Иона отрицал.
– Воруют только от сытости, – говорил Иона, – и таких так мало, что, пожалуй, и не найдешь. А с голоду да взять то, что никому не нужно, это не воровство. А если кто привяжется: отдай назад! – ну, черт с тобой, бери, мне не жалко, только докажи, твое ли? А не умеешь доказать, пиши пропало. Этак, брат, всякий к чужой вещи примажется. А ведь я ее открыл, она – res nullius.
– Res nullius! – смачно выговаривал Иона.
Придя в возраст, поступил он, стараниями скорбного протопопа, в семинарию.
А в семинарии достиг Иона совершенства и успеха не столько в науках, которыми мало занимался, сколько в делах грабежных или, по-принятому, в операциях финансовых, ухитряясь перепродавать вещи на глазах у собственника. Оборотливость и ловкость его были так неуловимы, что однажды какому-то маменькину сынку продал он собственный его ременный кушак и получил деньги сполна.
А тот долго удивлялся, что есть на свете две вещи настолько похожие, что даже тут царапинка и та повторяется, ну все как две капли воды.
Потом, разумеется, обман открылся, но Иона успел уже пропить полученные деньги. И объяснил, что дураков даже в алтаре бьют.
– Если бы у тебя ум в голове был, так ты бы сундук лучше запирал, да чаще сам в него поглядывал. Голова бы не свалилась.
Наука давалась Ионе легко, и памятлив и горазд. Но за неудобоносимость и бесповедение он был исключен, не достигнув пятого класса, с отметкой:
«Не годится даже в псаломщики».
Представив отцу этот свой успешный аттестат, Иона беззастенчиво уверял протопопа, что, правда, не годится в псаломщики —
– Потому что горжусь в архиереи.
Скорбно тряс бородой протопоп.
А и в самом деле, по такому уму и извороту бесхвостому чем не архиерей?
– Кормить я тебя, мерзавец, даром не буду, – сказал, наконец, протопоп, – да и опозоришь ты мою седую голову. Завтра иду к предводителю Фантикову, он тебе даст место – хоть нужники чистить.
И через три дня определилось будущее направление будущей нашей достопримечательности: Иона вступил под вечные своды Дворянского благородного собрания.
За лестницей помещалась канцелярия.
Сам предводитель привел его туда, сопровождаемый протопопом.
– Служи, учись, через месяц получишь жалованье, – сказал предводитель и обращаясь к делопроизводителю, прибавил: – а ты, Митряй, гляди за ним в оба: парень-то больно остер.
– Слушаюсь, батюшка ваше превосходительство, не изволите беспокоиться.
– Филофей Мироныч, – взмолился протопоп, – будьте отцом родным, бейте его в мою голову. Може, что и выйдет.
Не беспокойтесь, батюшка, отшлифуем-с, – отвечал старик, заматерелый в делах наученных, вошь канцелярская.
Так началась Ионина служба – корень его всеизвестности.
III
Первые же недели Иониной службы ознаменовались таким беззастенчивым шантажом и взяточничеством, что слава престарелого и опытного Мироныча померкла безвозвратно и навсегда.
Иона не только не полетел с места, напротив, так укрепился, словно бы век служил, и все от него пошло и без него ничего не могло быть.
С первых же дней служебных он обнаружил прямо сверхъестественную деловитость и быстроту в исполнении.
Скажет, бывало, предводитель:
– Дай-ка мне, братец, того, – и погребет рукою в воздухе.
А и не прошла минута, Иона подаст нужное дело.
Все это, конечно, и другим в науку и делу польза, и одного только можно было опасаться, что при таком направлении дел предводитель утратит дар слова, столь необходимый ему для застольного спича раз в три года.
Рядом со сводчатой канцелярией в кирпичной палатке помещался Дворянский архив. А правее в пустых комнатах для депутатов были сложены старые книги, рукописи и старинные вещи, занимавшие три комнаты.
А возникли эти вещи и в таком количестве невместимом, по обстоятельствам, никем непредвиденным и угрожающим.
Был в нашем городе губернатор Гудзевич. В один из отпусков он встретился на курорте с знаменитым в России археологом Рязановским. И в разговоре, когда с легкостью своей покровительственной высказался он об археологии, повторяя затасканный отзыв людей непытливых и успокоенных в своем невежестве, знаменитый старец швырнул ему: «Не одни, дескать, чудаки занимаются археологией, но и весьма высокопоставленные особы!» – и назвал несколько громких и титулованных имен.
Губернатор не поверить не мог, но и не придал особого веса, а вскоре и совсем забыл. Вернулся домой, а тут ждет его бумага от министра – срочный запрос: какие имеются древности в его губернии, какого качества и какого времени?
Струхнул губернатор, вспомнил курортные разговоры, знаменитую ископаемость в лисичьей шубе, да поздно. Что говорить: ни он, ни чиновники ничего о древностях не знают! Поехал с поклоном к архиерею.
Слава Богу, что архиерей попался любитель старинщик, – выручил.
И сейчас же ответ в Петербург дали, да еще и с указанием, что и музей устраивается.
Полиция навезла всякого старья: брали и то, что нужно, и такое, что печку топить. А свалили все в Дворянском доме.
Да тем дело и кончилось, как полагается, т. е. кончилось до поры до времени, пока не явился Иона.
Рыща в Дворянском доме, как в собственном, во всех делах голова и верховод, однажды, разглядывая древности и перебирая казенную рухлядь, нет ли тут чего ценного, решил Иона восприять нетрудное и приятное бремя археологии.
А к тому же и господа дворяне стали себе требовать самые древние родословия. А выводить родословия да еще древние без археологии дело совсем немыслимое.
И навострился же тут Ионушка.
И, бывало, в Пассаже, сидя в угловой излюбленной комнате, как, бывало, расхвастается Иона.
– Уж так просил меня Перебрюхов родословную ему составить, – хвастал Иона, – вот я его и вывел от Руслана и Людмилы прямехонько, как ниточку. И все на основании документов. А документы все подлинные сим писал.
Звенят серебряные рубли, стучат стаканы, льется пиво, гремит машина.
– Я, – говорит Иона, – за деньги могу кого хочешь от кого хочешь произвести, я могу кого угодно с кем угодно совокупить. Королеву Матильду с Фридрихом II!
За пивом под машину развертывались перед глазами Ионы самые невообразимые сочетания, – воображение его, разогретое пивом и музыкой, выводило породы человеческие, ни на что не похожие.
Неисчерпаемы творений Божий и все, что было во власти ума человеческого, Иона исхитрился осуществлять к гордости знатных или выскочивших в знать, и само собой за большую халтуру.
Потом уж с годами, когда творческое воображение его иссякнет, да и прибыли от этого воображения не будет, пиво и машина – трактир любимый – настроят Иону на другой лад: не видами породы человеческой, измышленными умом его и закрепленными подлинно с приложением печатей и подписями, будет он хвастать всесветными связями своими с сильными мира, а особенно знакомством с царем.
IV
За нетрудной и приятной наукой и в погоне за деньгами прошла молодость Ионы.
Женился он рано ради приданого: взял домишко и три тысячи денег, о чем сам же во всеуслышание объявлял в Пассаже, подробно описывая до последней отвратительной обнаженности мелочи семейные.
Семейная жизнь возбудила в нем при постоянном пьянстве ничем неохлаждаемую страсть. Все женщины ему нравились, кроме его законной жены. Лез и ластился он со свойственной только ему наглостью. Бесхвостый, бегал он за генеральшами, за горничными, за портнихами, но особенно заманивали его татарки: скромная стыдливость гаремных узниц распаляла его любострастие.
И однажды он купил у одного бедного татарина жену.
Конечно, и тут без оборота не обошлось. Продержав при себе месяц открыто собственной наложницей, он с большим барышом перепродал ее в публичный дом, чего татарин совсем не ожидал.
Звезда Ионы высоко стояла, и татарин не посмел пикнуть.
С богатой купчихой Маркеловой Иона состоял в выгодной связи довольно долго, пока не промотал всего ее состояния.
– Довольно, будет, потешился! – сказал Иона обычную заключительную приговорку свою и перестал даже кланяться с обнищавшей возлюбленной.
Для своей переменчивой страсти он был готов на все, но и для денег – для звенящих рублей серебряных не очень стеснялся. А рубли ему нужны были не только для легкости жизни, а еще и на рассвечение жизни. И этот свет прожигающий давал ему разгул.
В пьяном виде Иона изливал свою всемогущую душу, рассказывая похождения свои, как бывалые, так и небывалые. В пьяном виде за рассказами вскакивал он, бил себя в грудь, и плакал и кричал истошным голосом.
Это страсть кричала в нем истошно, ничем не охлаждаемая, сила кричала гороскатная, пущенная по мелочам, корень силы его, прущей и выбивающей из-под нахлобука.
Эй, Русь матушка, придавленная!
Разгул и попойка, рассвечая Ионину жизнь – открывая душе просторы, а телу размах, сулил недоброе и в самую звезду его.
Большое впечатление, очень не выгодное для дальнейшей судьбы служебной, произвело приключение его нетрезвое на областном археологическом съезде.
В первый день съезда после открытия Иона должен был читать свой удивительный доклад о куричьих богах. Очередь его была первая, потому что и находка его была первая – необычайная: в самом деле кто это слышал про богов и не греческих, не римских и не наших незнаемых, а куричьих!
После речи архиерея и губернатора, когда наступило время куричьему докладу, хватились, а Ионы нет, пропал. Туда-сюда, вся полиция поставлена была на ноги, и немало бились, пока отыскали. А когда отыскали, был он так мокр, что никак его нельзя было вести, сам же он упорно порывался идти, но обязательно, чтобы на четвереньках, как бог некий куричий.
Три ведра холодной воды произвели свое действие, и не на четвереньках, а по-человечески, ровно б человеком Ионой, появился Иона перед многочисленным почтенным собранием.
Обведя присутствующих бессмысленным взглядом, Иона развернул тетрадь, и тишина наступила действительно самая подобающая, – нетерпение послушать завладело всем собранием от первого до последнего.
– Ваши Превосходительства и Милостивые Государи!
Черненькие глазки тускло засветились на пьяном солонинном лице, Иона захлопнул тетрадь и, обсосав себе зубы, обложил всю публику таким большим туром честнейшей матери – всего сущего прародительницы, что на минуту словно бы темное облако застлало белый свет.
Отчетливо и крепко произнеся убийственные слова, он, как сноп, повалился на пол и безмятежно заснул – так его, бесхвостого, при общем переполохе и выволокли из зала.
Да, доброю мало чего сулило Ионе забыдущее горькое пойло – сладкая водка, окрыляющая ум его и душу.
Кто знал больше Ионы нецензурных песен, охальных частушек и похабных сказок? Он был неистощим, живописуя до полной наглядности и осязаемости вещи и деяния неуловимые, и каким кряжистым словом.
– То, что французы называют галантно, – приговаривал Иона, совсем забывая, что французы на своем языке не знают анекдотов о русских пономарях и будочниках.
Сам он никогда не записывал, да и немыслимо было, какая уж тут запись в пару под гром машины, а из нас, приятелей его, никто не удосужился.
Эй, матушка Русь, пропащая!
V
Вечер. Легкий сумрак, густея, оползает на землю.
Со всех сторон – с соборной, с монастырской, с речной и горной чиновники из присутствий, учителя, постарше и помладше, и всякого рода юность спешит на Козью улицу к единственным Колоннам – цветнику притонному, неотразимому на вкус неискушенного гимназиста и невзыскательного писца.
Раскрытые настежь двери, ярко освещенные окна, музыка, топ и звонкие женские голоса смутят и повлекут к себе и самого разсамого всосавшегося в нашу скуку расчетливого черта.
И если Пассаж – место похвальбы всемогуществом, всесветностью и неистощимой похабщины, Колонны – ученая кафедра. Но и в трактире и в Колоннах один заключительный голос – плач, там под машину, тут под скрипку с роялью, и истошный крик.
В левом красном угловом зале, за круглым столом, залитым пивом, сидел Иона с судебным кандидатом, лысеющим и отекшим совсем не по чину.
Кандидат давно охмелел и мутными остановившимися глазами вел несчастный из последних неравную борьбу с наскакивающей пьяной дремой.
Иона, грузно облокотившись на стол, горел в пьяном раже – черные волосы его прилипли ко лбу, глаза сверкали желтыми огоньками, по мокрой бороде текла слюна.
Весна – и у нас есть весна! – зацветала белая белой черемухой, а из соседнего зала – и зачем это такая музыка душу мутила?
– Николай Митрич, а Николай Митрич, слышишь ты?
Но кандидат отозвался единственным еще сохранившимся в его запасе звуком, не то присвистом, не то мыком, не поймешь.
– Слышишь, не одни меня только любили Казимировны да Брониславы б…, настоящая барышня любила, Александра Павловна Леднева! Слышишь?
Кандидат свистнул, как в форточку ветер, и блаженно затих.
– Познакомились мы с ней в лавке у Мыльникова Павла Васильевича, этот, знаешь, еще за полтинник мне тысячный крест продал: уверил дурака, что медный! Познакомились совсем случайно. Стали встречаться: то на бульваре, то на набережной, то на лестницах, так вот ясно я вижу – в коричневом платьице, в черном фартуке, быстрые глазки, а засмеется, острые зубки показывает. Очень мне это нравилось, и я все, бывало, смешу. А потом сурьезней разговоры пошли. Увидала, что знаю я столько – вся губерния не знает, спрашивает о том, о сем, все ей рассказываю. Слушает внимательно. Грустная стала. Русую косу теребит. Задумываться стала. Да вдруг и говорит: «Вы бы, Иона Петрович, поменьше пили, нездорово это». «Ну, говорю, кому вред, а мне все в пользу». Ничего тогда не ответила. А потом просит о жене рассказать, про детей. Раз от разу все ласковей да участливей. И совсем не смеется. Как-то пришла в канцелярию, села против, сама ни слова. Я и говорю ей, чтобы сказать что-нибудь: «Я, мол, уехать хочу по сбору древностей для комиссии». «На долго ли?», испугалась. «Да месяца, говорю, на три, на четыре». И вижу, бледная вся. А потом поднялась и прямо ко мне. «Знаете, и голос ее дрогнул, Онечка, знаете, милый, люблю я тебя!» И упала мне на шею. Я, понимаешь ли, Митрич, я, ей-Богу, в первый раз в жизни растерялся.
– Когда бить начали, нехорошо! – не открывая глаз, раздельно по-человечески отозвался кандидат.
– Это ты про что? – Иона замотал головой и еще крепче загруз над столом. – Прильнула ко мне ее нежная шейка, и как увидал я белую душку, все замутилось, облапил я ее и в архив. А она как барашек. Вдруг на дороге Кудимыч, вахтер. Мерзавец! Плюнул я: «К черту!» А он усы рыжие расправил.
– Нехорошо – нехорошо, – не то сопел, не то не одобрял приятель, но как-то уж очень равнодушно.
Повадилась девчонка каждый Божий день. Вместо гимназии так с сумочкой и ходит. А класс последний – выпускной. Признаться, и меня закрутило. Положит она ручки свои на голову мне и все волосы приглаживает. В глаза смотрит ласково: «Онечка!» Я ее – Шуренька. И навернись в девку бес: «Брось, говорит, все, и жену и детой, уедем вместе, начнем новую жизнь! Ты, говорит, великий, ты молод, я для тебя все сделать готова, жизнь положу!» А посуди сам, с чем это сообразно? Перво-наперво, у меня дом, я писец, нигде не кончил, ученость моя при мне останется, в другом месте я дурак дураком, да еще и напиток в придачу. А Палагея, да она меня за тридевять земель отыщет! Нет, заладила свое, ну, ничем ты не оторвешь. Бабы эти, как привяжутся, конец. Я как-то с прохмеля ей: «Убирайся, говорю, к черту, будет!» А она поглядела: «Кончено?» – да так, знаешь, глядит, «разлюбил?» «Да нечто, говорю, я любил? Это благородные какие любят, а нам только б до мяса довалиться. Сама, девка, полезла, не взыщи!» Встала: «Прощайте!», говорит, да совсем, совсем другим голосом, у меня даже хмель прошел. И ушла. Остался один я, а голос ее так в ушах и звенит: так – так и бросился б вслед:
– Прощай-прощай-прощай! – кандидат открыл мутные глаза и сделал такое носом: вот расчихнется на весь зал.
– Однако, выпил я две рюмки водки, – продолжал Иона, – тем и кончил. Все забылось. А через месяц, слышу, выходит замуж. Студент Игнатов – красивый малый, рослый – вот какого подцепила! Вскоре и сам ко мне пожаловал, подает от нее записку: требует она, чтобы я письма вернул. Ну, мне что, я не баба, да и письма-то не велика ценность, не автографы какие, можно и отдать! Отдал я ему. Он учтивый такой, а руку прячет, не дает. «Александра Павловна, говорит, все мне рассказала, подлец вы!», говорит, повернулся да и вышел. А скажи на милость, чем я подлец? Нешто я против ее воли?
– Я подлец? Не подлец! – и звонкая затрещина раскроила щемящую музыку: в соседнем зале, кто-то кого-то жестоко поучая, поднял возню и звяк.
Иона даже не шевельнулся – все это в порядке – память его зашла в самую жестокую деберь.
– А как был я в Нижнем, слыхивал, что хорошо живут, согласно. И место у него хорошее. А раз ее самое видел. Я после перепою у Бруселя вышел прогуляться. Иду по Печорке, а она навстречу – барыня такая стала! – мальчика-сына за руку ведет. Я-то в нее глазами впился, а она скользнула так, – Или не узнала? И пошел я своей сторонкой да как гряну по всей по Печорке: «Не шуми, мати…» А городовой: «Помалкивай, говорит, пьяница, сукин сын!» Точно цепочка оборвалась.
Иона вдавился весь и вдруг вскочил и, бия себя в грудь, стал вопить, так что из соседних зал поналезли, одни робко, другие нагло, чтобы свидетельствовать Ионино злострастие.
– Человек для себя самого первая головешка, – вопил Иона истошно, – ты, Иона, ты и есть и будешь центр и пуп, всемогущий, везденесущий, всенаполняющий! Для кого корова телится? Для меня, чтобы я говядину ел. Для кого солнце светит? Для меня, чтобы меня, пьяницу, сукинова сына, греть!
– Иона бесхвостый! – подхватывали с хохотом, – голован! говядину греть!
Хохот подымался резче, чем вопь.
В раскрытые окна наша весна – и у нас есть весна! – с горькой черемухой доносила подзаборную свалку.
И весенние белесые звезды, как бельма, плыли мутно по белеющей северной ночи.
Русь белокрылая, куда ты летишь, исплакана, измученная и тоскою сердце рвешь?
Алтайские яркие звезды алмазами летели перед глазами Ионы, возносившегося до крайних небес, и оплевывающегося, как последняя мразь, под дикий хохот русский, ничем непробойный.
VI
Всеизвестность Ионы пошла не с Ледневой гимназистки – под пьяную руку все чаще и чаще вспоминал он о ней, и гордясь, и как уколотый на всю жизнь, дело музейное, о котором трубил он на всех перекрестках, возвело его в живую достопримечательность.
Устройство местного музея – вершина славы и расцвет его деятельности. Тут обнаружил он необычайную ловкость, и в самый краткий срок накопил приданое для двух дочерей, а Палагее сделал бархатный салоп.
Но в общем, в конце-то концов, дело оказалось пропащее.
Управлять музеем Иона не попал
По проискам ли людей завистливых или от оборотливости излишней, о которой шла молва со всех сторон и с соборной, и с монастырской, и с речной, и с горной, да и сам Иона хвастал и в Пассаже и в Колоннах, только нежданно-негаданно прислали из Петербурга для разбора и окончательного устройства музея двух ученых археологов: плешатого маленького и долговязого мохнатого. Оба полуслепые, чудные, не меньше Ионы, и не обдуешь, оба и Молгачев, и Агапов – и язвительны, и осторожны, и скопидомы.
Истратить на пиво гривен восемь, купить книгу за пятачок, а какую рукопись за полтинник, это они мастера. А чтобы какой-нибудь профит бедному человеку сделать, это ни-ни.
Шельмы стакнулись еще до приезда, все вместе, согласно, рука об руку. И нет того, чтобы по-православному, по-русскому, зубы друг в друга. Плешатый из Петербурга жену привез, заставил библиотеку разбирать. И все за дешевку: то, что у нас за пятьсот пошло бы, они за двести берут, а делают вдвое скорее.
Губернатор заискивает, льстит, в гости к ним ходит, место им казенное дал на время. И они со всеми перезнакомились, у предводителя сидят – житья нет!
Миловзоров историк для Архивной комиссии каменное яблоко купил.
– Древность, – говорит, – XVII-й век.
А плешатый рассмеялся.
– Сколько дали?
– Полтинник.
– Дорого. За двугривенный можно купить в посудной лавке, – и ухмыляется, – маху дали, Сергей Леонтьевич!
А в тот же день долговязый пошел к местному старьевщику, к Гранилову, – давно Гранилов дорожился старинной рукописью! – и доказал старьевщику, что рукопись поддельная, и купил ее, тысячную, за трешницу.
Сошлись вечером приятели в музее, хохочут, радуются.
Самого наипервейшего мошенника объегорили!
А Гранилов, как дознался, и перед всем честным народом объявил:
– Они-де с собой туман носят, напускают.
И заживо служили панихиду в монастыре: поминали раба божия Ивана и раба Божия Александра, чтоб им пусто было, – не пронимает.
Да, нашла гроза нежданно-негаданно и не только на мошенников, но и на самого Иону.
Между прочим, говорят они Ионе:
– Нечего мудровать! А вот вам список, вы по этому списку по записям примет вещи подыскивайте и дороже указанной цены не давайте. За покупку процент получите: чем дешевле, тем больше – обратно пропорционально.
Икнуло сердце у Ионы – кончилось приволье.
На какую теперь хитрость ему пуститься?
– Или нищих объегоривать или воровать? – ляпнул Иона.
А те ему:
– Ничего, Иона Петрович, изворачивайтесь.
А губернатор вторит:
– Ты, Иона, в карман не залезай, чтобы нам от тебя сраму не набраться.
Но и тут Иона извернулся – всем потрафил.
– Конечно, барышишки маленькие, а все-таки ничего, жить еще можно.
Как в дни молодости своей всемогущей, стал он у мировых судей дела брать, кляузничал, – ничего. И опять же адвокаты насели – не те времена! Плюнул Иона: лучше не связываться, народ тоже зацепистый.
А тем временем кончились покупки в музее.
Плешивый Молгачев уехал с женой назад в Петербург. А дотошный Агапов по владение музея вступил.
Жалованье долговязому определили не ахти какое, а Ионе-то оно было бы совсем хорошо.
Да Ионы-то это не касается.
Вскоре долговязый женился на богачке Позвонковой, взял, говорят, сто тысяч, дом купил, обстроил его, губернатора принимает.
А Иона ни при чем.
Высоко взлетел и пал. И уж не подобраться: годы не те, сила ушла.
И никаких звезд, одни алтайские – алмазы – сквозь горький чад и дикий публичный хохот.
– Травинкой стелюсь, – лепетал Иона, – травиночкой.
VII
По старой памяти, но уже травинкой, зашел Иона в свой родной музей, зашел с заднего крыльца по обычаю.
Было летнее утро, обещавшее зной.
У Ионы кружилась голова: три стакана водки вместо чаю пропустил в себя натощак, без чего не мог он показаться на волю.
Под окнами к крыльцу сложены были большие корзинки, в этих корзинах перетаскивали вещи из Дворянского дома.
Манит корзинка – то-то хорошо полежать, растянуться!
Иона завалился в корзинку – хорошо! – сбросил картуз и замлел.
А с крыльца Кудимыч сходит, вахтер.
– Я тебя насмешника провенчаю! – обрадовался случаю вахтер: не забыть старику обстриженного уса, дело рук Ионы.
Накрыл Кудимыч Иону другой корзиной, в кухню сбегал, веревки принес, связал ручки, перекрестил корзину, сволок к сараю и по старости лет, а более от жары несносной, все позабыл.
Что было, не помнит и Иона, а проснулся – холодно: роса, весь мокрый. Провел он по слюнявым губам пересохло в горле – подняться хотел, головой ткнулся в корзину. Что за чудеса? – пощупал внизу рукой: тоже корзина.
«Батюшки-светы, да никак в могиле?»
И руки затряслись.
Хотел перекреститься – рука ударилась в плетенку.
«Господи, прости мои согрешения! – и тоска залила его душу, – умираю от голода и жажды!»
Но изворотливый ум вспыхнул, все бесхвостье его завиляло, ища выхода.
«Говорят, нужно руку себе покусать, не сон ли?»
И укусил себя за палец.
Ой, больно, – нет, он не согласен!
«Значит, смерть заживо».
И ясно представилось ему, как обкусает он себе руки от жажды, перевернется вниз лицом и умрет: покойники, заживо погребенные, всегда так перекувыркивались.
– С IX-го века! – всхлипнул Иона и начал стонать.
Душу надорвал бы этот стон замогильный, если бы нашлась у сарая хоть одна живая душа.
– За что мне, Господи? – терзался Иона, – за царские врата? – И вспомнил, как в погоне за древностями, желая урвать процент обратно пропорциональный, стащил он в городищенской церкви старинные резные царские врата, – или за то, что в пятницу согрешил? За кощунства ли Дублянских сказок? Никола Милостивый, милостивый, помилуешь? За Прово горе, должно быть? – ив горьком забытьи, наперекор воле, начал твердить, как встарь:
Пров Фомич был парень видный
В среднем возрасте солидный,
Остроумен и речист,
Только на руку нечист.
Нет, нет, неужто за такое и такая мука? – и вдруг Лизу вспомнил из Колонн: за гордость обвинил однажды эту Лизу, будто кошелек у него украла, и бандырь выпорол Лизу, – за Лизу? Не Лиза, сам я крал, все тащил, и где можно и где нельзя, – каялся Иона, – древности крал! Древности, – и спохватился, – но ведь всякий из них новости крадет. Неужто за такое, за всеобщее? И почему же тогда не всем такая участь? И почему люди живут и умирают по-человечьи, и только он…
Он не брезговал интрижкой,
Ни с модисткой, ни с портнишкой,
И немало светских дам
Привлекал к своим усам.
Твердил Иона наперекор воле стих похабный и не мог остановиться.





