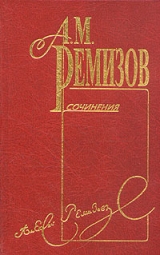
Текст книги "Том 3. Оказион"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 44 страниц)
Проплыла Леднева, смотрела на него и не так, как в нижнем на Печорке, а как там, в канцелярии, или там, на лестнице, без слов смотрела и глаза ее светились любовью.
А что, если бы он тогда ее послушал, бросил бы пить, уехал бы с нею?
И вспомнил он ее голос, – Господи, всю бы отдал жизнь! – голос ее так внятно.
«За нее виноват – за себя, за себя – за нее и терплю, всю судьбу погубил!»
И пуще всякой боли укусной засверлило на сердце.
И из боли вдруг он услышал легкие шаги и кто-то фыркнул в самую корзинку.
«Никак собака? – замер Иона, – Господи, хоть бы залаяла!»
Насторожился и сам, крутя носом по-собачьи, понял чутьем бесхвостым:
«Да это предводительский Нептун».
– Милый, дай весточку! – захлебнулся Иона.
Пес зацарапал лапой о корзину.
– Милый! – шептал Иона, – Нептунушка!
Ему слышно было, как Нептун шуршит по траве, машет хвостом.
– Узнал, голубчик, отец родной! Залай, вызволи! – и хочет Иона громко покликать, а голос, как во сне, пропал.
Пес фыркнул и отошел.
Могильную бесконечную ночь провел Иона в корзине.
Со скрещенными руками, отекая, в забытьи, лежал он, как тезоименитый Иона во чреве китове. И ничего не замечая, ни своего стона, ни боли, и ни о чем не думая, распадался.
Вся изворотливость ума его потухла.
И только на другой день Иона освобожден был, аки изблеван.
На другой день, в полдень, девки из Дворянского дома вздумали идти к предводительскому колодцу и не по улице, где их поджидали кавалеры, а кратчайшим путем через репейник.
Проходя мимо забора, они услышали слабые стоны.
С криком:
– Черт! Домовой! – пустились бежать назад.
Тогда Кудимыч вахтер вдруг вспомнил о Ионе, встал из-за стола и, дожевывая, бросился к сараю, к корзине, и освободил.
Иона, испачканный весь, упал в ноги вахтеру:
– Солнцу воссиявшу пришедши на запад!
И был, как безумен.
Стакан водки подкрепил его силы.
С картузом в руках вышел Иона из калитки на волю.
Пекло и жарило, как в первый день. Шатаясь, шел Иона под палящим солнцем. И случайные прохожие далеко обходили его.
VIII
Иона не знал ни времени, ни места, – Петербург он мог перевести в Москву, Москву в Нижний, Нижний в Кострому, воскресенье обратить во вторник, полдень в полночь, быть и там и туг, везде, – всемогущество его было безгранично, и, кажется, в одном только был он и слаб и человечен – в температуре: хотел он или не хотел, а наступала зима, потому что морозило, хотел он или не хотел, а приходила весна, потому что таяло, хотел он или не хотел, а возникал циклон, а за циклоном шел антициклон.
И разве он хотел, и вот затряслась голова, и вдруг нападала сонливость, и он валился где ни попало, и не спал, а в мутной дреме безучастно следил за какой-нибудь перелетающей мухой и ни о чем не думал.
И без его воли изворотливый ум его погасал.
И так же не потому, что бы хотел он, нет, он как раз другого хотел, все дела и последние потихоньку ушли от него.
Уж старшие дети стали содержать старика, – ведь он больше не мог самостоятельно добывать себе пропитание.
А тут наступило и последнее горе: женился старший сын и уехал с женой свою жизнь строить по-своему.
– Нашел время шашку точить, когда отец еще жив. Подождал бы малость: скоро подохну, – злобствовал старик и, грозя кому-то, шипел, – всю жизнь проклятая дыра поперек дороги стоит!
А за первой бедой идет другая беда.
Вышел грех со старшей дочерью девушкой, – вымазали дегтем ворота и стены. Плачут младшая дочки подростки, пилит Палагея.
– Хоть бы уж подохнуть! – одного просит Иона.
А и это не в его власти: час придет, когда придет – проси или не проси, а побежишь – настигнет, а скроешься – найдет.
Иона, припоминая случай с корзиной, теперь пенял девкам, что через их дырью дурь был он избавлен от смерти и на муку ввергнут в проклятую жизнь.
Жизнь его вдруг стала проклятая.
Не пивши, трясучий, поплелся Иона к купцу Черногубову.
Когда-то, в допотопные времена легкой жизни, непрклятой, делая дела головокружительные, вывел он купцову родословную от Каина, сына Сатанаилова, через Ивана Осипова – Ваньку Каина, прямой линией к деду Ивану Черногубову, и лавочнику и родне всей Черногубовой стоило немалого выкупа, чтобы избежать огласки и скрыть семя свое проклятое во веки веков. А теперь Иона, ползая на коленях, Христа ради, выпрашивал у купца сорок копеек.
– В последний раз! – сказал Черногубов, – больше не дам, и не проси.
С двумя двугривенными каиновыми закатился Иона в кабак. И там все спустил: и пальто свое широкое следовательское, и пиджак длиннющий долговязого, Агаповский, и жилетку Миловзорову. В одних штанах кандидатских под вечер, трясясь и тычась, вернулся он домой.
Раскрыл окно, посмотрел на огород, на то место, где великого князя Василия II Васильевича подавил медведь, ко всенощной ударили: завтра Спасов день, пчела именинница! Робко прилег на диван. Что-то неловко, кашлянул.
Младшая Лиза вошла. Открыл глаза. Стоит Лиза, смотрит.
– Папочка, кровь…
– А ну ее к черту!
Иона повернулся к просаленной спинке, – ему все равно: кровь или ничего, жизнь или смерть, один конец.
Ночью случился припадок – дышать нечем. Воздуху бы заглотнуть ему побольше, дышать не хватает. Раскрыли все окна. Да ночь-то теплая, не Спасова.
– Ну, все равно, все к чертовой матери пойдем! – задыхался Иона.
А за окном шелестит. Траву косят? Нет. Что же это? Шелковое платье по травке-муравке завивается.
Сверкая золотом, как на Рублевской иконе, выгнув гордо лебединую шею —
«Что это, Господи?»
Вьются слухи, как у ангелов —
Иона привскочил:
– Шуренька!
А она сбоку так взглянула на него – нет, не узнает! и пошла. И он вдогонку. Вбежала на лестницу. И он за ней.
– Шуренька, – кричит, – Шуренька!
Лестница темная, скользкая. На самый верх взлетели.
Дольше нет хода.
– Шуренька! – хочет схватить ее за руку, ну, как тогда.
А рука не двигается.
И вдруг перед ним пролет – темный, сырой – темная дыра.
И все смешалось.
Откуда вышел, гуда и ушел
1917 г.
Мальвина *
Нынче по весне после долгих хлопот, ненужных хождений, обманных надежд и ожиданий, поступил наконец Семенцов на место и не как-нибудь, а прямо заведующим в Отдел.
А там уборка, погрузка, заваленные столы, дела – еле протискаешься.
И длинной птичьей стаей скользят и снуют хрупкие тоненькие барышни, изгибаясь под тяжестью связок и ящиков.
Всю свою жизнь Семенцов, а ему на Преображенье стукнет пятьдесят, все свои чиновные годы пропил, проел и проспал обок теплого пухлого бока Анны Петровны, жены своей. И всегда вольно или невольно уклонялся от встреч с этими канальскими девицами, заполнявшими последние годы нее департаменты, а теперь наводнившими отделы, управы, комиссариаты. Жизнь, которую словом никак не выразить, ну, выражающуюся в какой-то стрекозьей неутомимости и легкости, – юность, молодость, – жизнь изжвучая смущала его робкое оцепенелое сердце.
Так, в делах, по службе он всегда стремился увильнуть от близких встреч и даже разговаривал издали, супясь и притворяясь больным и стариком, которого не может тронуть никакая розовая улыбка. Но зато в редкие минуты у себя дома в Комаровке, когда Петровна уходила по каким-нибудь хозяйственным делам, не Петровна, женщина безымянная, или с тысячью знакомых милых имен, превращенная голодным воображением в какую-то небожительницу, в воздушное и бесплотное существо, дразнила его очарованием своего несуществующего таланта, ума и красоты. И также любая встречная по дороге, в трамвае превращалась в Беатрису, Лауру, Фиаметту.
Жалкий, оцепенев, он не дерзал заговорить и только любовался.
Грехов за ним не водилось, он верен оставался своей ворчливой Петровне – своей няньке, кормящей его и всякое утро заботливо снаряжающей на службу; с рыцарским почтением он относился к девушкам и дамам.
Правда, в беседе с приятелями он любил хвастнуть несуществующими грехами, при этом становился красненький и веселенький: он рассказывал о каких-то эстонках, которые будто бы вешаются ему на шею или к которым сам он тайком от Петровны ходит на любовное свидание, – но ведь это же одно воображение и никакой грех.
При прежних службах его он всегда был подчиненным и барышни никак к нему не относились, но теперь, когда он начальник, дело другое.
Невольная близость женщины юной и свежей – этого вечно благоуханного яблока дьявольского соблазна, подействовала на него с первых же минут новой его службы ошеломляюще.
Дальше и дальше скользят вереницы – полуоткрытые руки, голые шейки, белые блузки, разные прически и оттенки волос.
Ни лиц, ни глаз он не видит, десятки крутых выгнутых шеек плывут перед ним – мерещится выя, золотистые кольчики волос, гривка.
Но берегись! – прямо на него между пачками дел наступала стройная высокая барышня, охватив белыми руками в браслетах тяжелый ящик.
Уступая дорогу, Семенцов запнулся за кипы и полетел. Барышня с грохотом уронила ящик и поддержала его под локоть.
От смущения он что-то лепетал совсем не связное и улыбался: ведь, падая, он очутился в самой тесной близости с белой замшевой туфелькой и чулком-паутинкой такого восхитительного цвета, какого никогда не видывал – да он ни туфельки, ни паутинки такой на живом, на ноге, наконец, и ногу-то так близко никогда не видывал.
Сердце его усиленно билось, он вдруг почувствовал, точно лет ему двадцать и на голове у него не плешь, а шапка кудрей.
Сразу установилась какая-то близость, легкая игривость сменила суховатую вежливость, наконец, с непринужденным видом барышня сообщила, что ее зовут Мальвиной.
– Мальвина Федоровна! – повторял Семенцов, то и дело обращаясь к барышне просто ни за чем.
Обалделый вернулся Семенцов домой в Комаровку. Ничего не соображая, он еле дотащился до постели. И на вопрос жены: что с ним? – ответил сухими губами:
– Устал.
В разгоряченном мозгу его мелькало что-то несознаваемое, но приятно-острое и пряное.
И не помнит он, как наступила ночь и как заснул.
А под утро после красочных переливов приснился ему сон, события которого происходили в той самой комнатенке, где спал он под теплым голубым одеялом, подтыканным заботливой рукой Петровны и пригретый мягким ее боком.
Из серых сумерок выделилось обрамленное кудрями лицо Мальвины и гибкая шея ее в алом коралловом ожерелье.
Беленькая блузка сливалась с серым туманом.
Лицо Мальвины вдруг пододвинулось к самым губам его и так близко, что по робости своей он осторожно отодвинулся.
Но Мальвина, как бы притягиваемая им, подвинулась еще и вдруг глаза ее вспыхнули таким ослепительным светом, что от внезапности похолодело у него на сердце.
А из темноты протянулась рука, и нога в белоснежной замшевой туфельке и паутинном чулке поднялась и опустилась на подоконник.
Семенцов оцепенел.
И хотел вскрикнуть и не мог.
Мальвина смотрела на него настойчиво и неотступно.
Но что она требовала от него, он не мог понять, да и что он мог сделать, оцепенелый?
И вот, подтолкнутый какой-то внешней силой, он приподнялся на постели и, сделав в воздухе полукруг, перевернулся, так что лицо Мальвины очутилось внизу.
И он почувствовал, как вся кровь прилила к его сердцу и сердце задрожало, как листок, и уж сам он потянулся к ее лицу, но в тот же миг, подтолкнутый той же внешней силой, он медленно и плавно поднялся к самому потолку и глаза его явственно различили щели в штукатурке и паутину.
Мальвина, не уступая, поплыла за ним и дыхание ее обожгло его, но перевернуться к ней он не мог.
«Мальвина, – шептал он, – я искал тебя всю мою жизнь, я только и думал о тебе, Мальвина!»
И вдруг белые руки сзади обняли его и он поплыл, он проплыл над кроватью, над туалетным столиком, над одеждой, завешенной старой заплатанной простыней, и очутился над подоконником.
Тихо распахнулось окно.
Еще миг и он выскользнет на волю, там перевернется. «Мальвина, – шептал он, – я нашел тебя, Мальвина! Как прекрасно в Божьем мире, Мальвина!».
Утренник дыхнул и все порвалось. Ни Мальвины, ничего, и только нос Петровны, напомнившей куриную архиерейскую часть, посвистывал прямо ему в лицо.
Утро было сырое, шел дождик.
Напившись противного овсяного какао, Семенцов сиротливо сидел в трамвае незаметный и съежившийся на свет глаза не глядели бы! И вдруг на повороте вспомнил весь свой сон и на сердце так заиграло, словно было ему лет двадцать, а под шляпой на голой голове шапка кудрей.
И каким завидным, единственным в мире представился ему Отдел, заваленный делами, где вот сейчас встретит он уже наяву свою Мальвину.
1918 г.
Крестовая барышня *
Только любовь неизменна.
И это истинная правда, что это так. И думаю я, в последние минуты земли нашей, при последнем ее издыхании, одна не замрет и не замерзнет любовь.
Надежда Дмитриевна мало чего еще понимала в жестоком веке нашем и любовь она не могла оценить, но уж думать думала, и в тайниках дум своих представляла любовь, и, пожалуй, верно – в самой сути ее неизменной.
И верила, что так и есть.
И всегда будет.
Глаза у нее небесные.
Им спросите их:
«Что вы видите?»
И они ответят:
«Видим мы Божий мир – цветы цветут, звезды сияют, милые сердцу проходят по земле люди».
«А дурные? И все это злое, злоба человеческая, измена – вы испугались?»
Поутру, как идти на службу, свернет Надежда Дмитриевна с Симбирской и к Происхождению Честных Древ 1 я идет, поставит свечку Божьей Матери и молится – так молятся цветы и звезды.
А неказистая служба у Надежды Дмитриевны – в Крестах.
Придет в канцелярию, повесит на колок кофточку да шляпку и за дело: возьмет одну большую книгу, возьмет Другую и замелькают Иваны, Петры да Сидоры – арестантов она записывает.
И бегает перо – сжаты белые пальчики – пишет без конца.
А какая у нее рука!
Подойдет помощник начальника, прапорщик Эдингард, забудет, что и сказать хотел, а другой помощник плешак Звездкин, так тот только губой чмокает, тычась по углам.
А Надежда Дмитриевна знай пишет, да из стакана холодный чай отхлебывает. Она не понимает, чего это стоит Эдингард и смотрит, и о Звездкине она не понимает, чего топчется да чмокает: и Эдингард и Звездкин не больше трогают ее сердце, чем эти казенные большие книги.
Целый день за книгами и в этом вся служба.
А бывают тяжелые дни – очередные дежурства. И тогда сидит она до семи за перегородкой и записывает ответы новых арестантов, которых опрашивает дежурный помощник.
И потому, что это очень трудно – ведь, надо не пропустить ни одного слова и все должно быть точно! – и потому еще, что слова-то эти и обыкновенные, да ведь тот, кто произносит их, в неволю идет, такие дни тяжелы.
И всегда измученная с неспокойным сердцем пугливо возвращается Надежда Дмитриевна домой.
Чует сердце, что в мире неладно, и боится сказать, и жалко ей.
Если бы было и каждому из нас хоть немного жалко друг Друга, не было бы никаких безжалостных Крестов!
Был серый дождливый день, когда смеркается рано и сумерки несут тоску.
Дежурным был помощник Головтеев.
На его дежурстве всегда бывало очень трудно; и бестолков – и спрашивает, и отвечает совсем не то – и как мга какая, безразличный.
А тут еще и арестантов навели тьму-тьмущую.
И вот среди первых опросов о фамилии из потемок услышала Надежда Дмитриевна голос:
– Граф д'Оран-д'орен.
И это такой был голос, – стукнуло маленькое сердечко: или почуяло? или что вспомнило? – прямо ей в душу.
А когда у загородки стал высокий молодой арестант, она поняла, что это он.
И заиграло на сердце. Это он, о ком она мечтала, ее рыцарь, туманный всадник, мчавшийся по розовому полю в ее тайных девичьих розовых снах.
Как быстро он отвечал на вопросы и как воздушно прошел, когда старшой Юматов грубо окликнул:
– Ну, пойдем!
И в дреме перед сном в ту ночь вдруг всплыли перед ней знакомые глаза и голос повторял:
«Граф д'Оран-д'орен».
А сердце, окропленное любвиявленскою водою, забилось вперебой: д'оран-д'орен.
Вы спросите глаза ее, в них орга́н гремит.
«Отчего вы певучи так?»
И они ответят:
«Есть в Божьем мире любовь и любовью запета земля, оттого и поем».
А случилось так: три томительных дня, и Надежда Дмитриевна нашла у себя на столе большую чайную розу, а еще через день они встретились.
И то, что смутно выговаривало сердце, сказалось ясно и закрепилось навсегда.
Выбранный арестантами старостой, граф д'Оран-д'орен явился в канцелярию: на нем была офицерская тужурка и белый Георгий. И никак нельзя было подумать, что он арестант. Скорее плешивый Звездкин, либо крикливый Эдингард – арестанты. Эдингард ходил неряшливо, Звездкин, хоть и чисто, но потрепанно и старомодно, а на нем вес было ново и необыкновенно, как на картинке.
И говорил он ни на кого не похоже. И кажется, такому ни в чем не откажешь. И даже Головтеев на его вопросы отвечал куда мягче, чем всегда.
С Надеждой Дмитриевной он сказал в эту первую встречу всего несколько пустяшных слов, но в каждом слове было столько скрыто, и самого главного, и это говорил его взгляд.
Прошла педеля. Как незаметно пролетела неделя – краткие, решающие встречи! – и опять цветы на столе, дне лилии.
Низко нагнулась Надежда Дмитриевна над толстой книгой, а не видит ни имен, ни цифр, и не глядя, видит только его и слышит только его – его шепот.
Они уедут вместе – забудут весь мир – с первой встречи полюбил он ее – и всегда будет с нею —
– Навек.
И горячие его губы обожгли ее щеку.
И в ответ запылала щека. Еще ниже наклонилась Надежда Дмитриевна над толстой книгой, а сердце стучит, и кажется, из соседней комнаты Звездкин слышит, как ее сердце стучит.
Две лилии она унесла с собой и весь вечер просидела над ними.
Какие белые-белые, она сохранит навек.
«Навек, – стучит сердце, – навек».
И большего счастья не надо ни на земле, ни на небе.
А в тот вечер на собрании во втором корпусе после всяких тюремных пререканий вошел в круг арестантов д'Оран-д'орен и сказал так же негромко, как и там в канцелярии Надежде Дмитриевне, почти шепотом:
– Через неделю освободится тридцать человек, мечи жребий. Кто сумеет уйти, того счастье.
И каждое слово его отозвалось на все Кресты.
С каким нетерпением ждала Надежда Дмитриевна утра, когда вновь увидит его и опять он ей скажет, как ее любит, и как они вместе уедут и не расстанутся друг с другом век.
Неизменные – слова любви, вы горячее всех слов на земле, и самые тихие, вы громче и ярче самых громких призывов и кличливей всех кличей. И в предсмертном бреду на издыхающей земле, знаю, только вы не замрете. И тот, кто вас слышал однажды, не забудет до смерти.
Дежурным был Звездкин.
Маленький, лысенький, чмокая, поглядывал он из-под очков на Надежду Дмитриевну: так была она вся овеяна и тянула любовью своей, как огоньком. Тычась по углам, Звездкин кружил около стола ее, заговаривал.
А она сидела над толстою книгой, не видя и не слыша, – ожидая его.
Стуча сапогами, в канцелярию вошел Юматов.
– Г-н помощник, разрешите свидание: жена к графу Дардарену пришла. Давать им, как прикажете?
– Что ж, можно. Зови сюда, – ответил Звездкин.
И шурш шелка наполнил всю канцелярию.
Согнувшаяся над книгой Надежда Дмитриевна собрала все свои силы и, не приподнимая головы, заглянула.
Боже мой, какая красавица стояла за перегородкой!
И слезы так и брызнули на книгу, размазывая чернила, а маленькое сердце забилось робко под каблуком этой нарядной красивой дамы.
* * *
Раздавленная вышла Надежда Дмитриевна на волю. как еще сегодня поутру шла она легко! Нет, пешком ей никак не дойти.
В трамвае было очень тесно.
Какая-то дама беспомощно металась со множеством всяких маленьких свертков, которые валились у нее из рук. Надежда Дмитриевна сейчас же стала ей помогать, а тут и место освободилось, помогла сесть. Дама успокоилась, но когда хватилась платить за билет, кошелька не оказалось, и подняла крик на весь вагон, указывая на Надежду Дмитриевну.
Надежда Дмитриевна не хотела верить.
– Обыскать надо! – сказал кто-то.
А дама, схватив ее за руку, кричала в иступлении:
– Умоляю, отдайте кошелек!
– Что вы говорите? И разве можно – И, теперь поверив, она вывернула себе карманы, и слезы побежали по проторенным дорожкам.
Кошелька не было, все убедились.
Проехав свою остановку, Надежда Дмитриевна вышла.
За ней вышла и дама.
– Верю, – со слезами сказала ей дама, – и не могу. Мне не денег жалко, серебряный кошелек, это память.
Надежде Дмитриевне ничего не оставалось, как зайти куда-нибудь по двор, и пусть там ее всю обыщет и убедится.
Так и сделала.
И во дворе всю ее ошарила дама, а кошелька не было.
– Но я не могу жить без него, это такая память! – повторяла дама, еще и еще шаря по груди и рукам.
В отчаянии обе вышли на улицу.
И вдруг Надежда Дмитриевна все поняла и точно в мерный раз посмотрела на мир, где цветы цветут и сияют звезды.
И каким жестоким показался ей мир цветной и звездный.
И в этом жестоком мире жила она.
«Одна, – вздрагивали пересохшие ее губы, – одна – одна».
И надорванное сердце не проклинало
Только зябко.
Беззащитно.
* * *
Вы спросите глаза, отчего есть такие, в них крест горит?
И они только горько заплачут.
С неделю не показывалась Надежда Дмитриевна в канцелярии. Все одна в комнатенке своей, как больной зверок на пеньке – так и дни прошли. И вот опять повесила на колок кофточку да шляпку и за книгу.
И не слышно.
В канцелярии были оба помощника и Эдингард и Звездкин.
Оба шутили и на все их шутки она подымала глаза и только смотрела.
Перемену приписали болезни и замолчали.
Тычась по углам, Звездкин вынул из шкапа какую-то бумагу и несколько раз повернув ее около самого носа, вдруг сказал, неизвестно кому:
– А какая бестия этот Дардарен: и сам ушел и тридцать арестантов увел, каналья!
1917 г.





