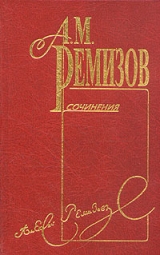
Текст книги "Том 3. Оказион"
Автор книги: Алексей Ремизов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)
Странник божий *
Слышал я раз в трамвае, разговор зашел, – сел в трамвай так из мастеровых какой-то, видно, больной, и горло подвязано и лицо такое нездоровое.
– А доброе-то желание, по-вашему, куда же денется? Доброе желание не пропадет, – и уж совсем уверенно, это тот мастеровой своему соседу говорил, – конечно, куда же ему пропасть!
Раздельно и ясно, хоть и негромко говорил мастеровой.
Этим дело и кончилось, больше ничего я не запомнил, да и не вслушивался, и одно скажу, слова эти о добром желании, непропадающем, к душе относились, к бессмертию души, – вот как доказательство бессмертия ее и выставлял мастеровой это доброе желание, которое не пропадет: злое, значит, сгинет, а доброе – всегда, вечно останется, потому что Бог – добро, и пойдет оно, доброе, прямо к Богу, а Бог не может пропасть, Бог не пропадет, и душа не пропадет, бессмертная, как Бог.
Бессмертная она или не бессмертная, меня это не занимало тогда, и не в рассуждениях тут было дело, а в слове.
«Доброе желание не пропадет!» – эти несколько слов, сказанные мастеровым, и попали мне в самую сердцевину, – я дремал в трамвае после бессонных тревожных ночей, – зацепили меня и взбудоражили и к тревоге моей вывели.
Сколько уж дней и больших дней мучило и изводило меня и не находил я нигде пристанища с этим добрым желанием. Я на себе, на своих делах останавливался, и возмущался весь: ясно увидел я и почувствовал, что добрые желания мои не только не приносили людям добра, а каждый раз были тем узелком, откуда развертывалось большое зло, вред и мучения всякие и тем, для кого я хотел сделать добро, и самому мне, – дело, которое я делал, вело меня совсем не туда, куда я хотел. То хорошее, что хотел я сделать людям, делало им только дурное, и даже, к ужасу моему, вопиющее дурное: люди страдали от моего доброго. И я совсем спутался, совсем потерялся, я и не знал и не видел, откуда начинать следует и за что ухватиться такое, чтобы и из моего добра не зло, не вред, не мучения, а добро шло. Повторяю, то доброе, что хотел я сделать, от всего сердца хотел сделать, приносило только вред, и этот вред был большим злом и для тех, кому желал я добра, и для меня.
Как же это так, думал я, доброе желание, искорка Божия, – Бог, ведь, добро! ведь, добро? – приносило вред, становилось злом и для того, кому я открывал источник Божий, и для меня, носившего этот источник, – из добра выходило зло? «Доброе желание не пропадет!» – мастеровой тогда в трамвае сказал, – а мое? Мое тоже не пропадет? А если не пропадет, то ведь и к Богу не примется? Разве Бог примет зло? Нет, конечно, не примет, – злу сгинуть суждено. И значит, я сгину. А мастеровой? Тот мастеровой трамвайный со своим добрым желанием, он останется? А что если доброе-то его желание от моего доброго не очень отличается, ну, чем поручиться, что оно другое? Значит, и мастеровой этот сгинет. И вот нас двое сгинут, две души человеческие. А у Бога, ведь, что две, что двадцать две, что два миллиона, все одно…
Впрочем, Бог с ним, с рассуждением, не умею я рассуждать, и если бы только в рассуждениях, в мыслях я запутался, было бы куда с полгоря, но я жил и делал – я действовал, и бросить свое дело, а дело мое было как раз помочь другому, передать то доброе, что, как думал я, лежало во мне, это дело – сердцевина моя, и я его не хотел и не мог бросать.
Отчаяние взяло меня, тьма какая-то несусветимая, я стал бояться всякого своего шага, когда шаг этот направлен был к цели моего дела, и страшно стало слов своих, скажешь, и жуть охватит, всего своего стал бояться, своего почину, и хоть дело-то делал, – без этого я просто и жить не мог, – не опускал рук, но оторопь такая брала, в глазах темнело.
Все это вспомнил я потому, что встреча, о которой рассказать хочу, поразившая меня, как раз отвечала на мой вопрос и отвечала не простым ответом, не первым попавшимся на язык словом, совсем наоборот: то, что услышал я, было совсем другим… разрешающим светом.
Я сидел на станции у лавочника Сергея Петровича и пил чай с нерабелью, – через улицу от вокзала лавочка Сергея Петровича: занимался он торговлей и промышлял лесом, в гостиной, наверху, где мы чаи распивали, висел над диваном увеличенный с карточки портрет его, и со стены глядел Сергей Петрович совсем уж внушительно: еще не старый, крепкий, чуть с сединкой, и цепь на шее пятнадцать лет прослужил он волостным старшиной. Всякое доверие и уважение внушал к себе Сергей Петрович. Хозяйничала дочка его, Таисия Сергеевна, миловидная тоненькая барышня и совсем не похожая на учительницу в балете где упражняться ей было бы куда пристойнее, Таисия Сергеевна разливала нам чай.
Разговор шел всякий. Сергей Петрович говорил крепко и метко, – хотелось ли ему показать товар лицом и весь свои, виды, виданные им за свою деятельную жизнь, представить, или просто на сегодня в делах его удача выпала, и был он в ударе.
От хозяйства и всяких хозяйственных дел разговор перешел к политике и народу. Сталкивался Сергей Петрович и не с одним десятком, и, надо полагать, слов не бросал на ветер. Как блюдце с горячим чаем, таким вкусным после жаркого дня, подносил Сергей Петрович и народную мудрость: а и умный он человек, и умственный.
Тот, кто украл, – так выходило, – несчастный, а тот, кого украли – дурак, все дармоеды, и только поп, нищий да странник – настоящие.
В трех словах укладывал Сергей Петрович суть всю и затем, развивая мысль свою, примерами поддваивал, словно проконопачивал крепкий сруб.
– Украл ты, вор ты пропащий, а запрячут тебя в кутузку, и ты уж несчастный, и уж пальцем тебя нельзя тронуть, а баранок и калачей тебе надо, жалеть тебя надо, негодяя, а тот, у кого украли, купец обкраденный, дурак, и, конечно, дурак: чего зевал, чего дал над собой мудрить всякому, эка, карман подставил, сущий дурак… Поп, батюшка наш, как ты ни верти, и пускай он и такой и сякой и пьянчужка и что хочешь, а без него нельзя, без него ни начала, ни конца нет, вся жизнь с ним, за его глазом: и окрестит, и повенчает, и похоронит. Без попа невозможно. И без нищего никакой жизни нет: нищая братия – обязательно, надо же человеку и о душе подумать. И страннику место есть, в слове Божьем о страннике сказано, и странник для души. Так? А по правде вам сказать, – Сергей Петрович хлебнул горяченького, облизнул усы, – по-настоящему-то, настоящих-то и нет никого, все дармоеды.
И тут малость перегнул Сергей Петрович, сам на себя поклёп возвел! Мне припомнилось, когда шли мы с вокзала, около будки сидел нищий безрукий – одной руки совсем нет, а другая култышка, мы остановились, Сергей Петрович вытащил три копейки, мельче не оказалось, а положил он для души семитку дать, и говорит: «Копеечку сдачи?» – да чтобы долго не мешкать, сам в жилетку к нему и запустил пальцы, пошарил, вынул копеечку и мы пошли, и я видел, какое умиление и покой душевный сияли на лице его! Нет, перегнул малость Сергей Петрович, нищих-то он признавал за настоящих, о душе помнил, и, думаю, я, случись с ним грех какой – Сергей Петрович все в гору идет, с лесом дела растут, мало ли грех какой! – так он в духовной тысячу какую на колокол запишет, чтобы вызвонить свою душу из ада.
– Дармоеды, все дармоеды! – знай себе, твердил Сергей Петрович и не благодушно, а уж всурьез.
Батюшек я не раз встречал и очень хороших, большое добро сделавших народу, и понимаю, как без начала и конца трудно человеку, прямо невозможно, не всякий, ведь, вынесет простор бескончинный, это я понимаю, а насчет странников – вещь темная.
– А много тут по вашей местности странников ходит? – полюбопытствовал я.
– Этого народа, сколько хотите! И все им с рук сходит, – Сергей Петрович даже покраснел весь, словно бы осердился, а может, и не осердился, а такая пришла на человека точка, – дармоеды, разбойники, только мутят, народ губят, Россию погубят, они-то и погубят Россию! – другой тебе попадется и такой смиренник, и такой постник, и такие слова божественные, уши развесишь, прямо в угодники метит: «Затеплил – скажет – перед Господом Богом лампаду!» – и глаза опустит, а это запалил, значит, деревню спалил, вот какую лампаду затеплил, вот тебе какая лампада, дармоеды, все дармоеды!
Хозяйственный человек Сергей Петрович и хоть поговорить он не прочь, да видно, долго рассиживаться ему не полагается, может, он и осердился, что уж очень я долго сижу за чаем, уж и вечер стал и в комнате засумерилось, пора Сергею Петровичу в лавку, пора по хозяйству наведаться.
Допил я, не знаю который, стакан, без счета пили, стал прощаться.
Таисия Сергеевна, дочка Сергея Петровича, вышедшая во время нашего разговора, тут вернулась:
– На дороге у школы, – сказала она, – странник стоит, очень чудной, хотите посмотреть?
Признаюсь, когда она это сказала, мне вдруг страшно не захотелось никаких странников, а идти бы мне прямо домой, пока доберусь, пока что, – жил я в пятнадцати верстах от станции в усадьбе, и хотелось дома одному посидеть в своей комнате, но потом раздумался, простился с Сергеем Петровичем, поблагодарил и вышел за Таисией Сергеевной.
Издалека еще увидел я народ, много было народу, но ни шума, ни гама не слышно было. И чем ближе я подходил и чем яснее разглядывал лица, тем тише становилось, а и без того был тихий вечер.
И скоро я увидел его.
Тесно, но не близко стоял народ, впереди ребятишки, потом бабы, и стояли молча – никто не решался заговорить, стояли тихо и смотрели, и было так, будто он совсем далеко и, если скажешь, все равно, не дойдет до него твой голос, и оттого можно только смотреть и ждать, – не подойдет ли поближе! – только смотреть и ждать.
У изгороди стоял он и тоже смотрел и смело так и с тем правом своим, которого из всех нас никто в себе не чувствовал: в парусиновом хитоне – в ряске, в черном суконном плаще, без шапки – и волосы по плечи, чуть взбиты, на ногах сандалии, большой крест на груди и в руках посох, – лицо было совсем молодое, только изнуренное очень, левой рукой он держался за изгородь, чуть наклонясь, и рука его казалась необыкновенно белой, не рабочей, белая такая, – у простых не бывает.
Когда я подходил к нему, я уж делал усилие над собой, а когда подошел и стал лицом к лицу, страшно стало, как я заговорю с ним. И заговорил, и он ответил мне, и так улыбнулся такою улыбкой, – я подумал:
«Боже мой, да это одно самое доброе желание и засветилось в этой улыбке его!»
Ребятишки поближе подвинулись. Народ не расходился, еще и еще подходили, еще теснее стало, стояли молча, смотрели, прислушивались, и видно было, что улыбка его не только светит…
Начал я с расспросов, о старцах расспрашивал, где нынче старцы у нас спасаются и много ль их и как отыскать их. И он мне толково рассказал о всяких пустынях, и всякие дороги объяснил, до тропочек, – прямо, прямым путем доведут, куда хочешь, и имена назвал старцев, о которых я до тех пор ни от кого и ничего не слыхал. От старцев перешел разговор к тем лицам, шумевшим за последние годы по России за свою святость тоже старцы, чьи имена всякий дурак знал.
– Рано за дела принимаются, – сказал странник, все чудеса хотят творить, а вместо чудес, смотришь, один вред выходит, и себе вред и другим. Ты сперва Бога в сердце прими, и тогда одно Божие будет в сердце, и уж никому не будет вреда.
И опять сам перешел, но уж к своим старцам, которым закон не лежит, а потому не лежит, что приняли они в сердце Бога и творят волю Божию.
– Товарищ мой в послушание к старцу пошел и живет так, ему так и надо жить у старца, а вот я хожу… расточаю! – и опять улыбнулся и через улыбку его прошло столько добрых желаний, и хотелось просто, ничего не спрашивая, только смотреть, как смотрели ребятишки, смотрели бабы, старики и старухи, смотрел народ.
– Что же это такое расточать? – спросил я.
– Божьи дары расточаю, – сказал он, – сердце надо очистить, вернуть Богу дары Его, и уж в чистое сердце Бога принять… и тогда одно Божие будет в сердце твоем, и уж от дела твоего никому не будет вреда.
Я хотел и еще спросить, хотелось мне знать, как же так вернуть Богу дары, и много ль даров и как поступить с теми дарами, которые Богом благословенны, ну, с милостыней и милосердием, их тоже вернуть? и детей? и любовь вернуть? – а не решился спросить, молча стоял и смотрел.
– Кваску бы мне испить! – весело вдруг сказал странник, и немного подвинулся от изгороди к народу.
И какой-то парень бросился в школу и, не прошло и минуты, в обеих руках тащил полный ковш квасу.
Не торопясь, принял странник ковш, отпил большой глоток, и тут заметно было, как сильно мучила его жажда, но больше не притронулся, рукою вытер губы.
– Квас, да не про нас! – сказал странник и посмотрел, и отступили все.
И он пошел, не обернулся, по дороге пошел по нашей, по просторной, и твердо и легко ступал по земле один со своим посохом, странник Божий.
1913г.
Спасов огонек *
– В Петербурге Бога нет! – сказала это мне одна немолодая, но и не так уж старая женщина, от испуга, от трудной жизни постаревшая.
Смолоду жила она в достатке, в Ярославле жила, живала и в Костроме, и везде был Бог, везде она находила Бога, а под старость лет попала она в бедность и пришлось ей в Петербурге прислугой служить, да не так, как по-настоящему, на настоящее-то сноровки нет, пришлось поденную работу брать, во временные записаться – «пока господа себе приищут подходящую». И как начала она в Петербурге эту временную свою службу, вся согнулась и Бога-то уж и не находит, – там, в Ярославле, где свои домишко был, Бог есть, остался, и в Костроме, где живала она у родственников, тоже есть, а в Петербурге нет.
– В Петербурге Бога нет! – скажет и сейчас же Ярославль с Костромой вспомнит, все вспомнит и заплачет, горько так: там мужа похоронила, там и детей схоронила, там родственники и знакомые и все перемерли, и уж нет в живых никого, там и Бог, а в Петербурге одна, как есть одна, и могилок родных нет, и в больших трудах, и Бога нет, вспомнит и заплачет, и плачет горько и утешить нечем, ну чем же утешишь?
«В Петербурге Бога нет!» – признаюсь, и я так думал, только совсем по-другому. Я по-книжному гадал: Петербург на болоте стоит, всем известно, в Петербурге туманы, почитай, круглый год, и сам Петербург, что туман, придет час, нежданный и негаданный, и, как сон, все рассеется, одни болотные кочки останутся, какой уж там Бог! В Москве есть, в Киеве есть, в Ярославле и в Костроме есть, а в Петербурге нет, и вместо Бога туман.
Неужто только и есть, что туман?
Стал я доискиваться да докапываться, смотрю, а у нас в Зимнем дворце, в церкви мощи – Ивана Предтечи рука, государю Павлу Петровичу рыцари в дар прислали: рука долго нигде не находилась, потом нашлась и от рыцарей к нам попала, и по сие время у нас, в Петербурге во дворце хранится. Как же так, туман, болото, туман, а такая святыня – самого Христа крестила рука!
Неужто только и останется болото, гнилое болото?
Стал я прислушиваться и среди народа нашего, того слоя его, и, может быть, самого глубинного, голубиногоуслышал я совсем другой стих и другая слава о Петербурге шла:
Свет ты наш, преславный Питер-град,
Ты прибежище Христу был вертоград!
Как же так? Народ русский голубиныйвсеми словами выговаривает, а мы туманы, болото, туманы видим, твердим о запустении, о пропаде нашем, одну гниль разглядели огоньки болотные!
Ярославская старуха, от жизни своей, от испуганности состарившаяся, в испуганности своей не видит Бога, здесь, в Петербурге, не увидела, – все у ней было и всего лишилась, но Бог-то не оставит ее, душу ее никогда не покинет, она Бога не видит, в скорбях не увидела, от скорбей своих, а Он-то и есть с ней, и плачет она, потому что не видит, потому что вспоминает, как видела когда-то – все v ней было и вот всего лишилась. А мы в отчаянии нашем только туманы увидели, наше отчаяние… и нас, отчаявшихся, не оставит нас? задыхающихся нас, в нашей тяготе сердечной, в жутких болотных огоньках?
На Страсти пошел я в Казанский собор. Попробовал с Невского, не протолкаешься, зашел с Казанской, – тут попросторнее. Купил я себе свечку, подвигаюсь вперед, поближе, и понемногу до колонн добрался, тут, у колонн, против чудотворного образа Божьей Матери Тихвинской и стал у подсвечников.
Читали евангелие – двенадцать евангелий. Стоял я со свечкой, и все страсти живо из живых евангельских слов живо и ярко проходили передо мной, будто живых людей видел я и близких, и таких знакомых мне…
Иуда – «он первый у Христа ученик был» и предал Христа и вдруг все понял и ужаснулся, швырнул эти проклятые деньги – кровь на них к рукам прилипала! – и пошел, а куда идти ему? – за смертью пошел – один конец! – за смертью пошел, а смерти-то и нет ему: к речке прибежал, река ушла, в лес прибежал, наклонился лес, – кто же его избавит от этой ужасной, от этой черной нестерпимой жизни? Христа на крест повели, спрашивают Петра, ведь, он знал Христа? «Не знаю такого, ничего не слыхал про такого!» – отрекался Петр от Христа своего, и как понял – ведь еще совсем недавно клялся-то как: и пусть все соблазнятся, он не соблазнится никогда, и пусть лучше помереть ему, не отречется никогда! – и отрекся, и вот понял и горько заплакал, пошел – не вернуть уж! – куда глаза глядят, без дороги пошел, и три дня плакал во рву, в придорожном овраге, не мог от горя подняться и глаз поднять, – кто же подымет его из его черного рва? Матерь Божия Богородица у креста стоит, видит Сына, – Сын висит на кресте, видит муки Его и не может помочь, а нет горя темней и безысходнее бессилья этого, и упала она, и замешались в ней мысли. И вот в ее ночь, в эту темь истерзанного, отчаявшегося сердца, когда последние звезды погасли, вновь стал перед ней архангел и подал ей ветку и звезду с неба, и снова увидела она Сына, своего Бога.
У Божией Матери много свечей, все ставят, – полный подсвечник, тоненькие свечки тают, быстро так сжигаются, и на их место другие ставят, и тоненькие и большие, – не обирают свечей.
И вижу я, у стенки, прислонясь к краю образа, бабушка, а под образом, на приступочке, Петька уселся, внучонок. Бабушка еле-еле держится, трудновато ей – страстидолгие, а стоит и свечку свою не гасит, и свечка у ней такая тоненькая, как те, что тают на подсвечниках перед Божией Матерью.
Петька, вижу, мастерит что-то, вытянул губы, – старается, пальцами работает. Это Петька из сахарной бумаги фонарик прилаживает – для бабушки фонарик, чтобы ей огонек ее донести до дому. А себе он и не такое сделает.
Стоит бабушка у стенки, прислонилась к краю образа. Каждое слово от нас слышно, внятно читают Евангелие, громко выходит, но бабушка слышит ли что? Платок на ней теплый, уши закрыты. Сердцем бабушка слышит: хлебнула она на своем веку горя, бабушка слышит, и полны глаза в слезах. А видит ли что? Видит, она сердцем сквозь слезы видит, и молит, не о себе она молит, о внучонке, о Петьке – перед ним, несмышленым, вся жизнь! – о сыне, о племяннике пропащем, – и трудно, и опасно жить стало, не ровен час…
А Петька смастерил фонарик, да под картуз его – вот удивит бабушку! – стращал пострел давече, что огонек у ней задует, огорчил бабушку, а тут ей фонарик, получайте, вот обрадуется бабушка! – под картузом фонарик никуда не денется, и сам за другую работу принялся.
Свечка у Петьки, как и у бабушки, такая же тоненькая, и останется от нее под конец всенощной так огарышек маленький, Петька об этом обо всем сообразил и подумал, да тихонько с подсвечника от Божией Матери те тоненькие свечки, что тают, и стал потаскивать: ловко так протянет руку, будто поправить свечку, а сам и стянет, да все к своей, все прикладывает к своей тоненькой, и уж не тоненькая она у него, вот такая! – и без всякого фонарика не загаснет, и дуй, какой хочешь, ветер, не задует и ветер.
«Фонарик бабушке, пускай ее себе в фонарике донесет свою тоненькую, а у меня вот какая, саженная!» – и Петька доволен, знай, работает.
Кончились евангелия, и все двинулись к выходу, не потушили свечек, – пошел народ по домам со свечами, тихо, не торопясь, бережно хороня огонек. И мне пора было к выходу, да пообождал немного, бабушку пропустить с Петькой.
Впереди шел Петька, важный такой, нес свою свечку, и хоть коротенька была, да объемиста, пальца в два, такая! – шел Петька, крепко шагал, растопыренной розовой ладонью огонек застил, а за Петькой бабушка шмыгала с фонариком: тоненькая свечка ее так и таяла, там тоненький огонек теплился, – уж и рада она была фонарику, удивил Петька бабушку! – и слезы поблескивали на ее морщинках от огонька тоненького.
Донесут огонек и Петька, и бабушка до самого дома, до Вульфовой улицы, через мосты, через Неву-реку пронесут, ничего, ничего и ветер не поделает, сохранят святой огонек.
Вся площадь дрожит в огоньках, – тихо, степенно шел из церкви народ, разносил по домам спасов святой огонек.
Россия горит! Там по простору звездному над просторной русской землей огненной Волгой протекло уж шумящее грозное зарево, Россия горит! Спасов страстной огонек сохранит ее, не погибнет русский народ. И если уж Богом положено и суждено нам погибель принять – пропасть России, русский народ и на смерть свою пойдет с огоньком, и страстной огонек доведет его, огонек сохранит его, душу его. И пусть мы разбиты, пусть мы осмеяны, пусть мы потеряны, спасов страстной огонек сохранит душу и родимое имя России.
1913 г.





