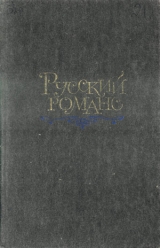
Текст книги "Русский романс"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Алексей Толстой,Борис Пастернак,Сергей Есенин,Марина Цветаева,Александр Блок,Валерий Брюсов,Василий Жуковский,Федор Тютчев,Николай Заболоцкий,Афанасий Фет
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
РУССКИЙ РОМАНС
Слово к читателю
«ЕСТЬ СИЛА БЛАГОДАТНАЯ
В СОЗВУЧЬЕ СЛОВ ЖИВЫХ…»
Речь идет о стихе, который поют, о стихе как источнике песни, романса.
Задача собрать текстовой материал романсов – значима и необходима, потому что напечатанное слово всегда может сослужить добрую службу, позволив прибегнуть в случае необходимости к первоисточнику. Правда, процесс этот сложный, так как, по утверждению Л. Толстого, язык меняется каждые четверть столетия. И песня и романс видоизменяются также.
Труд, заложенный в издании книги «Русский романс», важен. Стихи часто имеют самостоятельную ценность в отрыве от музыки. Музыкальная ткань имеет свои законы, поэтому нередко прибегают к неизбежным купюрам, отчего не раскрывается смысл драматургии, заложенный, например, в «Коробейниках» Некрасова. Возьмем «Признание» Пушкина. При записи этого романса я решил использовать стихотворение полностью. И все же трудно было уложить текст в ритм музыки Яковлева, современника Пушкина и товарища его по Лицею.
Представляемый здесь поэтический материал может сослужить добрую службу для грядущего поколения, тем более, что о звездах, о солнце, о луне, о шелестящем камыше, о том, как бьется сердце, ныне почти не пишут. Сегодня уже не прибегают к таким словам, как «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». Если человек побывал уже на Луне, то материальный мир выискивает проверенное веками художественное слово. Это введет в поэтическое равновесие.
Человек ранее был ближе к природе, чувствовал ее благодатное воздействие, часто прибегал в порыве счастья или несчастья к плакучей иве или сияющему тополю и вел с ними диалог. Достаточно вспомнить «Ой чого ж ти, дуби, на яр похилився…».
И еще одно соображение о необходимости издания такого сборника. Ведь Гоголь представлен и Римским-Корсаковым – «Ночь под рождество» и Чайковским – «Черевички». Следовательно, одна и та же тема, одни и те же стихи порождают новое поэтическое творение в музыке. В силу этого предлагаемый сборник, безусловно, будет полезен и для историков и для композиторов. Состав книги, на мой взгляд, отражает многообразие романсового творчества, а предваряющая книгу статья вводит читателя в мир русского романса.

И. Козловский,народный артист СССР,Герой Социалистического Труда
«Красивое страданье»
Заметки о русском романсе
Это странное соседство красоты и страданья представил нам Сергей Есенин, обратившись к хороссанской персиянке из пограничной Персии, в которой так хотел побывать, но так и не побывал:
До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь…
Стихи этого цикла Есенин написал в Баку. По соседству с Персией, а все же не в ней. С. М. Киров, обращаясь к другу Есенина журналисту Петру Чагину, который сопровождал поэта во время его бакинской командировки весной 1925 года, говорил: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии…». «Летом 1925 года, – вспоминает Чагин, – Есенин приехал ко мне на дачу. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии: огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи…»[1]1
Воспоминания о Сергее Есенине. – М., 1975, с. 405–406.
[Закрыть].
Этот комментарий подтверждает иллюзорно-романтический пафос «Персидских мотивов». Сознательно иллюзорный, когда ясно, что розы, коими усыпан порог несбыточной персиянки, выращены в бесплотных садах Семирамиды, а таинственные двери, так и оставшиеся не отпертыми, поступили совершенно правильно, неукоснительно следуя поэтике жанра. Но какого жанра?
А МОЖЕТ БЫТЬ,
«СТРАДАЮЩАЯ КРАСОТА»?
Итак, сами стихи – производная чистого воображения. Ведь все это произошло до чагииских садов и фонтанов. Поэт вообразил все. На границе с небывшим. Но внутри стихотворения «красивое страданье» – производная иного рода, призванная «украсить» боль, но так, чтобы эта боль была сострадательной. Граница между подлинным песнопением и декоративным предметом этого песнопения.
Изменим смысловой акцент – вместо красивого страданья скажем страдающая красота, – и пери из Хороссана исчезнет. Верно, может быть, высветится из волжских пучин персидская княжна Стеньки Разина. Уберем страданье, и останется пушкинское «Пью за здравие Мери», тоже пери, только иной, бессильной одарить не только красивым, но и вообще каким бы то ни было страданьем. А красотою – звонкой и легкой – да. Границы внутри лирики, внутри ее жанров.
Обратите внимание: «Про тебя на родине мне петь». Петь чужой образ «красивого страданья»; при сохранении этого чужого образа, но у себя на родине.
Не правда ли, мало-помалу привыкаем к этому странному соседству страдания и красоты? Почти уже свыклись, как из глубин исторической памяти вырастает жуткая древнеримская легенда об одном тамошнем меломане, изобретшем чудовищный музыкальный инструмент – золотой ящик с железными перегородками в нем. Этот музыкальных дел маэстро загонял в ящик раба, задраивал заслонку и начинал нагревать свой пыточный орга́н на медленном огне. Нечеловеческие вопли заживо поджариваемого, многократно отраженные от особым образом расположенных там перегородок, преображались в пленительные звуки, услаждавшие слух эстетически изощренных слушателей. Непостижимое умом страдание стало постижимой слухом красотой; хаос вопля – гармонией звуков. Эстетическое, пребывающее по ту сторону этического, – налицо. Граница художественного невозвратно преодолена.
Но красивое страданье «во дни… бед народных» или в память об этих бедах должно быть вытеснено иной эстетикой, не терпящей правдоподобия, но требующей правды:
…И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам
на пепелище сожженной фашистами хаты;
или:
Друзьям не встать в округе,
Без них идет кино,
то есть без Сережки и Витьки с Малой Бронной и Моховой.
Вино с печалью, кино с печалью. Но с позиции поэта-летописца, обладающего лиро-эпическим зрением.
Эти трагические стихи тоже поются, но иначе поются, как, впрочем, и симоновские «желтые дожди» ожидания. Здесь красота иного рода – красота поступка, скрадывающего частность красиво-страдательного жеста. Вновь жанровая граница: меж песней-эпосом и романсом-элегией. Существенная граница для определения жанра романса как этической и эстетической реальности одновременно, соответствующей «русско-персидской» есенинской формуле, парадоксально соединившей страдание и красоту.
«…Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым…»[2]2
Бахтин М. М. К эстетике слова. – В кн.: Контекст – 1973. – М., 1974, с. 266.
[Закрыть].
Так же и романс, который находится на границе эстетического и этического, художественного и социального. Чтобы понять это, необходимо из пространства «звучащего» выйти в иное, «слушающее» пространство.
Какие же они, границы восприятия романсного лирического слова (если, конечно, современный слушатель сумеет услышать в лирике коренное лира, которую можно взять на щипок, опробовать на звук и положить на голос)?
«КАК ЭТО ТАКОЕ ЗА ДУШУ БЕРЕТ?»
Тридцатые годы, отмеченные ударными маршами первых пятилеток, полемически входят в любовные «Стихи в честь Натальи» Павла Васильева:
Лето пьет в глазах ее из брашен,
Нам пока Вертинский ваш не страшен —
Чертова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,
Мы еще не начинали жить.
И далее: «…стране нет дела до трухи».
Камерный мир Александра Вертинского, в трагическом величии блудного сына, вернувшегося из «чужих городов» в просторы «молдаванской степи» своей Родины, – всего лишь «труха». Сказано жестко, но с оттенком сомнения в успехе развенчания – «пока… не страшен».
В те же примерно годы Ярослав Смеляков в не менее любовном стихотворении «Любка Фейгельман» по поводу той же интимной лиры озадаченно спросит:
Я не понимаю,
Как это такое,
Что это такое
За́ душу берет?
Ответить на этот вопрос означает понять в нашем предмете, может быть, самое главное.
У Васильева салонному романсисту противостоит Некрасов. Очевидно: Некрасов «Коробейников», но вряд ли Некрасов – нежнейший лирик.
Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, —
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!
Некрасов… А ведь почти романсные слезы!
И в том же салонном мире слышим широковольное «Ехали на тройке с бубенцами», влекущее не по смысловой, а по лексической ассоциации, не чье-нибудь, а опять-таки некрасовское:
Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой.
Обозначены ключевые (не все, конечно) слова романсного словаря: бешеная тройка, ямщик под хмельком, молодой корнет… Лексика – едва ли не главная реалия жанровой определенности романса. И тогда «тройка с бубенцами», исполненная камерным певцом, и «бешеная тройка» с молодым корнетом – лексически однопорядковые вокально-лирические явления.
Противопоставление не состоялось. То, что берет за душу, и как оно это делает, следует искать за пределами чистого жанра: в более поздних временах, для романса на первый взгляд предназначенных мало.
«А ТЫ ВСЕ ПРО ЛЮБОВЬ…»
Хотя эпоха НТР и пыталась отторгнуть романс как область «слез, роз и любви», но ей это не только не удалось, а, напротив, появились барды и менестрели неоромантического склада, заполнившие дворцы культуры и красные уголки щемяще-мужественными переборами семиструнной гитары, подключаемой, если потолки высокие, а зал гулкий, к городской электросети.
Впрочем, мир «слез, роз и любви», вытесненный на периферию общественного сознания, всегда был сокровенным чаянием.
Тот же Смеляков о годах «производственной» словесности, свидетельствуя эту противоестественную ситуацию, писал:
Создавались книги про литье,
Книги об уральском чугуне,
А любовь и вестники ее
Оставались как-то в стороне.
Но и здесь он, как поэт истинный, обнаруживал слабую, но вечнозеленую былинку любви.
Романс для нового города, новых горожан – в каждый дом. Гитарная песенка по клееной-переклееной магнитной дорожке. А то и под походную – у костра – гитару.
И рядом, почти на тех же малоформатных подмостках, Рузана и Карина Лисициан поют знаменитое «Не искушай…». Выявляют в одноголосии влюбленного сердца второй, внутренний голос, складывая и тот и другой в дуэт. Но такой, однако, дуэт, в котором оставляется зазор в монологе двух и для двух, и потому для всех и каждого.
Режиссер Эльдар Рязанов создает новую киноверсню «Бесприданницы» А. Н. Островского, назвав ее «Жестокий романс». И если в предыдущей экранизации цыганский надрыв «Нет, не любил он…» выглядит лишь вставным номером, то здесь феномен романса осмыслен как явление личной судьбы, взятое на границе жизни и смерти, а не как жанр вокально-поэтического искусства. Это – жизнь «напоследок». Романс как судьба – судьба как романс. Не быт, а бытие, но в зеркале жанра. Самосознающее видение жанра – с «крупицей соли» – обнажает его скрытую природу с позиций новых песен и новых времен, для романса, так сказать, «мало оборудованных».
Вместе с тем нынешнее время возрождает жанр в его историческом многообразии. И свидетельство тому – аншлаги на концертах Елены Образцовой, Валентины Левко, Галины Каревой, Нани Брегвадзе Дины Дян… Русский романс, исполняемый в «цыганском» ключе, прославлен именами Тамары Церетели, Кето Джапаридзе, Изабеллы Юрьевой. А патриарх романсного исполнительства Иван Козловский?! А Надежда Обухова или Мария Максакова, которые вывели русский романс из «душевного» мещанского быта в духовное бытие поющего народа?..
Вокальные интерпретации романсов прошлого порой неожиданны, новаторски конструктивны (вспомним, например, «Шумел камыш…» в исполнении Жанны Бичевской и Елены Камбуровой).
Развивается культура нового романса на старые слова (пушкинский цикл Г. В. Свиридова, например) и на стихи поэтов XX столетия в их лучших образцах (цветаевское «Мне кажется, что вы больны не мной…» на музыку Таривердиева…).
И все же: почему и каким образом «красивое страданье» «берет за́ душу»?
«…ДАЙ ЖЕ ТЫ КАЖДОМУ, ЧЕГО У НЕГО НЕТ…»
Пока останемся в нашем времени и в нашей жизни. И обратимся к миру Булата Окуджавы[3]3
В настоящее издание романсы Булата Окуджавы не вошли, так как сборник ограничен определенным периодом – первая половина XVIII века – начало пятидесятых годов XX века. – Ред.
[Закрыть], не без былого благородства и не без нового, душа в душу, артистизма поющего свой нескончаемый романс едва ли не тридцать лет в огромном городе как в уютной комнате благоустроенной шестнадцатиэтажки или в бывшей коммуналке отреставрированного, почти антикварного старого Арбата. Выходим на многолюдные площади, а в душе звучит этот долгий романс – для каждого в отдельности. И уличному шуму его не заглушить при всей тишайшей проникновенности этого голоса. Романс Окуджавы принципиально нов, но именно в нем – ключ к пониманию романса старого, потому что поэт осмысливает тайну романсности как самостоятельной субстанции, романса как личной жизни, проживаемой ради любви.
Каждое стихотворение-песня – лично для каждого, и только потому – для всех. Эти вот неповторимо авторские «виноват», «представьте себе», «если вы не возражаете» приглашают вас не только послушать, но и пережить не вами пережитое. Вы оказываетесь в том самом «синем троллейбусе» рядом и наравне со всеми. Это современный символ демократизма жанра в его исходной ориентации на любовь с ее трагическим концом. «Дорожная песня» Окуджавы – Шварца стала романсом о романсе. Вот они – любовь и разлука – в их почти банальном, но существенно значимом соседстве, то есть в исконно человеческой близости-дальности. Они – две подруги, две странницы, две дороги, навечно приданные взыскующему любви сердцу. И в этом – смыслообразующий центр данного, как и всякого вообще, романса. Сюжетно-содержательная его двойственность, примиряемая в счастливом несчастье лирического героя. И тогда вся иная атрибутика жанра («то берег то море, то солнце – то вьюга, то ангелы – то воронье…») вещь необходимая, но все-таки второстепенная.
Страдать больше или меньше нельзя. Личное страдание всегда в полной мере. А вот «красота страданья», если опять-таки следовать за есенинским образом, может быть большей или меньшей. Романс Окуджавы как романс сознательно осознаваемый выявляет особенности жанра в предельно выраженных формах. К аффектированной «красоте» это относится особенно – в ее соприкосновении с декоративно-орнаментальным бытом близкой поэту Грузии. Смотрите: перед взором поэта и в самом деле плывут наяву, как на картинах Пиросмани, «синий буйвол, и белый орел, и форель золотая…». Куда картинней, чем в есенинском Хороссане! Граница и предел жанрового канона.
Но тайна «красивого страданья» приоткрывается в романсе о Франсуа Вийоне: «…Дай же ты каждому, чего у него нет».
Все это за так – и просить не надо – дает романс. И если вчитаться-вслушаться, всем, за кого просит поэт, недостает… любви. Для того и существует в культуре мир «красивого страданья», как бы восполняющий недостающее, бережно сохраняемое в тайне. Ибо, прав Чехов, каждое личное существование на тайне и держится.
Романс обнародует эту тайну, но только не в альковной своей частности, а в общекультурной музыкально-поэтической объективности. А в сфере восприятия эта объективность вновь становится личной. Иллюзия сбывшихся грез. Для каждого из сидящих в зале, но и для всех в этом же зале. В коллективно-индивидуальном томлении по счастью любви, но любви краткой и конечной и потому страдающей; но страдающей идеально, то есть «красиво».
С МУЗЫКОЙ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ
«В крови горит огонь желанья…», «Не искушай меня без нужды…», «Средь шумного бала…». Этот ряд можно долго еще продолжать.
Можно выстроить ряд в ином роде: «Хас-Булат удалой…», «Из-за острова на стрежень…».
А можно и вовсе иначе: «Только вечер затеплится синий…», «Мой костер в тумане светит…».
Можно и так: «Мы только знакомы…», «Вам возвращая ваш портрет…».
Можно, наконец, вернуться к классике, но классике новой: «Клен ты мой опавший…», «Никого не будет в доме…».
Называется всего одна строка, как в тот же миг возникает музыка с последующими словами, свободно влекущимися друг к другу и все вместе – к музыке; совершенно определенной музыке, которая – только начни – всегда на слуху, но обязательно вместе со словом.
Все перечисленные здесь стихотворные зачины – индивидуальные знаки поэтических и музыкальных самобытностей (пусть даже и безымянных); но таких самобытностей, которые, встретясь, явили иное качество. И ссе это – романс: элегический, балладный, городской. Романс в его интуитивно внятной жанровой опре-деленности.
Братание слова и музыки; но слова, готового стать музыкой, и музыки, тоже готовой стать словесно выраженной любовно-житейской ситуацией. Слово в тексте, еще не ставшем романсом, – с музыкой «на дружеской ноге».
Вспомните;
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант;
или
Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть.
Приземленное и возвышенное рядом, до конца вместе. Еще одно, исконно романсное, преодоление границ.
Однако совпадение музыки и слова – чудо, творческая несбыточность: «…но дрожала рука и мотив со стихом не сходился». О том, состоялось ли претворение слова в музыку, музыки в слово, судит тот, кто слушает романс и одновременно прислушивается к своей душе и к тактам своего сердца.
Совпадение слова и музыки, логоса и голоса – сокровеннейшее чаяние композитора. Не поэтому ли история русского романса знает по нескольку десятков музыкальных версий одного и того же поэтического текста? «Не пой, красавица, при мне…» Пушкина. На это стихотворение писали музыку Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, Рахманинов. Лишь Глинка и Рахманинов попадают в точку. Именно в их интерпретациях романс обращается к слуху массовой аудитории. На тексте Баратынского «Где сладкий шепот…» сошлись в творческом поединке Глинка, Гречанинов, Вик. Калинников, Ц. Кюи, Н. Соколов, Н. Черепнин, С. Ляпунов. Нужно отметить, что если Глинка и Ляпунов прочитали это стихотворение как романс, то Соколов и Черепнин услышали в нем двуголосную музыкальную пьесу, а Кюи создал на этот текст музыкальную картину. Таким образом, романсу стать самим собой тоже непросто: многосмысловой характер стихотворного текста, предназначенного к романсной жизни, противится своему предназначению, встречаясь с музыкой, имеющей виды на иное.
Влечение романсного слова к музыке – существенная его особенность. Афанасий Фет писал: «Меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих»[4]4
Цит. по статье Б. Я. Бухштаба к изд.: Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. «Б-ка поэта» (Б. с.). – Л., 1937, с. 21.
[Закрыть]. Музыка в своей исходной неопределенности как бы выявляет зыбкость романсного слова при всей его смысловой однозначности как слова.
Это теоретически обоснованное влечение понимают и композиторы. П. И. Чайковский пишет: «…Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область… Это не просто поэт, а скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словами»[5]5
Модест Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. 3. – М., 1902, с. 266–267.
[Закрыть]. Композитор и музыковед Цезарь Кюи писал: «Поэзия и звук – равноправные державы, они помогают друг другу: слово сообщает определенность выражаемому чувству, музыка усиливает его выразительность, придает звуковую поэзию, дополняет недосказанное: оба сливаются воедино и с удвоенной силой действуют на слушателя»[6]6
Кюи Ц. А. Русский романс. Очерк его развития. СПБ., 1896, с. 6.
[Закрыть]. Согласно Кюи, слово определено не вполне, ибо его можно досказать музыкой. Таким образом, композитор – первый человек из публики, слушающий романс в его не начавшемся еще, но готовом начаться становлении, с его несказанной – недосказанной – тайной. Музыка в своей неопределенности призвана доопределить слово, которое как будто и так в смысловом отношении определено. В уравновешенном соответствии между формами музыкальными и поэтическими видел Кюи «художественную задачу вокальной лирики»[7]7
Кюи Ц. А. Цит. соч., с. 61.
[Закрыть]. Но это равновесие – лишь стремление к идеалу, «нечаянная радость» от схождения слова и музыки.
Слово и музыка. Еще одно существенное пограничье, имеющее свойство быть преодоленным в «идеальном» романсе.
Особый тип совпадений – это романсный театр поэта, композитора, музыканта и исполнителя в одном лице, представляющем разнородные дарования в собственной личности.
НЕКЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИКА
Но едва ли только критерии эстетические определяют это преодоление.
Великий Глинка пишет музыку на стихи третьестепенного поэта Кукольника, а в результате – гениальное «Сомнение», «Только вечер затеплится синий…» Алексея Будищева (кто знает теперь этого поэта?) положен на музыку А. Обуховым (а кто, скажите, знает этого композитора?). В результате – популярный городской романс, известный под названием «Калитка», без которого не обходится ни один вечер старинного романса.
Или, наконец, вовсе не классический – бытовой – романс «Только раз» П. Германа – Б. Фомина, а «за́ душу берет…».
Классика и неклассика – поэтическая и музыкальная – уравнены в правах, потому что и та и другая адресованы всем и каждому. И это – замечательная черта русского романса, явления социально обусловленного и глубоко демократического, но с обостренным вниманием к душевному миру человека.
Может быть, именно поэтому столь чутким и заинтересованно пристрастным к русскому романсу в лучших его образцах был В. И. Ленин, прекрасно понимавший при этом социальное назначение искусства, революционно-демократические воззрения передовых литераторов России.
М. Эссен вспоминает: «Ленин слушал с огромным удовольствием и романсы Чайковского „Ночь“, „Средь шумного бала“, „Мы сидели с тобой у заснувшей реки“, и песнь Даргомыжского „Нас венчали не в церкви“… Каким отдыхом, каким удовольствием для Владимира Ильича были наши песни!.. Декламировали стихи Некрасова, Гейне, Беранже»[8]8
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 5-ти томах, т. 2. – М.: Госполитиздат, 1969, с. 115–117.
[Закрыть].
Влечение Ленина к стихии русского романса с его глубочайшей народностью, исконным вольнолюбием прошло через всю его жизнь, начиная с юношеских спевок с младшей сестрой Ольгой. Д. И. Ульянов вспоминает: они пели дуэтом «Нелюдимо наше море», «Свадьбу» Даргомыжского; пел Владимир Ильич и сам. Это были «Прелестные глазки» Гейнс:
…Эти чудные глазки на сердце
Наложили мне скорби печать,
От них я совсем погибаю,
Милый друг, чего больше искать…
«Погибаю» – надо было брать очень высокую ноту, и Владимир Ильич говорил, вытянув ее: «Уже погиб, погиб совсем…». «Пелось… не только для слов, – продолжает Д. И. Ульянов. – Пелось потому, что душа его действительно рвалась к другой жизни. Пела. Но не изнывала, не грустила. У Владимира Ильича я почти не помню в пении минора. Наоборот, у него всегда звучали отвага, удаль, высокий подъем, призыв»[9]9
Там же, т. 1, 1968, с. 114–117. (Все перечисленные в этих воспоминаниях романсы читатель найдет в данной книге. – Прим. сост.)
[Закрыть].
Эти краткие выдержки живо свидетельствуют о месте музыки, русского романса, русской песни в жизни В. И. Ленина. И в самом деле: в русском романсе вольнолюбие и героика естественно соседствуют с тонким лиризмом и любовным переживанием, грусть и печаль – с улыбкой и чуть заметной иронией.
«ПРО ТЕБЯ НА РОДИНЕ МНЕ ПЕТЬ…»
Смыслообразующий стержень романса универсален. Это, как правило, лирическая исповедь, рассказ о любви в ее извечных вариациях первого свидания, ревности, измены, юношеской робости, гусарской бравады, разлуки, ухода к другому или другой, воспоминание об утраченной любви. Вечные сюжеты, не знающие ни временны́х, ни пространственных границ. Общечеловеческая основа романса предполагает снятие национальных границ, интернационализацию жанра при сохранении национального своеобразия каждого произведения в отдельности.
«Пью за здравие Мери…» Пушкина имеет первоисточником стихи Бэрри Корнуэлла; «Горные вершины…» Лермонтова так и названы им «Из Гёте»; «Вечерний звон» Томаса Мура, ставший удивительно русской вещью, поется в переводе Ивана Козлова…
Этого достаточно, чтобы почувствовать, что иноязычные источники названных текстов, к тому же еще слитых с музыкой, оказались за кадром и мерцают лишь как слабые сполохи былого иноязычия. Теперь эти произведения – живые факты русской культуры, представшей в романсе особенно демократичной.
Наиболее крупные поэты, работающие в жанре романсной лирики, активно выходят в иноязычные пространства, в сопредельные культуры, – так сказать, для сбора материала. Интересна в этом отношении творческая биография «Песни Земфиры» («Старый муж, грозный муж…») Пушкина, включенной им в поэму «Цыганы». Комментаторы свидетельствуют: находясь в Кишиневе, поэт интересовался местным фольклором. Особенно его занимала, вспоминает В. П. Горчаков, «известная молдавская песня „Тю ообески питимасура“. Но еще с бо́льшим вниманием прислушивался он к другой песне – „Арде – ма̀ – фраже ма́“ („Жги меня, жарь меня“), с которою уже в то время он породнил нас своим дивным подражанием…». Первоначально напев песни был записан для Пушкина неизвестным человеком и опубликован с исправлениями Верстовского вместе с текстом, предваренным такой записью: «Прилагаем ноты дикого напева сей песни, слышанного самим поэтом в Бессарабии»[10]10
См. комментарий В. Е. Гусева в кн. «Песни и романсы русских поэтов». (Б. П., б. с.). – М. – Л., 1965, с. 1000; внутренние ссылки там же.
[Закрыть].
Чужое, ставшее своим при крайне заботливом отношении к этому чужому, при нежнейшем сохранении своеобразия «дикого напева сей песни», оставшейся дикой и в то же время поэтически и музыкально культурной.
Интернациональный характер русской песни и русского романса очевиден. Исключения лишь подтверждают это обоснованное исследователями утверждение[11]11
Там же, с. 1058.
[Закрыть]. Стихотворение Феодосия Савинова «Родное» – «Вижу чудное приволье…» (1885), ставшее народным романсом, поется без последней строфы:
Внемлю всюду чутким ухом,
Как прославлен русский бог…
Это значит – русский духом
С головы я и до ног!
«Редакторское» чутье поющего народа оказалось безупречно точным, оберегающим основу основ русской песни, русского романса – его общечеловеческую природу, чуждую религиозным и шовинистическим препонам и разделам.
Вместе с тем национальное своеобразие романса пребывает в удивительной сохранности, поражающей слух западных знатоков русского романсно-песенного творчества. Один немецкий философ XIX века восхищенно писал: «…отдал бы все блага Запада за русскую манеру печалиться». Эта удивившая его «манера печалиться» укоренена в русской истории, в том числе и в истории русского романса.
«РОССИЙСКАЯ ПЕСНЯ» – «РУССКАЯ ПЕСНЯ» – РОМАНС
Романс (испанское romance, буквально – по-романски, то есть по-испански) – камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Примерно так определяют романс в изданиях энциклопедического типа.
Сразу же обнаруживается двойственная природа жанра: музыкальное – поэтическое, вокальное – инструментальное.
В некоторых языках романс и песня обозначаются одним словом: у немцев – это Lied, у англичан – Song, у французов – Lais (эпические народные песни). Английское romance означает эпическую песню-балладу, рыцарскую поэму. Испанское романсеро (romancero) – специально сложенные в законченный цикл народные, чаще всего героические романсы. То, что в романсеро главное (героическая страсть), в русском романсе – лишь возможность, преодоление личного, интимно-любовного начала, но свидетельствующее, однако, о теснейшей связи русской песенно-романсной культуры с историческими судьбами народа, страны.
Владимир Даль романс помещает как однородное в словарную статью роман. Он фиксирует немецкие и французские истоки понятия роман. Далее идут толкования слов романический и романтический, и только после этого романс – «песня, лирическое стихотворенье для пения с музыкой».
В Россию слово романс пришло в середине XVIII века. Тогда романсом называли стихотворение на французском языке, обязательно положенное на музыку, хотя и не обязательно французом. Но романс как жанр русской вокально-поэтической культуры назывался иначе – российской песней. Это и был бытовой романс, предназначенный для сольного одноголосного исполнения под клавесин, фортепьяно, гусли, гитару.
Едва ли не впервые романс как название стихотворения употреблено Григорием Хованским и Гавриилом Державиным в их стихотворных книгах, изданных в 1796 году. Во всяком случае, «Карманная книга для любителей музыки на 1795 год» этот термин как самостоятельный поэтический жанр еще не фиксирует[12]12
См. Гусев В. Е. Песни и романсы русских поэтов. – В кн.: Песни и романсы русских поэтов…, с. 14.
[Закрыть].
Итак, со второй половины XVIII века начинается «российская песня», или бытовой одноголосный романс.
Одноголосность «российской песни» – явление принципиальное. «Российской песне» предшествовал так называемый кант – песнопение на три голоса с последующей заменой третьего голоса аккомпанементом на флейте и скрипке, превращавшим его в дуэт: путь к одноголосной песне-романсу, произведению, запечатлевающему личную судьбу в ее всеобщей событийности. Второй и третий голоса ушли к слушателям, внимающим внутреннему голосу лирического героя.
Нужно отметить еще один существенный момент. Г. Н. Теплов, композитор и собиратель кантов XVIII века, называет свое, по сути дела, первое собрание этого рода «Между делом безделье», обозначая как бы неделовой характер не только сочинения песен, но и их слушания. Дела у всех разные, а вот в «безделье» люди уравнены в сопереживании общечеловеческих чувств. Трехголосие канта, еще не ставшее одноголосием «российской песни», свидетельствует о мирской природе жанра.
Композиторы Ф. М. Дубянский и О. А. Козловский определили музыкальный образ «российской песни» конца XVIII века. «Российская песня» – понятие достаточно неопределенное. Содержательно оно столь же пестро, сколь пестро и многообразно понятие канта. Но иная поэтика очевидна. Народно-песенная стихия и книжная культура канта естественно сошлись в этом новом жанре, определив его книжно-фольклорную противоречивость, отразившую особенности русского городского быта конца XVIII – начала XIX века во всей своей социально-сословной неоднородности. «Собрание русских песен» В. Ф. Трутовского (1776–1795) и есть, может быть, первое собрание романсоподобных песен, или «стиходейств», как их тогда называли. Действо в стихах, фрагмент судьбы, чувство в развитии.
К рубежу веков «российская песня» предстает в следующих разновидностях: пасторальная – пастушеская – идиллия, застольная песня, элегическая песня (близкая к классическому романсу), назидательное песнопение, философская миннатюра. Поэты Юрий Нелединский-Мелецкий, Иван Дмитриев, Григорий Хованский, Николай Карамзин плодотворно работают в жанре «российской песни».
Сложение текстов на широко известные музыкальные образны – обычное явление той поры. Стихи «на голос» – свидетельство всеобщего характера музыки, но также и популярности данных музыкальных пиес. Индивидуальная судьба – на общезначимый мотив. Личное, взятое не в полной мере. Свидетельство еще не преодоленного недоверия к личности – неповторимой, самоценной.
Демократизм «российской песни» делал этот жанр своеобразным камертоном, выявляющим истинную значимость того или иного поэта. Забыты, например, тяжеловесные эпопеи классициста Михаила Хераскова, а его песенка «Вид прелестный, милы взоры…» пережила не только ее автора, но дошла и до наших дней.








