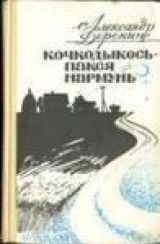
Текст книги "Перепелка — птица полевая"
Автор книги: Александр Доронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Что она говорила ему, – сейчас Игорь уже забыл. А вот ту добродушную старушку, которую через две недели и саму проводили на городское кладбище, до сих вспоминает. Кладбище было далеко-далеко – ехали туда на автобусе. Тогда о бабке Акулине, кроме него, никто и не горевал. Похоронили – и на земле она как будто не жила. Вскоре в ее квартиру вселились новые жильцы…
Прошло много лет. После школы Игорь учился в университете, потом работал в агропроме. А сейчас вот уже два месяца – зоотехником на родине матери.
Живет Игорь Буйнов в Вармазейке и никак не нарадуется: луга там ничуть не изменились. Они такие же, какими остались в детской памяти. Другими стали только дома. Сейчас они повыше, многие кирпичные, под окнами красивые палисадники.
А жители, кого он знал раньше, постарели. Вот дядя Паша. Раньше был высоким, кудри до плеч, под шапку не умещались. Сейчас он пополнел, стал похож на пенек, волосы поседели. «Ты уже не тот», – иногда хотелось сказать Игорю, но не посмел. Жизнь ведь не всех нежит. Много пережил дядя: умерла жена, на руках осталось двое сыновей, целыми днями на работе – некогда даже вздохнуть…
Постарел и Казань Эмель, бывший их сосед. Сейчас он со своей старухой, бабкой Олдой, живет в центре села, в новом доме, рядом с клубом и школой.
Бабка Олда почти не изменилась, была все такой же: худенькая, глаза, как бусинки, веселые. Любит, как и прежде, новости разносить…
Игорь вышел на Суру, по скользкому, затянутому тиной берегу спустился вниз, где двое мужчин – один старый, другой молодой, может быть, отец с сыном, смолили лодку. Река как-то сузилась, была не похожа на ту, которую видел в детстве. Игорь поднял из-под ног камешек, замахнулся и закинул на середину реки. В том месте, где он упал, вода заискрилась.
Мужчины у лодки подняли головы, вытаращив глаза, посмотрели на него: смотри-ка, взрослый человек, а ведет себя как ребенок…
Игорь, спустясь к ним, поздоровался и спросил:
– Почему река так обмелела?
Старший вынул изо рта дымящуюся трубку.
– Ты не с Египта приехал?
Когда Игорь сказал, кто он, парень произнес:
– Сам зоотехник, должен знать: если не будешь убирать навоз из-под коровы, она утонет. Так и с Сурой выходит. Кто только не поганит ее, разве не задохнется?
И мужчины вновь приступили к делу. Игорь смотрел на них и удивлялся ловкости.
– Вон Наталья идет! – приподнял голову старший и прекратил работу.
К ним спустилась девушка в тонкой синей кофте. Мужчины сполоснули руки и сели на доски обедать. Пригласили Игоря. Он поблагодарил, а сам стал смотреть, как девушка мыла ноги в холодной воде. Ей было лет двадцать пять. Стройная, высокая, на правой щеке родинка. При наклоне было видно, как весенними птичками трепещут, готовые выпорхнуть, ее острые груди.
«Пора уйти отсюда, а то скажут еще, что пялишь глаза на чужих жен», – подумал Буйнов и направился к иве, растущей в сторонке.
Сейчас он думал о том, как добраться до стойла. Как только вода спадет, на пароме они переправят коров на тот берег. Но сначала нужно подготовить калды. «Весенний день год кормит!» – вспомнились Игорю слова председателя, и он про себя улыбнулся.
Наталья покормила отца с братом, сполоснула посуду и по тропке пошла вдоль берега. Проходя около ив, заметила Буйнова и попятилась.
– Вы не за мной, случайно? – пошутил Игорь.
– Нет. Просто интересно, кто в полдень бездельничает, – окинула его веселым взглядом девушка.
– Зоотехник, кому же другому еще?
– А, это, выходит, о тебе вспоминали в клубе? Аспирантуру закончил, завтрашний известный селекционер. Такую, говорят, проводит се-лек-цию…
От услышанного Игорь даже оторопел. Пытаясь скрыть смущение, сказал:
– За твою похвалу только в шампанском осталось искупаться, – и торопливо сбросил с себя одежду.
– Поновее ничего не нашел? – застеснялась девушка и отвернулась. Увидела – парень уже в воде, крикнула: – От такого «шампанского» поясница как бы не отказала!
День был жарким, но вода холодная. Руками Игорь разгонял волны, они же еще больше мешали телу. Нет, до того берега не доплывет, и он вышел из воды. Сорвал одуванчик, поднялся с ним и удивился: одежды на месте не было.
– Ау! – донесся голос Натальи.
Буйнов побежал на голос. Когда догнал девушку, та, смеясь, сказала:
– На брюки, на! Не из Парижа случайно привез?
– Знаешь что, – разозлился Игорь, – таких, как ты, я в Саранске видывал.
– Не обманываешь? – поджала девушка пухлые губы. И недовольно буркнула: – Тогда, как говорит Казань Эмель, пусть тебя кыш возьмет! – и, не поворачиваясь, заторопилась к варакинскому огороду.
– Нашлась невеста, и смеяться не разрешает! – крикнул вдогонку Игорь и спешно стал одеваться.
* * *
Роза Рузавина каждое воскресенье ездила на базар. Надоело это дело, да куда денешься – муж заставляет. Тот сердился на нее из за того, что работала в поле. Рыбу, пойманную в Суре, Трофим сам солил и коптил.
И сегодня Роза вернулась с Кочелая поздно ночью. Есть не стала – за столом пересчитывала вырученные деньги. Не спохватилась даже, как через порог перешагнул Миколь Нарваткин.
– Ой, а я это… Не успела даже… – Роза от растерянности не знала, куда деть руки. Будто пойманная при воровстве, торопливо спрятала деньги в платок, сорванный с головы, и юркнула в переднюю. Вскоре оттуда раздался голосок, похожий на воркование голубя: – Давненько, Миколь Никитич, не заходил к нам.
– Некогда, красавица, – прижавшись спиной к ступенькам печки, кокетливо ответил гость.
– Сейчас ты уже бригадир, начальник моего Трофима…
– А-а, вон в чем дело… – засверкали у Миколя золотые зубы. – Хочу спросить тебя, почему твой муж не выходит на стройку?
– Он, Миколь Никитич, твой друг, сам его и спроси, – ответила женщина заигрывающим голосом. – Моему мужу ничего не надо. Есть у нас, говорит, кот и хватит. У Трофима знаешь характер, вместе сидели…
Миколь повесил картуз на лосиные рога, прибитые к стене, прошел вперед.
– Старое вспоминаешь, Роза, былое, наболевшее. Каждый год – пятьдесят длинных недель. За всю жизнь, – он неспеша связывал свои слова в один узел, – нас не тюрьмой измеряют, а делами. Возможно, и это о многом говорит, только человек не тополь, шумящий листвою за окном, – он меняет места. А они – его характер.
В передней послышался шелест платья. Вскоре Роза вышла в красном халате, волосы заплетены в косу, которая доходила до пояса. Села напротив Миколя, начала оправдываться:
– Базар мне осточертел… Глаза бы мои его не видели. Сколько стыда натерпелась. Покупатели не глупые люди, понимают, что рыба в огороде не растет…
– Да и вон эти… – хозяйка поднесла ладони к лицу гостя. – Боюсь, не только они и душа протухнет…
– На это тебя никто не толкает, – Нарваткин хотел еще что-то сказать, но Роза остановила:
– На местах, говоришь, характер меняется?.. Это как посмотреть. Ты прав: они изменяют характер да еще как. Не зря говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. – Помолчала немного и произнесла: – Возможно, это так, Миколь Никитич: человек не дерево под окном…
Тополь срубят – на дрова пригодится, человек свалится – кроме земли никому не нужен. Забыл, чем Трофим похерил свое счастье? И за что его сажали?
– Ты, Роза, будто обо мне рассказываешь, а не о муже, – Нарваткин хотел было остановить хозяйку.
– Я, Миколь Никитич, вновь напомнила тебе, как всё меняется. Это, как говорят, первая сказка. Вторая – муж не стал работать в колхозе не только из-за того, что любит деньги. Он платит злом за случившееся. В вагоне поезда он людей защитил от поножовщины, а ему четыре года дали.
– Ничего не поделаешь, Роза. Что Бог тебе дает, оттого никуда не денешься. Каждый стоит на том месте, которое лишь ему уготовано…
– Что, и ты на своем месте? – вспыхнула женщина. – Тогда зачем, скажи, по селам шляешься?
– Счастье искал… И, признаюсь, нашел ее, крылатую перепелку, как говорит ваш агроном. Не знаю, поймаю и или нет за крылья, но все равно знаю: они мне помогают летать.
Роза от растерянности переминала пальцы, будто они были в чем-то виноваты.
Наконец-то от души сказала:
– Ты за Трофимом пришел? Сейчас он Суру не покинет. Рыба как раз икру мечет. И видя – гость вот-вот уйдет, достала бутылку, поставила на стол. – Что не спрашиваешь, сколько у нас денег? – неожиданно спросила. – Четырнадцать тысяч набрали. Да я их недавно в дом ребенка выслала, в Рузаевку. Своих детей нет, а вот сиротам пригодятся. Рыбу не Трофим, так другие переловят…
Выпучив глаза, Нарваткин смотрел на женщину и не находил слов. Перед ним стояла та, из-за которой он остался в Вармазейке. Он полюбил Розу с той минуты, когда впервые увидел. Любил тайно, лишь ему понятными чувствами. Только сердечное его тепло никак не доходило до ее груди.
Миколь думал: Рузавины лишь за деньгами гонятся. Копили те, что он пускал по ветру. Трофима он вдоль и поперек знает, тот сквозь пальцы и мякину не пропустит. А вот жена его, видать, совсем другая…
Душа у Миколя, будто весной под горячим солнцем снег, потихоньку стала таять. Роза тоже думала о госте. О нем, который считался другом мужа и с кем тайком она мечтала встретиться. Теперь он стоял перед ней таким, каким его знала: непокорным, никому не верящим. И в то же время Миколь добрый человек, и душа его – нараспашку. Роза это поняла уже той зимней ночью, когда Нарваткин заходил к ним впервые. Правда, тогда его больше увидела с плохой стороны: два дня глушил с мужем водку. Догадалась женщина и о другом: колхозную конюшню они спалили, Миколь с Трофимом. Она это чувствовала, только как всё получилось – не знала.
Но все равно в ее груди опять запылал тот огонек любви, который у нее возник в Саранске. С тем парнем Роза ходила в кино. Ни поцелуев, ни объятий. Вернулась с отцом в Вармазейку – чувства приостыли. И вот сейчас, когда она замужем, ей тридцать лет, ослабший огонь вновь запылал в ее сердце.
– Что, Роза, мне пора уходить, – встал Нарваткин.
– Успеешь… Трофим придет под утро. Сказал, что с Вармаськиным к дальнему пруду пойдут. Посиди немного, надоело одной в пустом доме. Жизнь в четырех стенах горше тюрьмы. – Хозяйка подошла к шкафу, достала две рюмки, нарезала леща и, не смотря на гостя, промолвила: – Не думай, спать тебя не оставляю, какой-никакой муж есть. Он меня любит. Иногда и однобокая любовь кажется счастьем. Вон у нашей сельской ветряной мельницы два крыла – все равно не может оторваться от земли. – И как будто сказала пустые, ненужные слова, махнула рукой: – Наливай, ты мужчина!
«Вон она, передо мной стоит… Почему стесняюсь ее, будто ребенок?» – разливая коньяк, думал Нарваткин. Он всегда надеялся на свою смелость. А здесь стеснялся обнять ту, которая сама его не отпускает.
О том же думала и Роза:
«Если весть о том, что он нашел свое счастье, верная, тогда, считай, не зря пришел…»
На улице послышались голоса, донеслась песня – молодежь шла в клуб.
«Так, не так, так, не так», – стучал маятник настенных часов, будто спрашивал, как им быть. Но часам об этом разве кто скажет?..
* * *
Как и все пожилые люди, весной Дмитрий Макарович Вечканов и сон позабыл. Вот и сегодня, только в небе появились желтые перышки, надел яловые сапоги, старый свитер и отправился осматривать поле за околицей. В прошлом году там на зиму посеяли рожь. Зерно легло в сухую землю, осенью дожди не баловали. Как всходы пережили морозы, что они обещают лету – эти мысли беспокоили больше всего.
Отправился Дмитрий Макарович по Бычьему оврагу, где дорога вдвое короче. Когда спустился, тот был покрыт белым туманом. Сквозь него шел долго, или, видимо, ему так показалось. Вышел из оврага – небо уже просветлело, вот-вот забрызжет солнечными искрами.
Поле широкое и длинное – глазами не измеришь. Всходы густые и сочные. Подняться им помог глубокий снег – надежно сохранил от морозов.
Дмитрий Макарович долго смотрел на озимую рожь, потом не удержался, сорвал стебелек, понюхал. Кто знаком с этим запахом, тому он никогда не забудется. У земли свой, не похожий на другие, аромат и дыхание.
Поле со всех сторон защищено березовыми рощами. Деревья здесь посадили при Вечканове, когда он был председателем. За двадцать пять лет из тонких, похожих на осоку кустиков, поднялись с двухэтажный дом березы. Они охраняют поле от сильных ветров и суховеев, охраняют надежно, как родная мать свое дитя.
Смотришь на березняк издали – будто одетые в белые рубашки эрзяночки спускаются к Суре, туда, где Пор-гора и Львовское лесничество. Идут не торопясь, будто знают о своей красоте и для чего они здесь растут.
По левой стороне березняка, вдоль края оврага, проходит дорога. Сейчас на ней ни людей, ни машин. Поэтому Вечканову было приятно: иди и иди, не нужно поворачивать с дороги. В прошлом году он приходил сюда каждый день. Пройдет взад-вперед – на душе становится легче.
Порой сердце так прихватит старика – чуть с ног не валится. В этом году, в феврале, Дмитрию Макаровичу исполнилось семьдесят. Поднялся до той вершины жизни, откуда многое видно. Вот и сейчас, идя по полевой дороге, вспоминал, как провел свою жизнь, что сделал хорошего и где ошибался. Разве у человека мало недостатков?
Четыре года прошло, как он вернулся из Саранска, где долгое время работал в обкоме партии. В Вармазейке он родился, здесь, на сельском кладбище, похоронил свою жену Зинаиду Петровну, с которой вырастил двоих детей. Отсюда уходил на войну. Вернулся – вновь за любимую работу: выращивал хлеб, водил трактор, после окончания института был агрономом, председателем. Дмитрий Макарович никогда не думал, что придется расстаться с Вармазейкой, изберут его секретарем райкома. Не верил и тому, что молодой и неопытный руководитель, который встанет на его место, по ветру пустит все накопленное. Правда, все это произошло потом, когда Вечканов был уже в соседнем районе первым секретарем.
В настоящее время председателем колхоза является его сын Иван. Гордится им Дмитрий Макарович: хорошего человека вырастил, думающего хозяйственника. В чужой рот не смотрит. Дела идут. Да вот беда: над ним очень много начальников. Учат все, что и куда посеять, что продать и купить. Взять хотя бы Вадима Митряшкина, из-за которого обиделся Атякшов. Умеет только инструкции строчить. Сквозь них и смотрит на сельское хозяйство. Словно помещик. А ведь родился в Вармазейке, с Иваном в одном классе учились. По профессии учитель, в растениеводстве ничего не смыслит, но все равно учит.
Неожиданно Вечканову вспомнился тот пленум райкома, на котором его избрали первым. Тогда их район звенел по всей республике. Как не звенеть: по два плана гнали. Не зря на пленуме бывший первый, Полозков, хвалил себя: при нем, говорит, зацвели все колхозы. «Цветение» никто не видел, планы, правда, выполнялись. Только за счет чего? Стыдно даже вспоминать: собранное по всему селу молоко и мясо отправляли государству от имени хозяйств. Везде шептались: в Саранске у Полозкова влиятельный друг. Так это или нет, об этом тогда Вечканов как-то и не думал. Его тревожило другое: кого обманываем, зачем? С их района в соседнюю область, у которой магазины были побогаче, направляли «покупателей». Те тоннами привозили сливочное масло, мясо, молоко. Все это тоже отправлялось якобы от района. Цифры большие, а вот сельское хозяйство на одном месте топталось.
Поэтому, когда Дмитрий Макарович стал первым секретарем, он положил конец этому обману. Когда вспоминал об этом, Вечканову становилось неприятно, будто во всем этом он был виноват.
В хозяйствах республики зерна дают больше всех озимые. Каждый гектар обещает по тридцать и более центнеров. Только то, что зреет на полях, при обмолоте остается в земле или теряется при перевозках. Иначе говоря, из выращенного добрая половина не доходит до элеватора.
Несколько лет тому назад, во время отдыха в санатории, Дмитрий Макарович встречался с одним журналистом, который только что вернулся из Канады. Он рассказал ему, как в стране за океаном ведут фермерство. По словам журналиста, канадцы не меняют каждый год семена. Для новых сортов отводят небольшие участки. Больше места оставляют для тех, которые дают большие урожаи. Не как у нас. Дмитрий Макарович несколько лет назад и сам видел, как в соседних Чукалах, торопясь, сеяли «мироновскую». К хорошему это не привело: той же зимой засеянное вымерзло. А вот озимая пшеница в Вармазейке, которую называли «рекордсменкой», выдержала холода и дала весомые центнеры. Дмитрий Макарович давно пришел к мысли: как ухаживаешь за полем, так оно тебе и отплатит. Ведь с Канадой, где наша страна каждый год за золото закупает миллионы тонн зерна, климатические условия почти одинаковые. У нас даже, возможно, они чуть лучше.
Журналист тогда удивил Вечканова и другим. В Канаде хлеб выращивают только те, которые когда-то приехали жить туда из России. Это же наши люди! Выходит, накопленный опыт их земледельцев – это наших бывших пахарей, их детей и внуков смекалка…
И еще поведал журналист о том, что канадские фермеры крупный рогатый скот кормят сеном. Сено на зиму складывают под навес. В те фермы, где содержится сам скот. Из-за этого там тепло, воздух ароматный, сено хорошо хранится и раздавать его легко – бросай и бросай вниз. Вай, Верепаз, разве наши старожилы раньше не так делали? Это уже потом, когда понастроили кирпичные дворы, где не корова – человек может сломать ногу, забыли навесы и склады для сбережения кормов. Сейчас как бывает: привяжут стог тросами на два трактора – давай его волочить с далекого поля. В село не сено доставляют, а месиво со снегом. А сейчас и такое сено не увидишь, его заменили кислым силосом.
– А как канадцы убирают зерно? – не выдержал, поинтересовался тогда Дмитрий Макарович.
– В этом деле они тоже молодцы. Поля косят не мешкая, до одного колоса в валки, как наши, не валят, а молотят на корню. В полях ни одного колоса не увидишь – жнивьё будто языком облизано. Разве в Вармазейке так не могут? Могут, только не все. Часто валки гниют под дождями, оставшееся зерно поднимается лесом – хоть сеять не выходи. Такие озимые – взглядом не окинешь. Где зерно росло, там и остается. И это когда кладовые пустые – мышам нечего есть.
Поэтому всегда перед жатвой Дмитрий Макарович переживает: «Вновь зерно будут сваливать в валки? Что, хрущевские времена вернулись?»
Вечканов и сам допускал ошибки. Только всем сердцем чувствововал, что для людей он нужен был не как председатель, а как друг и наставник. Когда на это место встал его сын Иван, он ему прямо в глаза сказал: кончились твои сладкие сны. Сам Дмитрий Макарович всегда вставал на зорьке, домой приходил в полночь. Не из-за того, что никому не верил, наоборот, считал себя наравне со всеми. Трактористы и комбайнеры в поле, – выходит, и ему там быть. Такой уж сельский обычай: председателю больше всех нужно радеть. Правда, в своей семье не все ладится. Рано умерла жена, учительница местной школы. Когда вернулся из Саранска в Вармазейку, неожиданно, без любви, вышла замуж Роза, единственная дочь.
Трофим Рузавин, зять, вроде бы неплохой человек, к водке не тянется, много не говорит. Один большой недостаток у него – очень деньги любит. Из-за этого нанялся сторожем в лесокомбинат. Днем, в свободное время, с Суры не выходит – рыбу ловит для продажи. Этому научил и Розу. Копят, копят деньги, а на что, сами не знают. Вот и вчера Дмитрий Макарович приставал к дочери: «Куда вам столько?» – «Для жизни! – разозлилась Роза, – сам на важной работе трудился, а что нажил?»
Что правда, то правда. Жили на его единственную зарплату. Жена из санаториев не выходила. Иван с Розой учились. Одно богатство у Вечканова – совесть. Из-за этого живет один, хоть и дочь звала. Привык к своему очагу, зачем путаться в чужом доме? Вот ведь как бывает в жизни: учил, учил всех, а свою дочь так и не вывел в люди. Хотя почему не вывел? Сейчас она заведует теплицей. Вчера, повстречавшись с ним, сказала: «Заходи, отец, зарплату как раз получила, угощу…»
На верной дороге Роза. Это хорошо. Одному человеку далеко не дойти. Нужно ли страдать из-за этого, если заботы общие?
«Надо, надо, – будто молоточком стучали мысли Вечканова по мозгам. – Пусть у каждого будут свои тропки, маленькие, но свои…»
Взять вон фермера Федю Варакина. Что только ни говорят о нем за глаза: хапуга, единоличник… Взял да и отрезал целое поле. Это моя земля, говорит, не колхозная. Действительно, а почему не его? Здесь сто потов он пролил. Сейчас будет работать еще лучше – как у себя в саду или на огороде. Да ведь не только на себя. Вырастит хлеб – не все себе оставит: продаст государству или на базаре. Своим людям, не за границу. Сколько земли в Кочелаевском районе пропадает, сколько гектаров утонуло в осоке и полыни – не счесть. Да и пахать эту землю уже некому: у стариков сил не хватает, молодые в города убежали. И в то же время много сельчан, которые хотят увеличить площади своих огородов и держать больше скота.
Раньше разными налогами прижимали. Сейчас постановление правительства вышло по этому поводу, и вновь кое-кто, вроде Атякшова, ставит подножки. Варакин все равно не отступил. Продал недавно купленные «Жигули» и на вырученные деньги приобрел трактор. И вот тебе, пашет-боронует свою землю, с утра до вечера копошится на ней.
Кричим только, проклинаем, что, мол, пустые полки в магазинах. Орать – дело нетрудное. Для этого мозгов не надо. Сам, как Федор, за дело принимайся. Вечканов не раз думал изменить жизнь людей, только в те времена этого нельзя было сделать, крылья бы сразу подрезали…
Со стороны ближнего леса послышался гул трактора. Дмитрий Макарович знал, что это пашет свое поле Варакин. Что ж, пусть фермерство приживается и набирает силу. Жизнь покажет, кто прав.
Сейчас, шагая по Бычьему оврагу к дому, он думал: вот на этом месте, где проходит узкая, только для одного человека тропка, следы тянутся только в одну сторону, к селу. Оно и понятно: человек, как птица, всегда стремится к своему гнезду, где бы ни летал.
* * *
Судосева ждал сын Числав, синие «Жигули» которого стояли под окнами. Ферапонт Нилыч поставил удочки около крыльца, снял сапоги и с двумя пойманными щуками зашел в избу.
Числав сидел за столом. Мать, Дарья Павловна, рассматривала фотографии.
– Какие дороги тебя привели? – протягивая сыну руку, спросил Ферапонт Нилыч.
– На цемзавод ездил и вот по пути заехал…
Дарья Павловна с кухни принесла чашку щей и, пока муж мыл руки, начала рассказывать:
– Числав привез снимки Максима и Наташи. Смотри-ка, как выросли внучата – сразу не узнать…
– Самих бы привез, а не их отражения, – недовольно ответил хозяин. – Да и Сергей хороший гусь – год молчит. Что случилось с твоим братом, не в примаки зашел? – повернулся Ферапонт Нилыч в сторону сына.
– Он, отец, в командировке. Недавно заходил, сказал, что месяца на два уедет.
– Слышала, жена, теперь вновь полгода младшего сына не жди. А ты о свадьбе переживаешь. Пойдет к кому-нибудь в зятья, тогда все твое воспитание насмарку…
– Сыновья ведь тоже пропадают. Есть у них жены. У жен – родители. Куда денешься – такая уж судьба, – заступилась за младшего сына Дарья Павловна. Сама все равно, собирая со стола фотографии, тихо сказала Числаву:
– Действительно, сынок, Сергея разочек хоть бы привез. Чай, в машине не тяжело ехать.
– Приедет, мать, приедет, не беспокойся. Может, даже и насовсем вернется. В родном гнезде потеплее.
Услышав это, Ферапонт Нилыч встал из-за стола и нервно зашагал по комнате. Половицы затрепетали перекинутыми над водой жердочками. Наконец остановился около сына и произнес:
– В родном селе, Числав, и воздух опора, поверь мне. Почему бы и тебе не приехать в Вармазейку? Наташе дело в школе найдется, да и для тебя работу подыщем. Сергея не трогай. Его не вернешь. Он еще в детстве в город мечтал убежать…
Дарья Павловна слушала и все удивлялась, как изменился старший сын. Пополнел. Отпустил бороду. Немногословен, обдумывал каждую фразу. «Давно ли босиком бегал, а сейчас у самого сын», – думала женщина.
Максиму, единственному внуку, в марте исполнится восемь, он во втором классе учится. Зимой привозили. Худенький, словно ивовый прутик. Сам Числав в детстве таким был. Потом уже, во время службы в армии, вширь раздался. Вернулся оттуда, два года работал в милиции и в это же время заочно учился на эколога. Женился – с женой уехали в Ульяновск, сноха работает там в педучилище. Оставил родное село и Сергей, второй сын. Тот, видать, и в самом деле не возвратится. И в письме вот пишет: город, говорит, в его сердце…
«Хорошо бы приехали, дом большой, в селе дел невпроворот, живи только», – думала Дарья Павловна. Она даже не видела, как отец с сыном вышли на воздух. Убрала стол и поспешила за ними.
Те беседовали на крыльце о каком-то пруде. Числав держал газету и читал:
«Протянется он около трех километров, за год колхоз будет брать десятки тонн карпа…»
– Эту статью, сынок, я прочитал. Пруд нам, сынок, нужен, да разве не хватает Суры? Рыба и в ней пока есть. Не использовали бы ее воду на заводах – лещей решетом черпай. А сейчас уже последнюю рыбешку заморили. Сколько браконьеров у реки, столько жителей и в Саранске нет.
Иногда так думаю: не люди приезжают, а муравьи. Едут и едут на своих машинах, у каждого – сети и бредни. Рыбе метать икру не дают. Я о другом, сынок, беспокоюсь: если Бычий овраг запрудят, он все сурские луга зальет. Где стадо будем пасти, ведь скотина глину не ест.
Дарья Павловна слушала возле открытой двери. Не выдержала, спустилась к ним и сказала:
– Числав, наша черемуха тоже под водой останется?
– До нас, мама, вода не дойдет. По-моему, правильно пишут, на что нам Бычий овраг?
Дарья Павловна облегченно вздохнула. Две черемухи за огородом Судосевых, совсем около Суры, очень близки Числаву. Сейчас это смех, а в детстве он поднимался на них и старался с верхушек увидеть то, что было за горизонтом. Сергей, его брат, все спрашивал:
– Числав, что там?
– Лес и дороги! – кричал он сверху.
– Куда дороги?
– В Кочелай…
И вот они потянули их судьбу в Ульяновск… Там, перед их многоэтажным домом, ни черемух, ни лугов. Хорошо, что Волга рядом.
Вскоре Числав стал возиться около «Жигулей». Ферапонт Нилыч принес из колодца два ведра воды, взял из сеней тряпки и стал мыть машину. Отец с сыном молчали, будто все уже высказано.
– Ты правда сегодня уедешь? – наконец-то спросил старший Судосев.
– Сегодня, отец… Там работа ждет.
– Давно хочу спросить, да все забываю: сколько под твоей рукой людей?
– Более двухсот.
– Это, выходит, половина нашего колхоза. Смотри-ка, а я думал…
В Ульяновск Числав отправился под вечер. Поставил между сиденьями две банки молока, ведро картошки и, сев за руль, посигналил. Похожая на небесный цвет машина покатилась по асфальту мимо цветущей черемухи, к шоссе. К той дороге, которая когда-то их с братом потянула в город…
Ферапонт Нилыч грустно помахал рукой и зашел в сад.
Деревья были осыпаны будто снегом. Густые ветви, словно пояса с бахромой эрзяночек, спустились вниз, держали рой жужжащих пчел. Сад Судосев посадил той весной, когда Сергей родился. За двадцать четыре года он разросся, грядку лука негде посадить. Жена сколько раз говорила: «Выруби за двором яблони. Яблоки все равно в рот не возьмешь. Вместо них калину посади». Нет, не вырубил – такую красоту губить? Правда, за последние годы кое-какие деревья пришлось поменять. Их почему-то полюбили соловьи. Один прилетает сюда каждую ночь, садится на макушку анисовки да так запоет – аж душа светлеет. На новых яблонях второй год Ферапонт Нилыч оставляет два-три бутона. Оставишь больше – рано постареют.
Яблони уже сейчас показывают свой норов. Пахнущая медом часто болеет и, как заболевший ребенок, любит уход. Ей больше всех вредят зайцы. Ушастых Судосев считает самыми прожорливыми зверьками. Из всех деревьев они почему-то выбрали именно пахнущую медом, которую Ферапонт Нилыч за зиму перевязывал рубероидом.
Острые зубы зайцев все равно доставали до нижних веток. Выдержало дерево, сейчас, несмотря на раны, все равно тянется к солнцу. В левой половине сада шуршали похожие друг на друга четыре анисовки. Они не просили много воды, боялись только прожорливых червей. Они едят и едят их листья. Анисовки росли быстро, сильные ветви разбросали ввысь и в ширину. Там, совсем у берега Суры, старались взлететь к небу два грушовника. Днем они бросают длинные тени, ночью молчат, словно охраняют чей-то сон. За ними виднеются китайки. Второй год они поочередно распускаются. Хозяевами сада чувствовали себя две антоновки и белый налив. Первые росли без полива, земля под ними давно не рыхлилась – яблоки же во рту тают. Налив – летнее угощение. Антоновку хорошо замачивать на зиму.
Любит Ферапонт Нилыч в саду возиться. Весной сюда чуть не на заре выходит. Срезает с деревьев сухие ветки, ставит подпорки – к осени от тяжелых яблок ветви совсем до земли склоняются. Или сядет за деревянный стол, положит натруженные руки и долго слушает пение птиц. Выходит в сад и вечером, когда на той стороне реки, в сосновом лесу, кукуют кукушки, то и дело замолкая, будто боятся накуковать кому-то короткую жизнь. Дадут длинную или нет – Судосев тюрьму прошел и войну. Давно на пенсии, но разве усидишь дома? Еще заря не заалеет, а он уже в кузнице. В последние дни Ферапонт Нилыч почему-то занемог. «Отдохни хоть, шипящий твой горн никуда не денется», – утром сказала ему жена. Послушал. До обеда всё нежил себя в саду. Но не выдержал, по огородной тропке заспешил на работу. Председатель колхоза прогнал его: иди, говорит, домой, здоровье дороже кузни. Теперь Судосев копошится у дома, иногда выходит на рыбалку. Поймает две-три щучки да несколько пескарей – вот и весь его улов. Это старика не удручает. Он ходит на реку отдыхать. Садится под черемуху, растущую в конце огорода, где всегда прохладно, закинет в воду удилище и полдня не шелохнется.
Кружатся и кружатся перед его глазами прошедшие годы, как дятлы порой стучат по мозгам: тук-тук, тук-тук… Как по наковальне молоточком бьют.
Со стороны Петровки послышался гул электрички. Вскоре за их огородом показалась и она сама. Сверкающая зеленой краской, быстро, с нервным стуком, прошла рядом, и вскоре снова стало тихо.
Разные поезда видел за свою жизнь Судосев. И такие, на которых возили заключенных. В их вагонах не было ни сидений, ни нар. И встать иногда некуда было – так набивали людьми. Прижимался он спиной к стенке и смотрел в верх вагона с узким окошком. Это так днем. Ночью горела свечка, установленная над ведром. Ведро было пустое, захочешь пить – лижи высохшие губы. Воду раздавали утром, когда приносили еду – кусочек соленой рыбы и картофельного хлеба. К вечеру вновь давали кружку воды и воблу. Как медленно тогда проходили ночи, какими темными казались весенние дни! Но людей сильнее всего тревожило только одно: погонят или нет за ними жен и детей?








