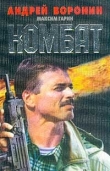Текст книги "Столкновение"
Автор книги: Александр Проханов
Соавторы: Анатолий Ромов,Валерий Толстов,Валентин Машкин,Андрей Черкизов,Виктор Черняк,Вячеслав Катамидзе
Жанры:
Политические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
«Не рекой! – усмехнулся он. – А колонной! Еще одной, пахнущей нефтью…»
Он уже чувствовал ее приближение, принимал о ней вести от постов, которые она проходила. Представлял – изогнутую, составленную из красных «татр», с серебряными приплюснутыми цистернами. За баранками афганцы. Смуглые серьезные лица. Намотанные на головы ткани. Это была афганская «нитка». Ее ждали кабульские такси, двухцветные, пылящие, юркие среди торжищ и узеньких улочек. Ждали трескучие, усыпанные блестками моторикши. И тяжелые, изукрашенные, как терема, грузовики. И самолеты авиакомпаний «Вазтар», «Ариана» на кабульском аэродроме. Теперь она, эта «нитка», извивалась среди ущелья, и комбат, нахохлившись, сгорбившись, ловил в наушниках падающий из неба голос, обесцвеченный эфиром, исколотый шумами и тресками:
– «Двести шестой»! На связи «Гора-Четыре»! Горит афганская «нитка». Обстрелян афганский пост. «Татры» встали!.. Бой в районе поста!.. Поддерживаю афганцев огнем минометов. Как слышите меня?.. Прием!
– Слышу вас хорошо! Работайте минометами! Иду в ваш район! Буду выводить афганскую «нитку»!
И ветер надавил на глаза, размыл очертания откосов, блеск реки, сорное мелькание обочины. Бетонка ревела, гнала вперед транспортер. Кишлак зарябил глинобитными клетками, как чей-то ребристый, запекшийся след. Он был пуст. Все ушли, угнали коз и овец, унесли детей. Скала нависла над трассой, и бетонка, огибая ее, делала петлю, скрывалась за гранитными глыбами.
– Кудинов! – позвал комбат, наклоняясь в открытый люк, окликая в переговорное устройство пулеметчика. Секущий короткий страшный звук прошел по броне, будто ударило по ней огромным зубилом, и этот скрежещущий, дырявящий звук отозвался в голове, в глазницах, в зубах. Транспортер вильнул, прижался кормой к скале, а сверху продолжал стучать пулемет. Вблизи за обочиной крошилась и брызгала галька – пули, уходящие в грунт.
– Под броню! – рявкнул комбат, заталкивая этим хриплым рыком солдат в «короб», видя, как падают они вниз, сталкиваются, цокают касками, протискивая за собой автоматы. Нерода, встав с сиденья, отпихивал, открывал защитную лобовую плиту.
– Ты что, Нерода? Зачем? – пытался понять комбат.
– Все нормально, товарищ майор!
Некогда было понимать, разбираться. Все живы, моторы в порядке.
– Вперед! – скомандовал Глушков.
Они обогнули выступ, вылетели на длинный прямой отрезок. Там, впереди, чадно, ровно горели две «татры» – угрюмым, тяжелым огнем, окруженные графитовой копотью. Обе бесцветно-серые, с обгоревшим покрытием. Колонна стояла по всей длине бетонки, по осевой – нарядные красные грузовики с солнечными лобовыми стеклами, посеребренные цистерны. И от них, выскакивая из кабин, разбегались водители. На обочину, вниз под откос, к реке, пригибаясь, выбрасывая гибкие, проворные ноги в клубящихся шароварах, развевая долгополые пиджаки и рубахи, придерживая на головах ворохи мятых тканей. Падали, ползли, затаивались в ложбинах, прижимались к пыли.
У горящих машин на бетоне головой вперед лежал убитый. Руки раскинуты. Пиджак и рубаха вывернуты на голой худой спине. Ноги в шароварах, в резиновых остроносых чувяках заплетены одна за другую. Чалма свалилась, и открылась черная макушка. На обочине за машинами, цепью, почти сливаясь серой одеждой с землей, лежали солдаты-афганцы. Нечасто, негромко стреляли вверх против солнца. Их командир, капитан Азис, скаля белые зубы, топорща усы, кричал сразу в обе стороны – стрелявшим солдатам и водителям, убежавшим с дороги. Разрывался двумя вовлекавшими его в движение силами. Та, что сбивала с дороги водителей, оголяла колонну, оставляла ее беззащитной под огнем пулеметов, эта сила одолела, увлекла капитана. Азис кинулся за шоферами. Настиг одного, ухватился за пиджак, рвал, кричал, указывал на застывшие «татры», побуждал вернуться, а потом поднял вверх автомат и ударил длинной трескучей очередью. Бежавшие присели, скрючились, прижали к коленям головы несчастные, потерявшие разум среди пуль и огня.
Все это увидел комбат. Моментально построил пространственный чертеж боя, помещая в углы чертежа себя с «бэтээром», капитана Азиса, убитого на дороге афганца и душманов, засевших в слепящем солнце, прямо из солнца посылавших тонкие трассы.
– Кудинов, давай малой скоростью вдоль «нитки»! Походи туда и обратно!.. Пулеметчик, правый сектор обстрела!.. Длинными!.. Да ну вруби ты им туда наконец! – И, оглохнув от грохота, ощутил на лице тугие удары воздуха, сотрясенного стрелявшим пулеметом. Прыгнул с брони, отпустил от себя «бэтээр». Видел, как транспортер осторожно огибает лежавшего на дороге афганца, скользит сквозь красную копоть.
Из солнца вылетали длинные колючие блески. Майор прыгнул с обочины, сволакивая подошвами сыпучие громкие оползни. Набежал на двух афганцев – прижали ладони и лбы к земле, то ли молились, то ли оцепенели в страхе, прячась в собственный ужас, зарывшись глазами в песок.
– Отставить! Кончай лежать! Перебьют! Машины сожгут! По машинам! – кричал он, нависая над ними. – А ну вставай, за баранки! Бурбухай! Ташакор! Ху ба сти! – подыскивал он афганские косноязычные фразы, вкладывая в них иной смысл. О близкой смерти. Об огне пулеметов. О беззащитных, обреченных на сожжение машинах. Видел, как в стороне мечется, кричит капитан Азис, подымает с земли водителей. Те вставали, делали два шага к дороге и снова валились на землю.
– Ну давай, родные, вставай! – тормошил афганцев майор, выдыхая со свистом воздух, обжигая глаза о горящие в стороне «татры». – В Кабул придете! К детишкам придете! К ханум придете! Давай, родные, давай!
И оба шофера словно очнулись. Отломили от земли свои лбы. Повернули к майору одинаковые худые небритые лица. Поднялись, увлекаемые его волей, его мольбой. Шли за ним на кромку обочины. Поскальзывались, хватаясь за сыпучие камни. Выходили на бетонку, озираясь, готовые кинуться вспять.
– Кабул ташакор! Ханум ташакор! Аллах ташакор! – Майор подталкивал их к кабине. Они сели, сгибаясь, шаря по приборным доскам. Комбат успел разглядеть брелок на ключах зажигания – наклеенную на щиток розово-зеленую литографию с мусульманской красавицей. Мотор заработал. «Татра», медленно выруливая, пошла, огибая горящий «наливник», а майор продолжал ей вслед бормотать: «Саланг ташакор!»
Развернулся и прямо с бетона, не целясь, послал вверх по горе автоматную очередь. Отбивался ею от невидимых зорких зрачков, заслоняя собой грузовик.
Колонна оживала. Грузовики не все сразу, меняя порядок следования, трогались с места. Набирали скорость. Торопились пройти два чадных пожара. Огибали убитого на дороге. Скрывались за выступом. «Бэтээр», долбя из пулемета высоту, шел за ними.
Капитан Азис вытаскивал на бетонку последних водителей и среди них маленького круглолицего мальчика в серебряной тюбетейке. Подсаживал его в кабину к отцу. Водитель заталкивал сына поглубже за спину, заслонял его от горы. Пустил грузовик, кивнул Азису, а тот бежал вдоль солдатской цепи, наклоняясь, покрикивая.
Комбат на мгновение подумал: неужели это было сегодня – розовая утренняя вершина, молящиеся у туннеля солдаты и Азис, легкомысленный, обменивается с ним, майором, незначащей шуткой. И уже грохотало и шмякало по горам. Работали «трубы» Маслакова. Обезвреживали и этот «участок», давая им, очумевшим, осыпанным пылью, очнуться.
Азис подошел к комбату, потный, блестящий, с красной царапиной на смуглом лбу. Набросил на плечо автомат.
– Одна «нитка» шла – нормально! Другая «нитка» шла – нормально! Третья шла – нормально! Сел чай пить. Эта «нитка» идет – нормально!.. Бах, трах! Душман бьет! Я чай бросаю, бегу!.. Ты бежишь!.. Теперь все нормально! – Он улыбнулся, радуясь окончанию схватки. Тому, что завершили ее вместе, бок о бок. Майор слушал его и словно оцепенел. Остекленело смотрел на пожар, на черный контур цистерны, покрытой трескучим красным одеялом.
– Я думаю, почему тихо, нормально? Почему Гафур-хан нет? Я есть – Гафур-хан нет! Приходи, Гафур-хан, мою голову бери, десять тысяч афгани давай. Я тебе это дам, приходи! – Азис похлопывал по автомату, забывая недавнюю опасность, свой крик, панику водителей, свою отчаянную автоматную очередь. Майор не отвечал ему. Оцепенев, смотрел на пожар.
…Его детская комната с маленькой книжной полкой, на которой стоял томик Лермонтова. В синем окне за беззвучным снегом качался метельный фонарь. Тропка в липком снегу, по которой шел за отцом, за его полушубком, и так любил его, так хотел не отстать, так дорожил их совместной прогулкой. Девичье лицо, все в легких бегущих тенях от липовых душистых ветвей, и в конце аллеи в голубоватом воздушном пятне белеет усадьба Суханово.
Видения возникали в пожаре, свертывались легкими свитками, исчезали бесследно. И было неясно, где они возникают: в огне или в памяти.
Страшно и тупо ахнуло. Рвануло цистерну, раздирая обшивку. Тугое свистящее пламя ударило словно из огромного огнемета, не вверх, как обычно взрывались цистерны, а вниз, на бетон, покрывая его вихрем. Накрыло убитого шофера, и он, мертвый, темнея в прозрачном огне, вдруг начал отжиматься на спекшихся сухожилиях, толстея, вскипая.
Азис что есть силы дернул Глушкова, заваливая его вниз, под откос. Они валились, падали, пропуская над собой дующий рыжий смерч. Задохнулись в пустом, сгоревшем воздухе, сбивали с себя тлеющие язычки. Кубарем скатились к реке – и в воду, в пену, с головой. Остывали в потоке, выныривали, подымались, помогая друг другу, держа один другого за руку. Стояли, удерживаясь в течении. Смотрели, как горит шоссе. По реке мимо них плыли радужные разводы нефти, машинная ветошь, кожаное, с торчащей пружиной сиденье, размотанная, похожая на длинный бинт чалма.
– Нормально! – говорил Азис, не отпуская руку майора, вместе с ним медленно выбредая на берег.
Подкатил «бэтээр». По приказу комбата в упор из пулемета расстрелял другой «наливник», дырявя цистерну, открывая в ней множество хлещущих кранов. Бак затрещал, засмолил, стал гнать под уклон до реки огненные нефтяные ручьи. Вливались в реку, продолжали гореть. «Наливник» сбрасывал из цистерны давление, догорел без взрыва. Накалился красным размягченным железом. И где-нибудь в долине, в «зеленой зоне», по каналам и арыкам проплывут нефтяные пятна, и крестьяне, молотящие хлеб, узнают про бой на Саланге.
– Нормально, – повторил Азис и устало пошел к солдатам. Построил их внизу, под откосом. Что-то им выговаривал.
Залязгало, застучало на трассе. Появился танк с повернутой набекрень башней, с бульдозерным, сияющим на солнце ножом. Следом – грузовик с плетьми и связками труб.
– Эй, Глушков! – окликнул его из кабины знакомый капитан-трубопроводчик. – Ну что же ты, дорогуша, опять мне работы задал? Где ты – там пожар! Опять мою систему стык в стык раздолбали! – И он кивнул на закопченную землю, где взрыв разметал обе нефтепроводные трубы. – Не напасешься на вас!
– А ты сам ложись вместо труб, стык в стык! Тебя огонь не возьмет, ты из асбеста! – невесело повторил свою утреннюю шутку Глушков. – Ты все к жене стремишься! Ан нет, побудь-ка еще со мной! – И пошел к транспортеру. – Нерода, ты что под обстрелом лобовой люк раскрыл? Портрет свой душманам показываешь? – Он тяжело забирался на броню, с трудом переваливая ноги в круглый проем. – Пулю в лоб захотел?
– А она, товарищ майор, и так мимо лба пролетела! Вот, глядите! – Нерода поднял снизу на майора свои ясные голубые глаза, показал на разбитый триплекс. – Она, муха, сквозь верхний люк залетела и призму разбила. Ничего не видать! Я и отпихнул плиту впереди!
– Понятно… Давай на пост Седых! – Майор тихонько качал головой, словно отрицал и недавний бой, и влетевшую в триплекс пулю, и ясный, невинный свет в глазах водителя. – Эх, Нерода, Нерода…
Танк с бульдозерным оборудованием наезжал на обломки машин, сбивал их со стуком под кручу. И они, дымясь и искря, катились, ударялись, с шипением достигали воды, окутывались белым паром. В том месте, где лежал убитый водитель, что-то бесформенно чернело, коптило.
– На пост Седых! – повторил комбат, направляя «бэтээр» мимо «трубачей», сгружавших хлысты, мимо бульдозера, несущего на ноже закопченное мятое солнце…
…Когда кончились, пресеклись те годы, юные, исполненные чудных обманов, и начались его суровые дни, реальные дела и поступки, требующие всех запасов ума и энергии; когда потянулась его офицерская служба, одна на всю жизнь забота – кочевья по гарнизонам, ученья, то льды, то пески, то удар мороза, такой, что останавливались и замерзали глаза с ледяным отражением звезды, то удар слепящего жара, от которого выкипала кровь и бархан, разрезанный гусеницей, казался слитком белого кварца, плавился, отекал; когда кончились для него мечтания, питавшие его душу; когда память об ушедших родных превращалась в муку и боль; когда при мысли о любимой женщине, покинувшей его навсегда, мерк белый свет, одно оставалось – жить, и только это спасало, вдохновляло, целило. Стало образом доступного, пускай его миновавшего счастья. Москва, его город, само ее имя, возможность ее любить, ею дышать.
Он лежал на своей койке, а в горах дула и шипела пурга, закрывал веки, принимаясь смотреть сквозь них в недалекое, отлетевшее прошлое. И сквозь веки из прошлого начинали падать, просачиваться капли света, капля за каплей. И из них собиралась Москва.
Ее памятники в сырых снегопадах, когда выходил на Тверской, и черный гранит Тимирязева осыпан тающим снегом, сидит на плече нахохленный застывающий голубь. В блеске огней, в пролетных сияющих стеклах – Пушкин, окруженный толпой, граненые чаши голубых фонарей, и в снегу у подножия красная живая гвоздика. Голый липовый сук, сумрачный холод неба, горящие окна клиник, и там, у чахоточных желтых огней, – Достоевский, сугроб на плечах, каменная пятка, скрипы ворон в сквозящих вершинах.
Подворья у Палихи и Тихвинского, дующие в них сквозняки, чугунные крышки люков, деревянные, пахнущие теплым тленом дома. Красный гремящий трамвай с мелькнувшим лицом старика – безвестный, давно умерший, сошедший под миусский или ваганьковский камень, он остался жить в нем, лежавшем, стиснувшем веки.
Площади в белой пороше, карусели огней и машин, черные следы от колес. Ночное такси и белый Манеж, белый Пашков дом, белый за алой стеной дворец. И черное золото ночных куполов, черные проталины улиц, и такое внезапное счастье, такая любовь в этом мартовском ночном снегопаде.
Мосты… Тот, на Яузе, лекально-округлый, с недвижным, маслено-желтым, отраженным в реке фонарем. На Москве-реке, стальной, как гудящая арфа, с далеким Нескучным садом, зябкими утками на студеной воде, по которой скользит трамвайчик, гонит к берегам отражение. Утки взлетают, мчатся низко над набережной.
Москва, в дождях, в снегопадах, в золотистых осенних туманах, копилась под ве́ками, собиралась из капель света. Оттуда, из горячих глазниц, бережно, стараясь не расплескать, не разлить, переносил Москву ближе к дыханию и сердцу. И она, окруженная его дыханием, стуком сердца, продолжала в нем быть.
Салюты осыпали на мокрые крыши гаснущие цветные букеты. Тянулись вверх зеленые почки тополя. Краснели транспаранты и флаги. И идти в толпе по проезжей части к Каляевской, Пушкинской, останавливаться в многолюдье, в звуках оркестра, в металлической музыке репродуктора. Торжества огромного города и маленькие семейные праздники. Дни рождения стариков, на которые сходилась родня. Творилась домашняя лапша, стелилась голубая старинная скатерть, искрился старый, уцелевший наполовину хрусталь, и все торжественные, радостно-чинные, славят юбиляра. Его собственный день рождения, почти совпадавший с Новым годом, когда еще пахло елкой. Наутро в янтарном солнце – маленький, придвинутый к изголовью столик. Подарки от матери и отца, от деда с бабкой. Восхитительное, появившееся за ночь богатство.
Возмужав, постарев, растеряв и растратив разноцветные иллюзии детства, веру в чудо, в бессмертие, он, познавший смерть, переживший возможность своей и всеобщей погибели, все-таки тайно верил: если он умрет и исчезнет, растворится без следа и без имени, из него, неподвластная смерти, излетит накопленная по каплям света, восстанет Москва. Будет жить вместо него на земле…
…Пост казался пустым, обезлюдевшим. Ротный Седых на двух «бэтээрах» ушел сопровождать колонну с мукой и с сахаром, трейлеры, груженные оконным стеклом. Провожал до соседа. Била по горам артиллерия, перетряхивала горы, как тяжелые пыльные тюфяки. Под навесом в тени сидели музыканты оркестра. Вразнобой давили кнопки и клавиши, извлекали из своих инструментов тихие вздохи и рокоты. Фургон военторга торчал в углу за каменной стенкой. Продавщица, озабоченная и испуганная, снимала какие-то ящики, закрывала какие-то крышки.
Комбат, усталый, сидел и смотрел телевизор, московскую программу. Экран дергался, рябил помехами. Глушков, опустив между коленями кисти рук, ссутулившись, смотрел и слушал, как длинноволосый многоречивый старик рассказывал о кинофестивале, о звездах английского и французского кино, о новых веяниях западного кинематографа. Старик был свеж, умен, величав. Походил на камергера. Был доволен собой. И его сочная, умелая речь вызывала в Глушкове протест, а сам искусствовед – неприязнь.
– Таким образом, – улыбался на экране старик, – смелые решения английских режиссеров и операторов во многом объясняются их умением точно поставить камеру, безошибочно выбрать позицию…
«Позицию они выбрать умеют! – зло подумал майор. – Операторы их умеют работать!»
Сюда, на Саланг, вместе с бандами просачивались операторы из Англии, Франции, ФРГ. Устанавливали свои кинокамеры рядом с душманскими пулеметами. Снимали бои и пожары, горящие «наливники» и падающих под пулями людей. И эти два боя, только что им пережитые, быть может, засняты на пленку. Светлов в пылающей раскаленной кабине. Сгоревший на бетонке шофер. И он, комбат, летящий кубарем в реку, накрытый жаркой попоной.
Он чувствовал себя страшно усталым, почти без сил. Эти два боя, два пожара выпили из него всю энергию, весь кислород. Хотелось кинуться на солдатскую койку, задремать и забыться. Кусок лазурита лежал на столе, накрытый каким-то тряпьем, какой-то брезентовой сумкой. И не было сил подняться, посмотреть на небесный камень, припасть к его синеве.
Его «бэтээр» стоял наготове. Солдаты перебирали и смазывали пулемет с другой, находившейся в ремонте машины. Разложили на досках черные вороненые детали, лили масло, толкали в ствол шомпол. Бережно и старательно снимали нагар, ухаживали за оружием, восстанавливая его боевые свойства.
Глушков вспомнил, что утром балагурил с Кудиновым, что-то о домашних пончиках, но не успел сообщить Евдокимову, что составил на него наградную. Надо бы сейчас сообщить – парню будет веселей. Но такая немощь накатывалась на него, что не мог себя заставить подняться, выйти к солдатам.
Вошел дирижер оркестра, полный розовощекий майор. Близоруко мигал сквозь очки, разыскивая его в полутьме.
– Вот ты где! – обрадовался он. – А я ищу, тебя нет!.. Я, знаешь, о чем все думаю?
– О чем? – рассеянно отозвался Глушков.
– Я должен написать настоящую боевую песню! Чтобы люди ее пели и перед боем, и после боя, и, может быть, даже в бою!
– И напиши, – сказал комбат.
– Не получается. То выходит какая-то очень парадная, бодрая. То слишком лихая. То наподобие Высоцкого. А я хочу – свою! Пробую, но пока не выходит.
– Пробуй дальше.
– Вот хотя бы даже про этот день! Про моих музыкантов. Сидят в тени и тихо играют на трубах, а по горам в это время бьет артиллерия, мимо идут колонны. Вот этот момент ухватить!
– Ухвати, – согласился Глушков. – По-моему, момент неплохой.
– И про тебя хочу написать. Про комбата Саланга. Про тебя!
– И про него! – ткнул в телевизор Глушков, где все еще, похожий на камергера, говорил старик, представлял какую-то молодую, усыпанную блестками актрису. – И про него напиши! О чем он там заливает, пока мы здесь с тобой на Саланге стреляем.
Он увидел, как из «бэтээра» вылезает таджик Зульфиязов, прыгает на солнечный щебень, одергивая китель, бежит через двор. И пока тот бежал, комбат, уже зная все наперед, подумал: сейчас ему опять подниматься, брать автомат, залезать в горячее, в зазубринах и потеках железо, ввязываться в бой. И в этом бою, где-то здесь, за пыльной рыжей горой, он будет непременно убит. Непонятно, почему его до сих пор не убили. Не проткнули стальным сердечником крупнокалиберной пули. Не плеснули на него раскаленное пламя солярки. Не разорвали на части тупым ударом фугаса. Все откладывали на потом. Но теперь настал его час. Теперь за рыжей горой его непременно убьют. Надо упасть на одеяло, закрыть глаза, отключить свое зрение, слух, отключить дыхание, пропустить над собой этот миг. Обмануть его, вычеркнуть из жизни, чтобы смерть, заключенная в этом мгновении, притаившаяся за рыжей горой, чтобы смерть его миновала.
Зульфиязов, стуча ботинками, подбежал:
– Товарищ майор, на связь!
– Вот видишь, – сказал майор дирижеру, – не дают нам с тобой о музыке… – и Зульфиязову: – Иду на связь!
Седых бился в нескольких километрах отсюда. Защищал муку и сахар. Ему приходилось жарко, но он не просил помощи. Справлялся силой двух своих «бэтээров» и сопровождения колонны. Связался по рации с соседом, и тот держал наготове резервную группу, был готов подключиться. Комбат угадывал по рации течение боя. Чувствовал, знал: Седых очнулся от своей спячки, от приступа своей меланхолии. На стреляющей и горящей дороге отбивался огнем пулемета не только от душманов, но и от горьких вестей из дома, от своих подозрений, от наветов на жену.
Комбат не спешил к Седыху, надеясь на работу пары двухствольных установок, стреляющих с открытой платформы, поддерживая батарею, уже бросавшую через вершины свои жгучие упругие взрывы. У него, у комбата, была другая задача – встретить и проводить тяжелую «нитку» с армейскими грузами, еще только начинавшую свой спуск от туннеля. Он озабоченно поглядывал в небо, ожидая появления «вертушек». Вести такую колонну в сопровождении вертолетной пары было спокойней. Он все медлил, тянул, поглядывая в небо и на близкую рыжую гору, за которой притаилось нечто, с чем вступил в незримую связь.
На трассе жужжащий, как жук, возник «джип». Затормозил перед воротами. Надир, уездный секретарь, оставив в машине вооруженных, ощетинившихся автоматами спутников, подбегал к комбату, прихрамывая, – болела рана на ноге, прижимая руку к груди, – болела рана под ребрами. Еще издали говорил, вращая возбужденно белками:
– Там ущелье Ливан душманы идут! Пулемет несут! Базука несут! Надо брать душман с двух сторон! Мои люди прямо пойдут, в ущелье. Твои солдаты сзади пойдут, по тропе. Вот так их взять! – Он развел и сжал руки, ударил ладонью в ладонь. Сморщился от боли – удар проник в перебитые ребра. – Сейчас идти надо! Душманы ущелье пройдут, на горы сядут! Будут бить «наливники»! Давай солдат!
– Нету солдат, Надир! – Майор оглядывал пустой двор заставы. – Ушли с резервной группой.
– Надо быстро солдат! Душманы подойдут, сядут на горы. Тогда их брать нельзя! Они пулемет ставят, будут колонну бить! – Надир вращал выпуклыми белками с лопнувшим красным сосудом. Дирижер оркестра слушал их разговор, что-то пытался сказать. Волнуясь, блестел очками.
– Я с тобой пойти не могу, Надир. Своих людей дать не могу! – сказал комбат. – Иду наверх колонну встречать.
– Гафур-хан выйдет, нас сверху бить будет! – сокрушался Надир. Казалось, кровь заливает ему глаза, натекает из лопнувшего сосуда.
– Глушков!.. Я пойду! Оркестр пойдет! – Дирижер, волнуясь, боясь, что ему откажут, схватил за рукав майора. – Мы пойдем! Пусть покажет, куда!
Его полное лицо было потным. Близорукие глаза часто мигали. Он то и дело поправлял очки. Боялся, что ему откажут, отделаются от него насмешкой.
– Слышишь, Глушков, я пойду!
Но комбат и не думал отказывать. Было не до насмешек.
– Хорошо, пойдешь!.. Бери фургон военторга. Других колес нету!.. Надир, с ним садись, их поведешь! Возьмите их в клещи! Только по тропам не шастайте, на мины напоретесь!.. Склоны, склоны трассируйте. Вперед!
Майор Файко, поправляя очки, бежал к своим музыкантам. Командовал. Те выскакивали из-под навеса, оставляя лежать медные свитки труб. Хватали автоматы. Заводили грузовик военторга. Продавщица безропотно принимала от них какие-то ящики, свертки. Файко и Надир тесно вдавились в кабину рядом с шофером. И две машины – фургон и открытый «джип», переполненный вооруженными, в чалмах и повязках афганцами, ушли от поста к соседнему ущелью, где отряд душманов менял боевую позицию. Шел на соседние горы. Готовил по колонне удар.
– Ну, Кудинов, настраивай свою флейту! – сказал комбат. – Соло на пулемете с оркестром!.. Нерода, трогай вперед, – и мимо растерянной, растрепанной продавщицы, мимо ее красивого испуганного лица вышли на трассу.
Мчались по бетонке, огибая рыжую гору. У подножия, зацепившись за осыпь, качались пустынные, горчичного цвета кусты. С песчаного откоса летели желтые космы жара. Казалось, что воздух желтый, и броня «бэтээра» желтая, и лица под касками желтые. Из горы бьет и светит огромный иссушающий желтый поток.
Из этого едкого горчичного света одиноко и тихо ударил выстрел. Из песка, из осыпи, из безлюдного жара. Будто выстрелила сама гора. Сидевший сзади Евдокимов молча стал падать. Ткнулся лицом в спину комбата. Майор, оглянувшись, увидел Зульфиязова, ухватившего падающий с брони автомат, открытые и уже невидящие глаза Евдокимова, его выцветающее, выгорающее лицо, гора выпивала его живые краски, наполняла бесцветным жаром. Увидел отлетающую рыжую гору, и короткая мысль: его предчувствие оправдалось. Гора стреляла в него. Но промахнулась. И пуля попала в другого.
– Пулеметчик! – гаркнул он. – Огонь!
Они продолжали движение. Пулемет бил по отлетающей песчаной горе, слепо искал на ней снайпера. Солдаты, Зульфиязов, Салаев, уложив на броне Евдокимова, между люками, ногами к корме, срывали с него бронежилет, разрезали рубаху, обнажали белую, незагорелую грудь и разорванное пулей плечо, в котором белело, краснело и брызгало. Молодое, растерзанное тяжелой пулей тело.
– Евдокимов… Дока! Дока! Ты что? – Салаев вкалывал шприц с обезболивающим раствором, разрывал индпакет, крутил на плече жгуты, пачкался кровью, торопился, бормотал: – Дока, Дока, ты что?..
Комбат не привык к близкому виду крови. Отворачивался от ее дурманящей силы. Сгибался, сжимался, искал себе место между красной брызжущей раной и стучащим вороненым стволом.
– Шок снимите! Болевой шок снимите! – Он схватил Евдокимова за хрупкий побелевший подбородок и стал бить его по щекам крепко, плоско своей перепачканной тяжелой ладонью, по опавшим пожелтевшим щекам, вталкивая в них обратно жизнь, цвет, боль. – Шок болевой!
Он знал эту смерть от шока, когда сердце не выдерживало резкого от боли и ужаса торможения. Останавливалось. Неопасная рана оказывалась причиной смерти. Он бил и бил по щекам Евдокимова, пока тот не вздохнул, не дрогнул веками. Открыл глаза, разлепил слабо губы:
– За что, товарищ майор?..
А у Глушкова такое облегчение, такое знание о нем, Евдокимове, о своем с ним родстве, о тождестве их жизней. Вера, что солдат не погибнет, «сынок» не умрет. И уже не бил, а гладил, ласкал, прижимал к его лбу свой лоб под танковым шлемом:
– Вот и хорошо! Вот и ладно! Все теперь будет нормально!.. Под броню его, осторожней!
Солдаты опустили Евдокимова в люк. Санинструктор Салаев в полумраке, среди бьющего из бойниц солнца, бинтовал его. Евдокимов забывался, что-то бормотал, выговаривал. «Бэтээр» катил по бетонке, стуча по горам пулеметом.
Они встретили колонну со взрывчаткой. Мерно, пузырясь брезентом, шли грузовики. Два вертолета в рокоте повторяли движение колонны. Обгоняли ее, возвращались, облетали окрестные горы. Группа охранения, разделившись надвое, в голове и в хвосте колонны, развела пулеметы в стороны, обрабатывала огнем вершины. Орудие на платформе вело стволами, воспроизводило очертания гор. Вся длинная гибкая вереница, дымя и стуча, катила вниз по Салангу.
Солдаты перенесли в грузовик забинтованного Евдокимова, отправили в медбат. Комбат провел колонну к месту, где сражался Седых. Бой был окончен… Предыдущая «нитка» ушла, оставив у обочины два курящихся разбитых прицепа. В одном, оплавленное, спекшееся, лежало оконное стекло. Верхние кромки листов стекли и согнулись. В другом дымили, капали черной смолой мешки с сахаром. Бетон был усыпан мукой и сахарным песком. Машины шли, как по снегу, пробивая черные ребристые колеи.
Они соединились с группой Седых, вернулись на пост. Почти одновременно с ними подкатили фургон военторга и маленький юркий «джип».
Музыканты выпрыгивали на землю, шумные, возбужденные. Не расставались с автоматами. Надир и Файко были вместе, улыбались, похлопывали по плечам друг друга. Из фургона спрыгивали на землю, затравленно озирались и тут же садились на корточки пленные душманы. Четверо пленных, смуглых, худых, плохо выбритых, в линялых, блеклых одеждах, в растрепанных, плохо державшихся чалмах. Один из них, раненный в руку, лег на землю и тихо стонал, протянув вдоль тела липкий, полный крови рукав.
– Глушков, мы их взяли в кольцо! – говорил дирижер. – В кольцо их взяли!.. Смотрю, идут! Цепочкой, след в след!.. Я говорю: не стрелять! Пусть втянутся глубже в ущелье!
Надир нависал над пленными, блестел своими красными вращающимися белками. О чем-то грозно их спрашивал. От его слов они сжимались, ниже склоняли головы, худые, изнуренные, оглушенные стрельбой. Раненый тихо стонал.
– Умрет от потери крови, товарищ майор, – сказал санинструктор Салаев. – Разрешите перевязать!
– Перевязывай.
Салаев открыл свою сумку, достал жгуты и бинты и быстрыми осторожными движениями стал бинтовать басмача. Тот косил на него своими умоляющими глазами, что-то бормотал.
Солдаты резервной группы, обсыпанные мукой, потные, утомленные, столпились вокруг продавщицы. Торопливая, ловкая, она открывала бутылки с водой, мелькала отлетающими пробками, протягивала солдатам:
– Пейте, миленькие, пейте бесплатно!.. Попейте, попейте водички!
…Он не мог до конца понять, что это было. Что с ним случилось в маленьком сквере у Шаболовки между Донским монастырем и Шуховской башней. С годами случившееся меняло свои очертания, становилось мифом. Он дорожил этим мифом. Размышлял над ним. Лишал его чудесного смысла. К тому дню, к той минуте его растущая молодая душа накопила в себе столько сил, столько упований на счастье, что им стало тесно в груди. Они вырвались из телесного плена. Его прежняя жизнь – предчувствие женской любви, нежность к милым и близким, родная природа, Москва – сошлась на мгновение в огненный фокус. Пройдя сквозь него, вырываясь по другую сторону фокуса снопом расходящейся жизни, он унес в нее, размывая, чье-то огненное, открывшееся в точке лицо.