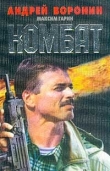Текст книги "Столкновение"
Автор книги: Александр Проханов
Соавторы: Анатолий Ромов,Валерий Толстов,Валентин Машкин,Андрей Черкизов,Виктор Черняк,Вячеслав Катамидзе
Жанры:
Политические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Столкновение
Александр Проханов
СВЕТЛЕЙ ЛАЗУРИ
Это было. Но осталась не память, а память о памяти. Отдаленное, многократно ослабленное отражение и эхо. И нужно долго, по косвенным признакам, по малым, оставшимся метинам, по слабым отпечаткам в душе восстанавливать это прошлое. Собирать воедино тот звук. Улавливать рассеянный сеет. Слой за слоем снимать и соскабливать поздние грубые записи. Чтоб под слоем многократных побелок, под пластами чужих малеваний вдруг открылась тончайшая фреска. Из прозрачных, воздушных фигур, из ликов и нимбов. Возникли чудное лучистое пространство и время. Зазвучали чуть слышные звуки. Колыхнулся легчайший полог. И за пологом – синева ночного стекла, московский ночной снегопад. Колышется на ветру обдуваемый метелью фонарь. Бежит по заснеженному переулку запоздалый прохожий. И за дверью, где тонкая яркая щель, – голоса. Рокочущий, приглушенный – отца. Взволнованный, из дыханий и тихого смеха – матери. Шелестящий, с сухим дребезжанием, как надтреснутая чашка в буфете, – бабушки. Гудящий и сиплый – деда. Их речи, их смешки, воздыхания – о нем, засыпающем. Он это знает. И так сладко засыпает среди них, любящих, заслоняющих его от всех бед и напастей. В синей московской метели кто-то смотрит на него из-за снега, терпеливый, безмолвный. А он, накрывшись до подбородка одеялом, знает: впереди, в нарастающем времени, притаилось непременное, ему предначертанное чудо. И вся его жизнь, каждый день, каждый час, есть приближение к этому чуду. О чуде – родные голоса за стеной. О чуде – фонарь в снегопаде. О чуде – два хрустальных мерцающих куба в чернильнице. Оно впереди, для него. И оно непременно случится…
Командир батальона поднимался по вечернему остывающему ущелью. Трасса, пустая и синяя, хранила гул и запахи прошедших за день колонн. «Бэтээр» рокотал, срывая углами брони тугие воздушные струи. Автоматчики наслаждались прохладой, подставляя свои тела встречному ветру, запахам каменных круч, горных вод, невидимых малых растений, оживших на вечерних откосах. Пахнуло вонью сожженной резины. Нависшая над трассой скала была в жирной бархатной копоти. За обочиной, сброшенный к самой реке, лежал «наливник», седой, изъеденный огнем, с расплющенными цистернами. Река бежала зеленая, пенистая. Вершина горы прозрачно розовела. Автоматчики повернули лица на высокий розовый камень, похожий на зажженный светильник.
– «Двести шестой»! Я – «Гора-Два»! Обстановка в районе поста нормальная! – донеслось в наушниках с проплывавшей вершины.
Комбат стянул с себя танковый шлем. Волосы поднялись встали дыбом. Голова остывала. Отпускали боль, непрерывные измельченные вибрацией мысли, множество промелькнувших за день лиц. Военных водителей за толстыми лобовыми стеклами. Трубопроводчиков, перепачканных соляркой и сажей. Солдат с придорожных постов в бронежилетах и касках. Шоферов-афганцев, горбоносых, в чалмах, проводивших по трассе высокие, похожие на колымаги машины.
Все эти лица покидали комбата, оставались сзади на трассе. И он, опустив ноги в люк, привалившись к стволу пулемета, чувствовал, как выдирается из этих круч, поворотов, из бетонных, на опорных столбах галерей его душа. Становится сама собой. Обретает ровное дыхание, зрение. Ему захотелось расстегнуть на груди китель, подставить сердце прохладе, зеленоватому гаснущему небу. Но грудь его стягивали «лифчик» с боекомплектом, ремень портупеи и рации, и он лишь повел плечами, переложив «акаэс» справа налево от люка, уперев цевьем в скобу.
Майор Глушков, командир мотострелкового батальона, охранявшего ущелье Саланг, возвращался после дневных трудов в свое малое жилище на перевале. Через вершину хребта был пробит прямоугольный туннель. Сквозь него проходила трасса от Хайратона, от рыжей амударьинской воды, по красноватым пескам пустыни, по горбатым душным предгорьям, к перевалу, к обветренным скалам, где лежали языки нерастаявшего пыльного снега. Ниспадала вниз по ущелью Саланг, вдоль гремящей, пенной реки, крохотных, словно осами склеенных кишлаков, к зеленой долине. К полям и садам Чарикара, к бурому глинобитному скопищу плосковерхих жилищ и дувалов, к лазурным главкам мечетей. Разветвлялась к Кабулу, к его базарам и рынкам. К Джелалабаду, к его апельсиновым рощам. К пакистанской границе, в Хайберский проход, в расступившиеся створы хребтов, уходила в Пакистан, к Пешавару. И дальше, дальше, к самым «теплым морям». Так бежала бетонная трасса. Залитый бетоном караванный старинный тракт, все долгие тысячи лет пропускавший сквозь себя караваны шелка и хлопка, груженных лазуритом верблюдов, мулов с корзинами хны, боевых слонов с балдахинами царей и воителей, пешее и конное войско.
Этот древний восточный путь на отрезке ущелья Саланг охранял батальон майора. Бетонку, мосты, две нитки трубопровода, качавшего керосин и солярку, колонны проезжих машин. Весь год, что служил здесь майор, душманы нападали на трассу. Обгорелые скалы и пропасти – метины боев и засад.
– «Двести шестой»! Я – «Эдельвейс»! Вижу, как вы идете! Обстановка в районе поста нормальная!
«Бэтээр» взбегал в высоту, в надвигавшийся сумрак и холод, в меркнувшее пустынное небо, где вот-вот загорится, влажно забелеет звезда. Оставлял за кормой глубокую, нагретую за день долину, вечерние дымы очагов, крестьянские поля и наделы, где желтела на токах выбитая цепами мякина.
– «Двести шестой»! Я – «Гиацинт»!
Прошумела на высокой обочине над головой майора Святая могила. Прошелестела зелеными лоскутьями, воздетыми на кривых ветках. Словно корабль с разорванными парусами. В камнях покоились кости похороненного здесь муллы. Сюда, на вершину, приходили из кишлаков богомольцы. У могилы молились шоферы-афганцы, начинавшие движение в долину. Вымаливали у святого благополучный спуск по ущелью. Целый год, что служил здесь майор, безвестный мулла тянул к нему свои тонкие суковатые руки, шумящие зеленые флаги.
Они подкатили к туннелю, к бетонированной четырехгранной дыре, темневшей в сумрачном склоне. «Бэтээр» замедлил движение. Другой «бэтээр», заслонивший портал туннеля, выставил свои ромбы, стволы, стеклянные глазницы прожекторов. Часовой в бронежилете и каске шагнул от колючего передвижного ежа. Грозно окликнул майора:
– Пропуск!
– Миномет! – ответил майор.
Солдат был знакомый, из его батальона. Знал своего командира. И это действо с пропуском, повторяемое ежедневно, должно было внушить командиру, что служба идет нормально, на ночь туннель закупорен, вся трасса от вершин до долины перекрыта постами, шлагбаумами. Ни единая шальная машина, ни мул, ни верблюд не минуют охранение. Только выйдет на пустынный бетон пугливый шакал, принюхиваясь к слабым запахам шин. Скользнет в темноте душман из распадка в распадок, пронося автомат и взрывчатку. Исчезнет под туманными звездами.
Туннель гудел, многократно усиливая вой двигателя. Мигал редкими тусклыми лампами. Гнал холодный, колючий сквозняк. Майор чувствовал, как мерзнут и сжимаются мускулы, как ежатся на сквозняке автоматчики. Туннель был гулкий, грозный, угрюмый. Был частью его, Глушкова, жизни. Был пробит сквозь него самого. Словно сквозь его грудную клетку и ребра катили колонны машин, выбрасывали едкие газы, проволакивали тяжкие грузы. Арматуру, цемент и пшеницу. Топливо, снаряды и мины… Шли КамАЗы и красные «татры», афганские «мерседесы» и «форды», бронетранспортеры и танки. Туннель часто снился майору: он идет по нему под тусклым свечением ламп, и что-то слепое, огромное, заполняя собой весь желоб, с воем настигает его.
Они миновали туннель, подкатили к жилью. Здесь работали дизели. Размещался афганский взвод. Жили мотострелки. Тут же, рядом со штабом, разместился комбат.
– Отдыхайте, спасибо за службу! – Майор спрыгнул, прихватывая автомат, вглядываясь в темных, похожих на изваяния солдат. – Завтра к шести за мной! Евдокимов, отмой хорошенько лицо, а то оно у тебя ночи чернее, понял?
– Так точно! – ответил Евдокимов, днем помогавший трубопроводчикам, измазанный сажей и копотью. – Если отмоется…
– Товарищ майор, возьмите! – Водитель, маленький ловкий Нерода, светлевший в сумерках белесой головой, протягивал что-то майору.
– Ах да, спасибо! – Он принял планшет с командирскими картами. – Завтра в шесть у порога!
Поднялся по лестнице, видя красный хвостовой огонь отъезжавшего транспортера.
…Много позже, когда кончилось детство и это бессознательное целостное и чудесное время удалилось настолько, что возникла возможность его разглядеть, он вдруг понял: среди игр, развлечений, нарастающего предчувствия чуда его детство было неусыпным страхом за близких – за их жизнь. Он знал почти с младенческих дней или сразу же после них не из книг и рассказов, а из темной, присутствующей в нем сердцевины, откуда тянули слабые мучительные сквознячки, – знал, что его дорогие и близкие когда-нибудь непременно умрут и оставят его одного. И его взрастание, непрерывное открытие жизни было тайным ожиданием их ухода, страхом и мукой за них. Эти дующие в душе сквознячки проникали в забавы и игры, в предчувствие и ожидание чуда. Так в накаленной печи силой огня и света обжигается драгоценный сосуд, скрепляется вещество тончайших, в цветах и узорах, стенок. Но незримое ледяное дыхание проникает в стенки сосуда, откладывается в них незаметными, неслышными трещинками. Сокрытым от глаз узором. Кромками будущих черепков.
Его родовое чувство, знание о бабках-прабабках, об исчезнувшей безымянной родне было знанием о спрессованном, переставшем двигаться времени, о плоском, потерявшем объем пространстве. О фреске, с которой, окруженные нимбами, смотрят лица усопшей родни. А те, кто еще живет, – бабушка, дед, отец – скоро уйдут в эту стену. Оденутся в бестелесные ризы. Станут следить за ним из стены одинаковыми большими глазами.
…В жилище, куда он вошел, было натоплено. Пахло дымом. Горела яркая лампа. Освещала стол с полевым телефоном, железную койку, застеленную жестким одеялом. И другую, с которой, морщась, беззвучно охая, поднимался замполит Коновалов.
– Лежи! – кивнул ему Глушков, проходя к своему ложу, ставя в головах автомат, вяло, привычным движением стягивая «лифчик» с боекомплектом. – Все болит?
– Болит, – ответил Коновалов, держась за живот, сгибаясь и жалобно морщась. – Вроде днем ничего, пока в делах и на нерве. А к вечеру, чуть прилег, и начнет, и схватит!
– Потому что на нерве! Съездил бы ты в медбат. До язвы себя доведешь!
– Съезжу, когда начштаба вернется. Еще дней десять в Черном море поплавает – и к нам обратно, черноморскую соль на Саланге смывать. Вот тогда и покажусь в медбате. А то ведь ты один разорвешься – по трассе носиться.
– Разорвусь, – согласился майор, подходя к рукомойнику, афганскому, склепанному из меди сосуду, испускавшему тонкую струйку. Долго, медленно мыл ладони, перепачканные окалиной, смазкой, едкой пылью.
Начштаба был в отпуске. Его отсутствие чувствовалось в батальоне: увеличились нагрузки на них, комбата и замполита, все дни проводивших в ротах.
Майор, покачивая медный умывальник, подумал: замполит явился на Саланг румяный и свежий. Искрился радушием и весельем в избытке сил и здоровья. За год незаметно, день ото дня исчезал с его щек румянец, покидало веселье. Словно черный квадратный туннель выдувал своим сквозняком его свежесть и силу. Дымные грузовые колонны уносили на своих бортовинах блеск его глаз, пунцовую мягкость губ, счастливый, легкомысленный смех. Коновалов был худой, потемневший, из костей, желваков, сухожилий, с непрерывной тревогой в глазах, вращавшихся в запавших глазницах. Мгновенно озирали окрестные кручи: не мелькнет ли отсвет ствола, не вспыхнет ли бледный огонек выстрела.
Трасса проходила и сквозь него, замполита. Проталкивала свои сталь и бетон. Сокращалась, взбухала судорогой, когда горели машины и в заторах копилась техника, и вновь обретала пластичность, когда разгребали завал и колонны гибко и длинно вписывались в повороты и дуги. Его ноющая боль в животе была болью и мукой трассы.
– Как наверху, все нормально? – Комбат сел на кровать, продавливая скрипнувшие пружины. Расшнуровывал пыльные ботинки, расстегивал и стягивал китель. Голый, босой сутуло сидел, расслабив мускулы, чувствуя, как звучит в них усталость – вибрация двигателя, хрипы и бульканья рации, шум проносившихся грузовиков. Слабо ломило в висках. Здесь, наверху, у туннеля, сказывались перепады давления. Оживала контузия. Он хуже слышал. И казалось, начинал краснеть и пульсировать рубец на ноге, нанесенный осколком гранаты. – Все у тебя здесь нормально?
– Выходил на связь командир части. Предупредил: завтра в батальон прибывает проверка. Какой-то полковник из Москвы. Просил подослать две «коробки» для сопровождения. Я выделил из третьей роты.
– Что за проверка?
– Точно не понял. По вопросам быта, питания.
– Две «коробки» многовато. Оголим третью роту. Мог бы и одной обойтись… Что еще?
– Да вот сейчас написал письмо матери Сенцова. Тяжелое это дело, самое тяжелое! Никак не привыкну. Лучше сам сто раз в бой пойду, чем эти письма писать! Не могу! Никак не привыкну!
– В отпуск поеду, зайду к ней. Сенцов-то был из Москвы. Все говорил: «Товарищ майор, встретимся в Москве, домой вас к себе приглашу, с матерью познакомлю». Вот и зайду, познакомлюсь…
– Самое больное – эти письма писать! Лучше сто раз под пули!
– Что еще?
– Наградные я подготовил. Подпишешь. Завтра отошлем в штаб части. Он говорит – не скупись. Для солдат не скупитесь! Правильно, я тоже считаю: кто на Саланге год прослужит, тот обязательно заслужит награду. Мы и не скупимся, ведь так?
– Внеси Евдокимова в списки. Он сегодня с «трубачами» на пожаре работал. Весь опалился. Я его спрашиваю: «Ты что, Евдокимов, в огне не горишь?» А он мне: «Горю, товарищ майор, только дыма не видно». Внеси его обязательно. Что еще?
– Был у Клименко в роте. Прапорщик ко мне подходил. На ротного жаловался. Говорит, не сработались. Дескать, ротный его допекает. Жить не дает. Просил о переводе в третью роту. Там старшина заменяется. На его место просился.
– Мало ли что он просился! Может, он в Сочи попросится? Может, он на курорт попросится? Пусть служит, где служит!.. Ротный ему не понравился! Клименко ему не понравился! Спрашивает строго, вот и не нравится. Еще строже надо! Я с ним сам потолкую. Что у Клименко с движком? Опять «бэтээр» на простое? Пусть новый движок присылают, сами поставим. Не будем в отдельный ремонтно-восстановительный батальон гонять.
– Движок на подходе. Может, завтра пришлют.
– Поставим его сами по-быстренькому. Что еще?
– Дирижер Файко со своим оркестром грозился завтра приехать. По ротам концерты давать.
– Это неплохо. Пусть подудят, поиграют.
– Да вот же, главная новость! Швейную машину сюда, наверх, получили! У солдат и поставили. Они ее быстренько наладили и весь день строчили. Завтра можем и мы. Я видел, у тебя маскхалат разодрался!
– Да ну! Машина! Ну здорово! – обрадовался вдруг майор. – Завтра свою фрачную пару простегаю. И вообще, замполит, ты почему мне сегодня баню не истопил? Весь день в дыму, в чаду. Как вобла, провялился. Думаю, наверх подымусь, мне замполит баню готовит. А ты – ничего! Где же праздник? Где веселье? – Майор воздел руки, призывая в свидетели темное, расплывшееся на потолке пятно.
– Ладно, завтра сделаем баню. Будет тебе праздник, веселье! – Замполит улыбнулся устало, и этот обмен улыбками был обменом энергиями. Более сильный, комбат делился с более слабым. Давал ему глоток своей силы. До поры до времени, когда сам, ослабев, задохнется и получит назад свой глоток.
– Вот что, – сказал комбат, – завтра, я тебя попрошу, побывай-ка в роте Сергеева. Посмотри, поработай с людьми. В его роту прибыло пополнение – новички, необстрелянные. И сам он, ты знаешь, еще не больно уверен в себе. После той заварухи у Самиды. Не совсем он правильно себя там повел. Я его попридерживаю. Ничего ему тогда не сказал, пусть оглядится, привыкнет. А ты поживи у них пару деньков, поработай.
– Конечно. Я и сам собирался. У него много новых людей. Взводный новый. Старшина сменяется. Да и сам он всего три недели. Не срок!
– Так что ты давай поработай!
Это были их обычные, не имевшие окончания разговоры. Батальон разбросал вдоль трассы свои посты охранения. Угнездился у обочин бетонки, сложил из камней малые придорожные крепости. Оседлал вершины окрестных гор. Был огромной непрерывной заботой. Был хозяйством. Был воюющим коллективом людей. Сочетанием человеческих судеб, характеров, болей, страстей, в которых он, командир, имел свое место. Был частью своего батальона, с собственной болью, судьбой.
Майор вытянулся на одеяле, касаясь макушкой холодных брусьев кровати, чувствуя пальцами ног другую, нагретую печкой железную спинку. Лежал, сжатый металлом. Легкий, пробежавший от темени к пальцам разряд породил в нем головокружение. Ему показалось, что он сам превратился в Саланг, вытянулся по ущелью, касаясь затылком голых, холодных вершин, а ногами – зеленой курчавой долины. Он человек-ущелье. По нему, изгибаясь, проходила дорога. По нему вдоль тела бежала и бурлила река. Лежали две светлые трубы, пропуская керосин и солярку. Высились кручи с постами, с глинобитной чередой кишлаков. В нем, под ребрами, мешая дышать, застряли остовы убитых машин. Как малые зарубки и шрамы, виднелись долбленые лунки – места душманских засад с россыпями стреляных гильз. И где-то у горла, у пульсирующей, набухшей артерии, пролегал туннель, свистящий, жестокий и черный.
– Ах как я накупаюсь, наплаваюсь! – тихо произнес замполит.
– Что? – не понял Глушков.
– Накупаюсь, наплаваюсь. Належусь на траве, на песке! По всем тропочкам! Ко всем ключикам, ручейкам! Ко всем василечкам, ромашечкам! Ока, такая она голубая! Облачко над ней летнее, белое. И я плыву, гляжу и на облачко, и на ласточек, на стрекозок. И знаю, сынок Антошка в панамке белой смотрит на меня с бережка, и жена Валентина – смотрят, как я плыву. А я тихонько до поворота, до отмели. И на луг, где цветы, где стожки зеленые, мокрые. И к ним, к Валентине, к Антошке. Чтоб вместе втроем на песочке лежать, играть в ракушечки. Подбросил – поймал! Подбросил – поймал! Перламутровые! Хорошо!
– Хорошо, – согласился Глушков, прислушиваясь к нежным, почти воркующим интонациям, в которых чудился тихий счастливый смех и близкие возможные слезы.
Замполит лежал на кровати, прижимая руки к больному желудку. Над его головой висела фотография молодой улыбающейся женщины в сарафане и мальчика, сжимавшего в руке колосок. А сбоку, прислоненный к стене, стоял автомат с потертой, исцарапанной ложей и висел на гвозде брезентовый измызганный «лифчик». Майор почти видел светлый трепещущий луч – от глаз замполита к фотографии на серой стене.
У него, у Глушкова, не было жены и сына, не было синей Оки. Но у него была Москва. Она присутствовала в нем, как дыхание. Наплывала своими дождями, туманами, синими ночными метелями, лицами милых, родных. Темной аркой в глухой подворотне. Колоннадой с белым фронтоном. Блеском проспекта. Кривым переулком. Светилась, как далекое зарево, из-за гор, пустынь и лесов.
Оба они, замполит и Глушков, лежали на железных кроватях. Редкие капли из рукомойника били в железный таз. Черный туннель за окном, закупоренный транспортерами, беззвучно гудел в темноте. Скопившиеся колонны машин ждали утра, чтобы двинуться вниз по Салангу.
…Он отрывал глаза от тетрадки, от старательных неровных каракулей. Смотрел на деда. Тот лежал на тахте, тучный, бородатый, накрытый пледом, с набухшими недвижимыми веками, оттопыренными в белых усах губами, с недвижной желтоватой рукой. И ужасная, цепенящая мысль: дед умер. Случилось то, долгожданное, страшное, к чему постоянно готовился, что предчувствовал, отдалял. Это зимнее туманное утро. Шерстяные клетки на пледе. Безжизненные желтые руки. Оно случилось, настигло его. Не деда, а его, живого, оторвавшего глаза от тетрадки. Встал. Медленно, замирая, пугаясь своих шагов, своего отражения в зеркале, прошел к тахте. Плед на груди у деда чуть заметно дрогнул. Белые волоски в бороде шевельнулись. И такое облегчение и счастье, такая до слез благодарность – деду, этому зимнему утру, белым в снегу деревьям и себе самому, хрупкому, с маленькой челкой, с испуганным бледным лицом.
Пробуждение в ночи. Дом полон звяков, шагов. Люди в белых халатах. Мать торопливо шаркает, проносит какой-то сосуд. Лицо ее все в слезах. Бабушка наклонилась над ним, подымает: «Вставай!.. Дедушка умирает! Иди прощаться!» Он пугливо сует ноги в теплые тапочки, идет на свет в соседнюю комнату, где разгром, замотанная в красный платок настольная лампа, склянки с лекарствами, круглая грелка. Дед на огромной подушке, вмялся в нее, костлявый, растрепанно-бородатый. Сложил на груди руки. Водит выпученными водянистыми глазами. Увидел его, жалобно, слабо позвал: «Подойди!.. Умираю!..» А в нем вместо страха, недавнего оцепенения – жаркое стремление к деду, моление о нем. Желание удержать, не пустить, оставить его жить в этой комнате. Отдать деду часть своей жизни, часть своих дней, чтобы дед этими днями продлил свое, готовое оборваться время, еще побыл вместе с ними. И так сильна была вера и страсть, что он был услышан. Дед взял его дни себе. Наутро – тишина в квартире. Отдохновение от обморока. Смерть отступила. Дед спал на широких подушках и тихо постанывал.
Отправлялся в школу. Сбега́л по лестнице мимо знакомых дверей с табличками и именами соседей. Хлопал дверью в парадном. Выбегал на снежный двор, очень белый рядом с красной кирпичной стеной, угольно-черными ветвистыми деревьями. И прежде чем свернуть за угол, в переулок с обшарпанной колокольней, окруженной галками и голубями, на мгновение оборачивался, кивал и махал в высокое окошко, где, туманный, размытый, виднелся дед, его непременный, напутственный взмах. И похожая на прозрение мысль: ведь будет, будет такое, когда он сворачивает в переулок, оглядывается на окно, а оно пустое, деда нет и больше не будет. Не будет во веки веков, и он, повзрослевший, спокойный, идет через двор. Тот же снег, те же галки на деревьях, красная стена из кирпича, высокое за водостоком окно, а деда нет и не будет. И это не предчувствие, нет – это уже совершилось, очень давно, и он, уходя, огибает трубу с намерзшим в раструбе льдом, вспоминает то счастливое утро, тот легкий по лестнице бег, сладкое жжение мороза, и в высоком заиндевелом окошке – слабая тень бороды, любимое лицо старика. Да нет же, нет, померещилось. Пока еще все хорошо. Он торопится в школу. Хватает варежкой снег. Оглядывается мимолетно и машет. Дед благодарно кивает ему в вышине. Скрывается в туманном окошке.
Когда это все случилось и они все умерли – старики, и отец, и мать, – началась для него другая, новая жизнь. Жизнь без предков. Как бы упал и исчез заслон, отделяющий его от грозной безымянной бездны, дохнувшей вдруг беспощадной своей радиацией. Будто он без скафандра вышел в открытый космос, окруживший его своим черным слепящим блеском. Эти жгучие, проникающие под ребра лучи выпивают его живые силы и соки. Чувство беззащитности не покидало его. Иногда обострялось до мучительно ясного знания: «Их нет, моих любимых и близких, и больше уже не будет. Я один живу во Вселенной…»
…Замполит Коновалов спал, бормотал чуть слышно во сне. А комбат был не в силах уснуть. Чувствовал, как устал, как требуют забвения его ум, его память. Но нервы, расщепленные на бесчисленные возбужденные волокна, дрожали, трепетали. Он был в этом тесном военном жилище с полевым телефоном, готовым взорваться звонками, рядом с туннелем, закупоренным транспортерами, где поеживаются часовые, зачехленные в бронежилеты. И в то же время шел по Москве, по ее бульварам, мостам, ее кольцам, сжимающимся тесней и тесней к драгоценной сердцевине – Кремлю. Забредал в пустые подворья Мещанских и Троицких улиц, уже не существующих, сметенных новостройками, замурованных в толщу стекла и бетона. Прислушивался к тихим звукам рояля из открытой низенькой форточки, стоя на мерцавшем сугробе. Входил в свой дом на Таганке, где все так же висел знакомый светильник из яшмы, светлела на дверце буфета царапина – след его детской шалости, висел в шкафу обветшалый пиджак отца, пахнувший давнишними табаками, краснела на столе деревянная чашечка, где пылилась обгорелая трубочка деда, и, если взять ее в губы, вдохнуть, в горьком вздохе оживет его дед. Он вставал у подъезда высокого дома, у знакомых дверей, за которыми жила его милая, та, которую когда-то любил, караулил у этого вечернего подъезда. Он кружил и кружил по Москве, по родным, любимым кругам.
Он думал: почему он стал офицером? Он – из невоенной семьи, окруженный гуманитарной родней, увлекавшийся в школе русской словесностью, писавший стихи, рисовавший. Его сверстники, одногодки по выпуску, шли в инженеры, в педагоги, в актеры. Он единственный, к изумлению учителей и родителей, пошел в военное училище.
Теперь, спустя столько лет, он, комбат, познавший армейскую службу, сформированный этой службой, с жестким, резким сознанием, отпав от молодых увлечений, логикой этой службы, ходом угрюмых, заложенных в мир процессов приведенный в это азиатское ущелье, где взрывы на минных полях, пылающие «наливники», залпы минометов и пушек, он, майор, стремился понять: почему он стал офицером? Старался нащупать и вспомнить тот забытый момент, ту развилку, на которой он сделал свой выбор.
Быть может, бессознательное, коренившееся в его природе стремление действовать вопреки окружению? Упорно отрицать простое и ясное, лежащее перед ним на поверхности? В те школьные годы, когда ему предстояло сделать свой выбор, уже давно остыли ожоги войны, армия, оборона давно уже не были единственной, владевшей умами задачей. Один из школьных друзей стремился в филологию – изучать старинный фольклор. Другой – в инженеры – строить заводы в Сибири. Третий пошел в дипломаты в надежде поездить по свету. А он, Глушков, поступил в общевойсковое училище почти из упорства. Может, оно, упорство, было причиной всего?
Да нет, не одно упорство. Огромность мира с его красотой и энергией. Таившаяся в мире опасность. Горы, степи, моря, военные походы, мировая борьба, в которой ему, выбиравшему эту борьбу, отводилось явное место.
Или оружие, те бронзовые лафеты и пушки, что чернели у кремлевских дворцов, перевитые литыми цветами, с головами львов и медведей. Отстреляли в давнишних сражениях по старинной пехоте и коннице. Но если припасть к стволам и послушать, донесется далекий лязг, хруст бердышей и секир, шелест стрелецких знамен.
Или те крепости у псковских озер, к которым долго, перебредая ручьи, идти среди синих льнов и хлебов. Могучие, осевшие в землю, с обглоданными вершинами башен. Казались столпами, на которые опиралась держава. Окаменелыми богатырями, провалившимися в землю по пояс от страшных, разящих ударов. У стены, заросшей бузиной и рябиной, у бойницы с воркующим голубем он переживал состояние из восторгов, предчувствий и болей. Любовь и влечение к тем, кто когда-то бился на стенах, падал, пронзенный стрелой, смотрел затухающим взором на эти озера и льны.
Или те самолеты, сверкающие в небе, заостренные сгустки металла, нацеленные в бой и борьбу, воплощение грозной энергии, грозной красоты, совершенства. И казалось, ты сам состоишь из отточенных кромок, сверхплотных, несгорающих сплавов. Готов нестись, пронзая размытые горизонты.
И конечно, рассказы деда, бородатого, насмешливого старика, перебегавшего из комнаты в комнату. Дымил своей трубочкой, кашлял, задыхался дымом и горечью, едко вышучивал передачи по радио, соседей, отца с матерью, его, внука, а ночью без сна сидел в белой ночной рубахе у настольной лампы, глядел в невидимую, несуществующую точку, сквозь которую, сжимаясь в тонкий луч, стремилась его душа, раскрывалась широко и просторно в те зеленые курчавые горы под Карсом, где вилась по склону дорога, и лошади, хрипя и поскальзываясь, тащили орудия, и солдаты, упираясь в колеса, проталкивали ввысь повозки с зарядными ящиками, и он, молодой офицер, размахивал шашкой, командовал «Залп!», бил в упор по турецкой пехоте, а потом в Тифлисе получал «золотое оружие». Так и запомнил деда – бессильного бородатого старца у настольной лампы и лихого поручика с молодыми усами среди зеленых вершин.
И конечно же рассказы отца. Из которых он, его сын, узнавал о горящем пшеничном поле, об отступающей роте, и отец на минуту присел, перематывал обмотку, и в колосьях смотрела на него умирающими глазами корова. И то снежное поле за Волгой, такое огромное, что чувствовалась кривизна земли, и отец бежит по полю в атаку, и из танка, проминающего гусеницами наст, брызжет несгоревшее топливо. И то шоссе под Бреслау, где отец катил в транспортере и фаустпатрон прожег бортовую броню. Оглушенный и раненный, отец покинул машину, бросился прочь из огня и снова вернулся, нырнул в раскаленный люк, извлек планшет с командирскими картами. Почему-то вот это запомнил: горящий на шоссе транспортер, и отец в прожженной одежде, с разбитым до крови лицом ныряет за картами в люк.
Нет, он не мог объяснить, почему он стал офицером. Да это и не имело значения. Он им стал, он им был. За пределами этого не было у него ничего. Одна на всю жизнь забота оборачивалась то ледяными топями тундры, сквозь которую он вел свой взвод, страшился, чтоб машина не рухнула в бездонную прорву. То красными гребнями барханов, над которыми тусклыми молниями неслись самолеты, поднимались мутные разрывы песка, и рота, огибая позицию истребителей танков, устремлялась в прорыв. А теперь все та же забота привела его в ущелье Саланг, в черный сквозящий туннель.
«Спать! – заставлял он себя. – Постараться заснуть… Завтра снова прохождение колонн… Евдокимов, кажется, с Вятки… Коновалову нужно в медпункт… Вот если б по Тверскому к Никитским… На связь с «четыреста третьим…»
…Он отметил и запомнил момент, совпавший с другими – с первой, детской влюбленностью, с осознанным наслаждением от прочитанного стихотворения «Парус», с первым детским прозрением: «Я – есть! Я – живу на земле!» – отметил мгновение, когда вдруг стал различать синий цвет. Не просто синий, а лазурный оттенок синего. Глубинное, проступающее сквозь синь свечение. Внутреннее бездонное сияние, уводящее в бесцветную бесконечность.
Он увидел этот цвет впервые в утренней форточке, когда выздоравливал после тяжелой ангины. После нескольких дней и ночей бреда и жара. После кошмаров и красного дыма, валившего из угольной пропасти – из ночного, закутанного в красный платок светильника. Он проснулся слабый и немощный, почти лишенный плоти, но исцеленный. И в утренней форточке увидел лазурь. Дышащее, направленное на него сияние, в котором присутствовала чудесная весть, наполняло его счастьем.