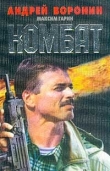Текст книги "Столкновение"
Автор книги: Александр Проханов
Соавторы: Анатолий Ромов,Валерий Толстов,Валентин Машкин,Андрей Черкизов,Виктор Черняк,Вячеслав Катамидзе
Жанры:
Политические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Получил разрешение. Провожаемый ротным, пошел к своему «бэтээру». Усталым, тяжелым броском взлетел на броню.
…Много лет спустя, когда давно уже кончилась юность, он отыскивал в том дне и часе мгновение выбора. Будто его свободная воля дрогнула, потеряла свободу и в нее вмешалась иная сила, повернула в свою сторону, указала ему другой путь, направила своим властным безымянным перстом.
Он бежал на лыжах по лесной дороге, легкий, счастливый и вольный, вонзая длинные красные копья в шуршащий накат. Нырял в голубые прохладные тени. Вылетал в сверканье и вспышки солнца.
Развилка дорог. Уходящая в сторону голубая лыжня. Сияющий мартовский дым, пролет лазурной сойки, смоляные красные шишки, продолжение легкого бега, похожего на счастливый полет.
И другая дорога – косая секущая просека, выхватившая из леса огромный ломоть. Стальные трескучие мачты, провисшая медь проводов. Просека, наполненная металлом, в железном тумане, уходила в мутную даль. Там что-то шевелилось, мерцало, ворочалось, перемалывало леса и снега.
Он стоял на распутье, не желая этой металлической дороги, а желая чистых снегов, снегирей на ветвях, голубой чересполосицы света. Стремился в снега. Туда направлял свой бег. Но неясная угрюмая сила поворачивала его, меняла движение, направляла под стальные шатры. И он сворачивал, двигался в железном тумане.
…Подъезжая к батарее, Глушков увидел у обочины, у откоса, белый бетонный столбик с нарисованной красной звездой. Прежде столбика не было. Его воздвигли недавно, день или два назад. На этом месте на прошлой неделе обстреляли наш бронетранспортер. Ехали, как сейчас, на броне, в солнечном свете. Хорошо, все обошлось. Развернули башню. Осыпали гору грохочущим треском и пламенем. Выстрелов больше не было. Молчала залитая солнцем гора. Зеленела и крутилась река. Курились дымки в кишлаке.
Майор вспомнил вчерашний разговор с замполитом, написавшим письмо в Москву матери Сенцова. Подумал: как мало он знал о солдате, как мало успел узнать. А ведь мог расспросить о московском житье, о каком-нибудь Строгине или Нагатине, где Сенцов жил с матерью в большом розоватом доме, и рядом «Универсам», как стеклянный колпак, толпа автобусов на конечном круге, белая, окружавшая лес новостройка.
Ему вдруг так захотелось перенестись из этого грозного, солнечного, молчаливо-застывшего ущелья, над которым что-то нависло, занесено из бледного неба, перенестись в Москву, в ее голошенье, в каменные теснины, в распахнутые бурлящие площади. Он выдирался из этого ущелья, из ремней, из жеваной несвежей одежды, из тесного «лифчика» с автоматными рожками, из круглого люка «бэтээра», устремлялся за горы, вдаль. Обрывая свой полет, падал обратно на горячую броню, в круглый люк, в грозное ущелье Саланг.
Они подъехали к батарее, к каменной кладке, накрытой маскировочной сеткой, под которой тускло поблескивали минометы. Артиллеристы в касках чуть виднелись сквозь сетчатый полог.
С командиром батареи капитаном Маслаковым они сидели на зеленом ящике, разглядывая карту. Кишлак напротив сочился дымками, в узких проулках появлялись мужчины, толпились у мечети, входили и выходили. Было видно, как раскланиваются они друг с другом, пропускают вперед стариков.
– Что там у них? – спросил комбат, вглядываясь в кишлак, распластавшийся на склоне. Открывались взору улочки, дворы, плоские крыши, крохотные сады и тропы, убегавшие ввысь на кручу. – Что у них там за митинг?
– Умер старик. Хоронят, – ответил Маслаков, и в этом сухом ответе комбат уловил легчайшую, скрытую антипатию Маслакова к нему, майору. И откликнулся тотчас своей.
Он не мог до конца понять природу укоренившейся между ними антипатии.
Маслаков был офицер, верой и правдой служивший своей батарее. Его стволы, его умелые, точные действия были высоко ценимы комбатом. Но в их отношениях, поверх уставных и служебных, в их темпераментах и характерах присутствовала напряженность. Не явная, но мешавшая делу, раздражавшая Глушкова. Быть может, он был сам виноват. Неосторожным словом, непроверенной, неточной эмоцией однажды задел капитана, ранил его самолюбие. Спохватился, попытался исправить оплошность. Не сумел, вызвал к себе неприязнь. Уязвился, ответил своей неприязнью. Тут же раскаялся. Но уже было поздно. Две их личности, связанные субординацией и уставом, сторонились друг друга, не хотели друг друга знать.
– Вот они, эти цели, эти кромки! Душманы опять здесь сидят. Им негде больше сидеть. Здесь они, здесь! – Комбат стучал пальцем в карту, убеждая себя. – Но мы подождем работать. У нас нервы крепкие. Пускай себя обнаружат.
– Пускай, – согласился капитан. – Если сейчас ударить, они отойдут с позиций, а когда колонна приблизится, вернутся и станут жечь. Пусть уж лучше вцепятся в «нитку», а мы их накроем.
– Вот видите, Маслаков, – сказал комбат. – Как мы отлично понимаем друг друга в работе. А в личном плане не можем понять. Все что-то не клеится.
– Нам не нужен личный план. Обойдемся работой, – ответил капитан, воздвигая между собой и майором преграду, не пуская к себе.
– Вот с замполитом вы близкие люди, – продолжал свои попытки майор. – Коновалов мне передавал, у вас дома несчастье. Дом у матери сгорел. Это правда?
– Да, – сказал капитан, как бы забывая о своей неприязни. – Сгорел в поселке. Одна живет старая. Что-нибудь забыла, напутала. Может, плитку не выключила. И сгорел. Не весь, конечно. К брату теперь переехала. Брат пишет: приезжай, будем матери дом чинить.
Казалось, это была возможность сближения. У каждого был на родине дом. Оба стремились домой.
– Желаю вам вернуться и с братом починить дом, – сказал комбат.
– Ну это уж наше семейное дело, – сухо ответил капитан, как бы отодвинулся от майора, и тот, уязвленный, испытал к Маслакову антипатию.
– Ладно, – сказал майор. – Эта «нитка» как будто прошла. Опять они ее пропустили. Топливо почему пропускают? Что ждет Гафур-хан? Он ведь любит большой огонь!.. Наблюдатель! – позвал он солдата, прижавшего к глазам окуляры. – Дай-ка бинокль!
Осматривал соседние сухие вершины, горячие, как головни, осыпанные серым пеплом. Увеличивал, приближал камни, промоины, трещины. Стремился углядеть мгновенный отсвет металла. Медленно вел бинокль, опуская его к кишлаку.
Мечеть – коричневая, низкая мазанка, как все дома в кишлаке. Только над кровлей – белый, вырезанный из жести серпик. Старики в длиннополых нарядах, пышнобородые, медлительные, столпились у входа. Над мечетью – склон голой горы. Накаленное солнцем кладбище. Метины старых могил. И кажется, люди вышли на свет из горы, населили ненадолго кишлак, чтобы тут прожить свои жизни, состариться и снова исчезнуть в горе.
Майор видел, как расступилась перед мечетью толпа, вынесли плоское деревянное ложе, на котором лежало тело. Белый спеленутый кокон среди розовых и зеленых подушек. Четверо несли на плечах кушетку, держась за резные ножки. Поднялись на крышу мечети и медленно ходили кругами. Долгополые одежды, чалмы. Солнце. Покойник на ложе.
А здесь, на батарее, вороненые стволы минометов. Артиллерист раскрывает ящик с боекомплектом. Зеленеет корма «бэтээра», и солдаты курят, жуют галеты. Свистит и курлычет рация, ловит позывные и коды. Командир батареи покрикивает, кому-то делает выговор. По трассе, бросая жирную копоть, прошел транспортер.
А там, на крыше мечети, медлительный хоровод. Белый кокон на лазоревых тканях.
Майор чувствовал две реальности, друг с другом не связанные. Был одновременно и в той, и в другой. Нес в себе эту двойственность. Но она, эта двойственность, была преодолима. Существовало какое-то знание, какой-то взгляд с высоты. Не с горы, не с вертолета, не с хребтов Гиндукуша, а свыше, из какого-то бесконечно удаленного центра, где сходились обе реальности. Сливались в нераздельное целое.
Покойника опустили с крыши. Он замелькал в проулках, словно его продевали, продергивали сквозь кишлак. Вынесли за селение и быстро, почти бегом, повторяя изгибы тропы, стали возносить на гору, к кладбищу. Вьющийся, стремительный людской ручей, льющийся вверх, на гору. Малая разноцветная капля – ложе, покрытое тканями. Поставили кушетку у края могилы. Мулла в пышной чалме, должно быть, еще задыхаясь, с колотящимся под одеждами старым сердцем, огладил ладонями бороду. Начал читать молитву. И все сидели, внимали. Лежал на кушетке покойник. Светило солнце. Разносились над горой стихи Корана. И майор, глядя в десятикратный артиллерийский бинокль, подумал: где-то очень далеко от этой горы в этот час, в этот миг хоронят русского старика. Березы. Черные вороньи гнезда. Мокрая земля на лопатах. Заплаканная перед раскрытой могилой родня.
Два старика. Две разные земли. Две реальности. Но эта двойственность мнимая. Есть взгляд, есть та высота, то огромное высокое знание, где сливаются обе реальности. Есть единство всего.
Глушков смотрел в голубоватые стекла на беззвучные, удаленные похороны. На горе мелькали лопаты, летела легкая пыль. Засы́пали могилу. Положили на нее плоские камни. Тепло нагретой могилы проникало в холодное тело. Тело, коснувшись камней, само становилось камнем. Закопали и стали спускаться, быстро, ловко ставя на тропу устойчивые легкие ноги. Несли опустевшее ложе. Трое остались на кладбище. Продолжали строить надгробие. Обкладывали плоскими плитами. Один, побродив по склону, срезал лопатой шар чертополоха. Перенес на могилу, посадил в головах. Покойник перестал быть человеческим телом. Стал землей, горой, чертополохом.
Майор смотрел на солнечную кручу. Это ущелье с бетонкой. Мусульманское погребение старца. Радист на связи, повторяет: «Роща»! «Роща»! Я – «Оригинал»! Звяканье затворов. Где-то рядом, на этих горах, сидят в засаде душманы. Наверное, видят и этот кишлак, погребение, минометную батарею, и его, майора с биноклем. И где-то есть Москва и тот высокий дом, где жила его милая.
Мир двоился, расщеплялся на явления, образы. И только с высоты то ли мудрости, то ли прозрения открывается единство всего. Единство неразделенного мира.
В кишлаке толпился народ. Несли в мечеть тарелки и блюда с рисом. Передавали друг другу. Мужчины скрывались в дверях и, невидимые, усаживались там на коврах перед горками горячего риса. Женщины в чадрах стояли на солнцепеке и ждали. И одна, большая, без чадры, в малиновом платье, с выпуклым животом, прошла тяжело, и следом пробежали дети, играли, скакали на палочке.
Майор чувствовал себя окруженным жизнью кишлаков и постов. Молениями и командами. Был здесь, на Саланге. Принадлежал ему нераздельно. Посвящал ему, готовому стрелять и сражаться, все главное, из чего состоял, – свой ум, энергию, волю. Но где-то, за пределами внешней яростной жизни, как иное, подспудное, брезжило ожидание другой для себя судьбы, другого для себя проявления. И быть может, когда-нибудь, когда отзвучат стихи из Корана, позывные и звяки оружия, в какой-нибудь ночи и тиши оно наконец обнаружится.
Глушков не услышал, а почувствовал, как что-то изменилось вокруг. Будто полетела по солнцу невидимая прозрачная тень. Пробежал минометчик в каске. Рация заработала громче. Сквозь клекот и свист вылетали слова информации.
– «Роща»! «Роща»! Я – «Оригинал»! Обстреляна колонна в районе… Имеются потери в колонне. Обстрел продолжается. Двумя «коробочками» выхожу на место обстрела!
И словно свалилась с плеч огромная тяжесть. Эти горы, эти кручи и солнце сбросили с себя маскировку. Открыли свою истинную, им присущую суть. И он, комбат, знал теперь, что ему делать.
Подбегал командир батареи, не прямо, а сложным зигзагом, огибая позиции, что-то выкрикивая. И там, где он пробегал, артиллеристы отбрасывали пятнистую сеть, открывали стволы, каменную полукруглую кладку. Наклонялись гибкими телами. Извлекали из ящиков мины. Подносили к стволам. Припадали к прицелам.
– Ну, началось! – Маслаков подбежал с лицом ожесточенным и радостным. Ожесточенным – перед боем. Радостным – оттого, что кончилось изнурительное ожидание. – Прикажите работать по целям!
– Приказываю! Огонь!
– Огонь!
И рявкнули, дохнули короткими железными вспышками минометы. Лопнул во многих местах плотный солнечный воздух. И вдали, на горе, ударило пылью. Закудрявились, стали разрастаться, оплывать вдоль склонов тучи разрывов. И снова рвануло, унеслось, и вдали, на скалах, дернулось тусклым пламенем.
– Будем работать! – сказал комбат, чувствуя, как исчезла усталость, как стало легче, заостренней его тело. Прыгнул на борт, едва коснувшись скобы, помещая себя в круг командирского люка. – К «Роще»! Кудинов, вперед! Начинаем работать!
Летели в тугом накаленном ветре, завывающем в стволах автоматов.
…Все, что сохранилось в нем от детства и юности, не забылось, не осыпалось, а мерцало в душе крупицами позолоты, драгоценным чувством родной культуры, – все было связано с матерью, исходило от нее, было ею.
И та ее сказка во время его болезни, сказка, много раз повторяемая, всегда на новый лад, с новыми подробностями, о каком-то купце-путешественнике в волшебном царстве, заколдованном городе. Этот город был почему-то восточным, то ли Багдад, то ли Мекка, с витыми разноцветными главами, изразцами мечетей, со стражниками в белых тюрбанах, с караванами слонов и верблюдов, проносивших по горячим дорогам тюки с шелками и пряностями. И ему казалось потом, что он попадет в этот город, увидит минареты и башни, посидит на восточных коврах, побеседует с мудрецом в чалме, услышит стих из Корана.
Или первый, да, пожалуй, и единственный выход в Большой театр. И опять-таки с матерью, на «Пиковую даму». Осталось ощущение слепящего золота и хрусталя во время антрактов и сумрачной, дующей невскими сквозняками сцены, где дамы в буклях и кринолинах, офицеры в париках и ботфортах. И все хотелось оглянуться на мать, на ее близкое восхищенное лицо. Где-то по сей день хранится программка, смятая ее тонкими пальцами.
Или их совместное путешествие во Псков. Мать, уже больная, уже страдающая от злого недуга, повезла его во время каникул в свой любимый город, чтобы он «на всю жизнь надышался Русью». Они стояли над синей рекой с белыми церквами и звонницами. Запах старого камня в бойницах, проблеск близкой воды. Воркующий голубь в оконном проеме над бледно-розовой фреской. Зеленые влажные горы, на которых среди облаков и озер белеют, как лебеди, храмы, летят над лесами и долами. И такое счастливое узнавание, приятие этой родной красоты. И впрямь надышался ею на всю остальную жизнь. Спасался ею в темные, глухие часы.
Уже позднее, без матери, но и с ней, по ее наущению, пошел послушать крестьянский хор, из северной поморской деревни. Голубоглазые, остроносые старухи в платках, в малиновых сарафанах и кофтах. Стоят стеной, рука к руке, истовые, тонкоголосые. Поют, как будто гудит, накаляется воздух, и в этом воздухе исчезают и плавятся все временные, случайные формы и рождается белое, безымянное, огненное. И он, слушающий хор, вдруг теряет свое имя, телесность и на высших, сливающихся в огненный вихрь, в бушующий поднебесный пожар словах про «ворона коня», про «булатну саблю», про «мать сыру землю» испытывает длящуюся бесконечно секунду, прозрение в свете, в любви.
…Глушков чувствовал приближение боя. Приближение тех сдвоенных гор, к которым стремилась дорога. Чувствовал не зрением, следившим за мельканием круч, не слухом, ловившим аханье минометных ударов – будто шлепал плашмя по горам невидимый кровельный лист. Но чувствовал грудью, расширенным сильным дыханием, окрепшим наполненным сердцем. Словно из груди бил вперед резкий, яркий прожектор. Освещал откосы и трассу, прокладывая путь транспортеру.
И когда раздвинулись горы, затемнел впереди хвост застывшей колонны, когда раздались прямые, неослабленные звуки стрельбы, твердые пулеметные очереди, частые автоматные россыпи, кашляющие, харкающие залпы спаренной зенитной установки, когда эти звуки толкнули его, и пахнуло бензиновой вонью, замелькали цистерны КамАЗов, пустые кабины, и водители, упав за скаты, из-под колес пускали ввысь трескучие бледные трассы, – тогда он, комбат, прокрутил в глазницах глаза – по кручам, по небу, по бетонке, понимая единой горячей мыслью это первое яростное мгновение боя.
Впереди, запружив дорогу, горел «наливник». Переломившись, свернув кабину, горел желтыми космами. Проливал, выплескивал на дорогу жидкое пламя, и это пламя расплывалось, окружало черную, набухающую в огне машину.
Из пробитой цистерны хлестала солярка, под разными углами, с разной кривизной, желто-прозрачные хлещущие струи. И в этих струях, в дыму метался водитель, беспомощный, страшась загоревшейся, готовой взорваться машины, не в силах ее покинуть, не в силах обогнуть мешавший головной «наливник».
Пулеметы душманов, сделав главное дело, остановив колонну, били с двух ближних гор по разным сторонам трассы. Зенитная установка на открытой платформе вертелась, дергалась трепещущими, рваными факелами, сыпала, сорила гильзами. Артиллеристы молотили по кромкам гор, пытаясь засечь и нащупать пулеметные гнезда. Закупорить их, вколотить в скалы раскаленные гвозди снарядов.
Все это увидел и понял комбат. Увидел лежащего на земле у тяжелого ребристого колеса капитана, старшего колонны. Того, белесого, с кем недавно обменялся приветствиями, старого знакомца, чье имя так и не успел узнать. Капитан лежал навзничь, голый по пояс. Два солдата бинтовали ему грудь белым широким крестом с расплывавшимся красным пятном. Лицо капитана было бледным. Открытый рот часто дышал. Выпученные голубые глаза были влажные. Пшеничные усы казались темными на этом бескровном лице. Все это увидел комбат, различая одновременно на дальнем склоне среди солнечных лучей и теней, среди поднятой минометами пыли чуть заметную вспышку – пламя душманского пулемета.
С брони перепрыгнул на платформу, где стреляла установка. Поскользнулся на гильзе. Ворвался в крутящийся вихрь стали, дыма, брызжущей меди, яростных, кричащих лиц.
– Работай по сопке справа! Твой сектор! Левая моя! Режь ее по первой трети от вершины! Там пулемет! – крикнул он под каску в ухо распаленному солдату. Снова длинным прыжком возвратился на «бэтээр», который уже двинулся, уже нес его на себе, и башня с дырчатым пулеметным кожухом поворачивалась к горе. Ствол задирался вверх до упора, и первая долбящая, сотрясающая броню очередь ушла к вершине, и заложило уши, даже сквозь танковый шлем.
– Пулеметчик! Кудинов! Работай короткими! Оглядись!.. Водитель! Нерода! Давай аккуратней вперед! На огонь давай продвигайся!.. Только тихо, в лужи не лезь! Чтоб нам не испечься!
Душманы на горах, подбив головную машину, задержав колонну, теперь подбирались к другим неподвижным КамАЗам. Две очереди прошли по бетонке, оставили мучнистые белые метины рядом с машиной, рядом с лежащим солдатом. Плеть удара пришлась рядом с ним, и солдат отшатнулся, ощутив хлестнувшую, промахнувшуюся смерть.
Словно лязгнула стальная скоба, защелкнула замок – так почувствовал комбат свое включение в бой, замыкая на себя бьющие с горы пулеметы, энергию и волю врага. На свою волю и страсть, на броню «бэтээра», на огненный стук пулемета, отвлекавшего от столпившихся беззащитных машин разящие трассы. Одна из них, пущенная по его транспортеру, прострелила, пробуравила воздух над самой его головой, канула в бурлящую реку.
Майор падал в люк, где в сумерках у бойниц сидели солдаты. Снова подымался на свет, в блеск, дым боя. Корректировал минометные залпы, приближая плотные тампоны разрывов к редким, едва заметным отсветам стрелявшего с горы пулемета. Наваливал взрывы на невидимый, у вершины, окоп, где лежали враги. Прижимал их свистом осколков, не давал подняться, приближал удары к их потным, горячим лицам.
– «Сто шестнадцатый»! Так работай!.. Маслаков, еще раз добавь! Из всех труб!
«Наливник» горел все сильнее. Цистерна, охваченная пламенем, напоминала огромный рыжий цветок. Лепестки огня и черная сердцевина цистерны. В этой сердцевине накалялось топливо. Расширялось, испарялось, вылетало сквозь пробоины кипящими струями газа. Вот-вот разорвет обшивку, шарахнет взрывом. «Наливник», готовый взорваться, был погибелью всей колонны. Накаляя пространство, отпугивал, выжигал все живое. Был готов поджечь другие машины, сдетонировать вдоль колонны череду взрывов. Его, этот головной «наливник», не выпускал из виду комбат. Двигал по обочине транспортер, обрабатывал склон пулеметом.
Был страх. Была забота. Была стремительная, на пределе сил и умения работа. Было яростное знание об этом бое, о себе, сотворенном для этого боя, умеющем вести этот бой.
Он двигался вдоль подножия, вонзая в вершину очереди. Получал ответные. Схватывался с противником в клубок огня, стремясь достать его там, в расщелине, где кошма, патронные ящики, накаленный стрельбой пулемет и в дергающемся черном зрачке сквозь прицел движется его транспортер.
Он услышал приближение Клименко. Сначала по рации, по клекоту позывных, по голосу ротного, окликающего из-за гор своего командира. Потом по рокоту двигателей, по новым долбящим звукам, вонзившимся в солнечный воздух. Два транспортера возникли, стремительно огибая колонну, попеременно, на две стороны работая пулеметами. И майор, выглядывая из люка, кивал, одобрял, поощрял. Умно, точно врезался в бой ротный, вцепился пулеметами в вершины гор. Нашел безошибочно место среди застывших КамАЗов, строчивших из-под колес водителей, двух стреляющих гор.
– Клименко, прикрой мою сторону! Иду к голове! – только и сказал он ротному, понимающему его с полуслова сквозь хлюп и шипение эфира. – Нерода, ступай потихоньку! За дымом, за дымом держись! Скрывайся в дыму! – не приказывал, а просил он водителя, проводящего транспортер к черному шлейфу копоти, прячась от пулеметов в жирную душную тьму. – Кудинов, по вспышке работай! Возьми под обрез!.. Подлинней бери, подлинней! – корректировал он стрельбу пулеметчика. – Ну, Светлов, а сейчас твое дело!
Транспортер окутывался зловонием и копотью. Пробирался сквозь космы дыма. Приближался к пожару, к треску, шипенью и хлюпанью. Головной «наливник» свистел, как огромный примус. Комбат, тесня транспортер к обочине, приближался, чувствуя напряжение цистерн, натяжение всех швов и обшивок, удерживающих энергию взрыва.
– Приступай, Светлов!
Солдат снял подсумок. Отложил автомат. Ловко, цепко, молодым скоком выпрыгнул на броню. Осветился весь. Тонкий, гибкий, стоял, покачиваясь, словно пожар давил на него своим свистом, плотным светом. Двое других вытянули бурдюк с водой. Лили на него, на плечи, на каску, бронежилет, а он, не замечая этой проливавшейся озаренной воды, смотрел на огонь.
– Вперед!
И метнулся на пламя, поднырнул под него, оказался в кабине. Метался там, среди рычагов, нащупывая управление, боролся, отбивался от жалящих языков. Сработал ключами. Двигатель, накаленный, будто ждал этого прикосновения. Заработал. И КамАЗ, длинный, как горящий сарай, волоча по бетону ошметки сгоревших скатов, нагибая косое ветряное пламя, пошел, открывая дорогу, уходя с проклятого места, из-под убивавших его пулеметов. И рядом с ним, по обочине, обжигая борта, шел и стрелял «бэтээр». Заслонял КамАЗ, и майор все смотрел на близкую, темневшую в кабине голову, на плечи, выступавшие из огня.
– Хорошо, Светлов!.. К черту, прыгай!
Тот не слышал, рулил. Второй КамАЗ, рассеивая плоский слоистый дым, тронулся следом. И вся колонна, почуяв пространство, откупоренный на трассе прогал, качнулась, пошла.
Светлов, отогнав «наливник», вылетел из кабины. Отделился от пламени, сбрасывая с себя красные крылья. Бросился к транспортеру, и майор сверху сильным взмахом ухватил его, втянул на броню, почувствовав его гибкую легкость. Прижал к себе, охлопывая, обнимая, и солдаты лили из бурдюка, и Светлов весь дымился, клубился черной прилипшей одеждой.
Сторонясь горящих цистерн, растягиваясь в интервалы, колонна шла мимо. Водители крутили баранки. Мелькали на противосолнечных щитках зайчики света. Горел «наливник». Светлов, мокрый, с острыми плечами, отплевывался шматками горькой гари. И комбат, глядя на пожар, на идущую колонну, на худые плечи солдата, вдруг испытал к нему такую благодарность и боль, такой запоздалый страх за него – обнял, поцеловал в худую закопченную щеку.
– Спасибо, Светлов, милый!
Колонна скрывалась. Замыкая движение, отстреливалась, крутилась на платформе двухствольная установка. Клименко провожал колонну на одном «бэтээре». Другой продолжал работать по кручам, вертелся на месте боя. Душманы уже не стреляли. Вершины вздрагивали от минометных ударов. Из неба по-рыбьи, наклонясь, на мгновение замедляя скольжение, ныряли два вертолета, пуская в горы черные щупальца трасс.
На обочине у КамАЗа лежал забинтованный капитан, и солдаты, открыв кабину, примерялись, как лучше его занести на сиденье.
– Ну, капитан, как дела? – наклонился над ним Глушков, над его белым лицом, над красным сквозь бинт пятном. – Все в порядке, прорвались!
Солдаты наклонялись к капитану, собирались поднять.
– Все хотел тебя, майор, спросить. Сколько раз виделись, а как звать тебя, не узнал. Хоть сейчас давай познакомимся. Я Котеночкин Сергей Николаевич. Котеночкин я! – Солдаты поднимали его, причиняли боль, и он, страдая, борясь с обмороком, повторял: – Котеночкин я, Сергей Николаевич.
– А я Глушков. Давай, Котеночкин, поправляйся! Еще с тобой помурлыкаем! Мышей с тобой вместе половим!
Капитана занесли в кабину, уложили на сиденье. А он все бормотал, повторял свое имя. Словно стремился задержать себя на земле, утвердить себя: «Котеночкин я, Сергей Николаевич!..»
Подкатил второй «бэтээр». Из люка тяжело, вытягивая за собой автомат, вылез полковник – тот проверяющий, что недавно отчитывал за огрехи комбата. Его лицо, немолодое, полное, не успевшее загореть, было в румянце, глаза блестели, рот, подбородок, скулы проступили резче. Словно под прежним лицом, утомленным и вялым, открылось другое. Его форма, новая, невыгоревшая, была смята и скомкана ремнями «лифчика», испачкана кляксами копоти. Увидев Глушкова, он бодро кивнул, как знакомцу. Они и были знакомцы, участники единого боя. Выиграли его сообща.
Майор понимал его состояние. Еще недавно – Москва, бульвар и троллейбусы, уютный дом и семья. И вдруг – этот бой в ущелье, и он, полковник, прижимает к бойнице округлившийся глаз, бьет из автомата по круче.
– Поздравляю, товарищ полковник, с боевым крещением! – усмехнулся комбат. – Теперь вы, как говорится, сами увидели нашу обстановку. Помогли нам в работе. Много дел на трассе, до всего не доходят руки. Не всегда свежие кинофильмы завезти удается.
– А вот это и есть просчет. Это вам в минус, майор! – сухо и строго, меняя выражение лица, сказал полковник. – Руки должны доходить!
– Будем стараться, чтобы руки доходили, товарищ полковник, – согласился комбат.
Кругом было солнечно, тихо. В стороне красной копной горел «наливник». Ухала по горам артиллерия. Летел в вышине вертолет. Этот участок дороги был больше не страшен. В каменных лежках, накрытые взрывами, убитые, лежали душманы, валялись искореженные пулеметы. Здесь больше не будут стрелять. Теперь не здесь, в другом месте.
Солдаты с брони смотрели на своего командира. На Светлове высыхала одежда. Комбат козырнул полковнику, пустил вперед «бэтээр», навстречу новой, спускавшейся от туннеля колонне.
…В те годы была не любовь. Были посланцы любви. Мчались далеко впереди, извещая, что за ними неизбежно грядет ее явление.
Он сидит у окна, смотрит, как у кирпичной стены соседнего дома девочка – забыл навсегда ее имя – играет в мяч. Ударяет о стену. Перепрыгивает. Успевает обернуться, поймать. Раз, другой, третий. Кирпичная стена. Скачущий красный мяч. Какие-то старушки на лавке. Пузырящееся на веревке белье. И в прыжках, в ударах мяча, в обернувшемся розовом, с темной кожей лице что-то мгновенно меняется. Ошеломляет его. Издалека, из окна, ошеломленный, он чувствует, как она, почти ему незнакомая, становится дорогой и желанной. Стремление кинуться к ней, быть с нею рядом, ловить вместе с ней мяч, чувствовать ветер от ее прыжков, от ее школьного платья, от темной с белым бантом косы. Длилось мгновение и кончилось. Обычный кирпичный дом. Пузырится на веревках белье. Соседская девочка играет в мяч.
В пионерском лагере, в его отряде – девочка. Некрасивая, рыжая, веснушчатая, с большим носом, угловатая, с неверными, негибкими движениями. Над ней насмехаются, неохотно берут в свои игры. Он и сам испытывает к ней почти неприязнь, желание уязвить, увидеть, как насупится, еще больше подурнеет ее лицо. Он сидит за столом под высокими соснами. Пьют чай из кружек, заедают ватрушками. Она сидит напротив. Подносит к губам кружку. И вдруг – поворот головы, налетевший солнечный луч, шум сосны. Что-то случилось. Словно на ее лицо пришел свет, прогнал тень, снял маску. И вся она в свете, прекрасная, дорогая, – ее золотистые волосы, розовая нежная кожа, дышащие близкие губы, чу́дные голубые глаза. Он не может на нее наглядеться. Она ненаглядная. Он хочет ее защитить, заслонить, служить ей. Она для него драгоценная. Солнце ушло за облако. Сосны прошумели и смолкли. Перед ним – некрасивая девочка. Вяло жует ватрушку, прихлебывает из кружки чай.
На Урале, куда отправили его к тетке на лето, сосед взял его на дальний покос. Ехали на телеге по тайге, наклонялись под хлещущими еловыми ветками, колеса плюхались в густые, жирные лужи. Приехали наконец на поляну, где стояли сырые копешки, дымился костер, косцы в опорках, в рубахах навыпуск шумели косами. Лошадь у балагана отбивалась хвостом от слепней. Из балагана вышла женщина, невысокая, в белом платье, с босыми ногами. Он не помнил ее лица. Только помнил, как замер, остановленный сильной, плотной волной, набежавшей на него от ее гибкого в поясе тела, голой шеи, голых, чуть расставленных ног. Словно пространство, разделявшее их, зарябилось, пробежала пульсирующая тугая сила, повторявшая многократно эту женщину. Приближала к нему, припечатывала, оттискивала на нем ее образ. Понесла обратно его отражение на той же бестелесной волне к ее груди, к ее круглым, видневшимся из-под платья коленям. Это длилось секунду. Подходили к балагану косцы. Среди них ее муж, высокий, горячий и сильный, улыбался красивым лицом.
Нет, то была не любовь. То были ее гонцы. Любовь пришла позже. Налетела стремительно, ярко. Остановилась в нем огромно и неподвижно. И он обнял ее своей любовью, ее, любимую, и землю, и воды, и небо, и прошлое, и будущее. Стал необъятным. Стал любящим.
…Он следил за рекой, за ее стремительной зеленью, за курчавой, шипящей пеной, окружавшей мокрые камни, за брызгами радуги, красновато-синими проблесками. Река, бегущая рядом, была студеной и чистой, с незримым пролетом форелей. И хотелось раздеться, лечь в ее длинные струи, охладить себя, смыть горячий нагар. Лежать недвижно среди плесков, стать рекой.