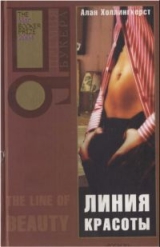
Текст книги "Линия красоты"
Автор книги: Алан Холлингхёрст
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Пресса образовала полукруг вокруг центральной точки – его шляпы. Его называли «сэром», «Джеральдом», «мистером Федденом» и «министром».
– Вы подаете на развод?
– Сюда, пожалуйста, Джеральд!
– Мистер Федден, признаете ли вы свою вину?
– Где ваша дочь?
– Министр, вы подаете в отставку?
Ник видел, что они бросают ему издевательские вопросы с наслаждением, упиваясь своей кратковременной властью: это было мерзко и страшно. Сам он, наверное, такого бы не выдержал. Джеральд шел к своему «Рейнджроверу» медленно, почти печатая шаг, преисполненный упрямой решимости сохранять достоинство до конца: наконец он сел в машину и, с репортерами на хвосте, уехал в Палату общин подавать заявление об отставке.
Ник отпустил занавеску и, обойдя сдвинутые гостевые кровати, двинулся в гостиную, где было посветлее. Из спальни навстречу ему вышла Рэйчел.
– Очень жаль, что и ты оказался втянут в эту нелепую историю, – сказала она таким тоном, что Нику стало ясно: соболезнования сейчас неуместны.
На ней был черно-красный шерстяной костюм, ожерелье, четыре или пять колец на руках: с минуты на минуту должен был приехать фотограф. Ник взглянул через ее плечо в пустынную белую комнату. Дверь вела в крошечный предбанник, из которого можно было выйти в ванную или в спальню; вторая дверь, всегда скрывавшая супружескою жизнь Джеральда и Рэйчел от посторонних глаз, сейчас была приоткрыта. Ник разглядел изножье кровати и круглый стол с фотографиями детей в серебряных рамках. Он был там лишь раз, в самое первое свое лето: тогда он вошел бесшумно, сцепив руки за спиной, чтобы ничего не испачкать и не сломать, чувствуя себя непрошеным гостем в храме супружеской любви – и потом не раз воображал в завистливых фантазиях, что, словно захватчик, занимается сексом на этой запретной территории.
– Что за времена настали, – проговорила Рэйчел все тем же тоном, словно обращалась к малознакомому и не слишком приятному человеку, с которым свела ее беда.
Ник вслушивался в ее голос, стараясь различить легкую, добродушную иронию, прежде неизменно окрашивавшую ее слова, – и не различал. Может быть, она поняла, что он все это время знал о Джеральде и Пенни, и сухость в ее голосе – от горечи стыда?
– Да… – проговорил Ник и растерянно умолк.
Ему было жаль ее, жаль до боли, но как выразить свою жалость, он не знал – поэтому молчал, готовый броситься на помощь, как только она его позовет.
Рэйчел взглянула на него, шевельнула губами, словно хотела что-то сказать, но не сказала ни слова. Рассеянно скользнула глазами по портрету Кэтрин работы Нормана Кента (Нику показалось странным, что она не задержала на нем взгляд).
– Я хочу, чтобы ты нашел Кэтрин и привез сюда, – сказала она и, повернувшись к нему спиной, начала спускаться по лестнице.
– А-а… – сказал Ник с нервным смешком, о котором тут же пожалел, и пошел за ней.
– Она должна быть здесь, с семьей, – не оборачиваясь, сказала Рэйчел. – Ей нужна наша забота. Не могу описать, как я за нее беспокоюсь, пока она с этим человеком.
– Разумеется, – поддакнул Ник и повторил тоном ниже, каким, по его представлениям, следовало утешать женщину вдвое старше себя: – Разумеется. Я уверен, она в безопасности, но, если хотите, я немедленно поеду и привезу ее.
Он страшно боялся репортеров и фотографов, не понимал, как вести себя с ними – да и со всеми, кто не проявлял сочувствия и понимания. И больше всего боялся Рассела, который сейчас «присматривал за Кэт» у себя в Брикстоне и никому не позволял с ней видеться.
Рэйчел остановилась на площадке первого этажа:
– Я не могу никуда выходить. Репортеры тут же за мной увяжутся.
Ника не оставляло чувство, что, спустившись на первый этаж, она уже подвергается опасности. Мир за дверью внезапно оказался не только чужим, но и враждебным, а маленький мирок меж четырех стен лишился главного своего достоинства – уюта. Рэйчел повернулась. На каменно-неподвижном лице ее дрожали только губы. Ник подумал, что она сейчас заплачет, и втайне обрадовался: плач – самое естественное, что тут можно сделать, это знак доверия; если она заплачет, он сможет в первый раз в жизни ее обнять. Он уже чувствовал, как утыкается подбородком в плечо ее шерстяного пиджака, как ее черные с сединой волосы щекочут ему губы, она прижмется к нему, дрожа от облегчения, а потом он отведет ее в кабинет, они сядут и обсудят, что же делать с Джеральдом.
– Нет, конечно… – сказал он. – Я понимаю…
Рэйчел быстро заморгала, но не заплакала, и сказала вдруг совсем не то, чего он ждал:
– Убежище Джеральда ты сумел найти, значит, и ее без труда разыщешь.
Сначала Ник не понял, о чем она – таким неожиданным был для него этот упрек, первый упрек от Рэйчел за все эти годы. Он опустил голову, и перед глазами у него оказался начищенный паркет, ножки стола, полированный порог кабинета. Ему было стыдно, – как никогда в жизни, – а Рэйчел продолжала:
– Знаешь, мы на тебя полагались. Думали, ты способен за ней присмотреть.
– Да, конечно… – жалко пробормотал Ник; он никак не мог собраться с мыслями. – Я старался… вы же знаете… – Рэйчел молчала. – Но, понимаете, она же взрослый человек, у нее своя жизнь!
И беспомощно пожал плечами, отчаянно надеясь, что сейчас этому странному и страшному недоразумению придет конец, что Рэйчел с ним согласится – не может не согласиться!
– Ты так думаешь? – Она коротко рассмеялась – странным жестким смехом, совсем не похожим на ее обычный смех.
Ник нащупал спиной полированные перила и заговорил, тщательно подбирая слова:
– Мне кажется, я всегда был для Кэтрин верным другом – настолько, насколько она мне позволяла. Вы знаете, она легко сходится с людьми и так же легко расходится, все друзья скоро ее разочаровывают. И мне кажется, если мне она до сих пор доверяет, значит, я чем-то заслужил ее доверие.
– Не сомневаюсь, она к тебе привязана, как и все мы, – ответила Рэйчел таким тоном, словно это не имело никакого значения. – Но, видишь ли, мы полагали, что ты будешь действовать так, как лучше для нее, а не… не потакать ей во всем, что она задумает. Она очень серьезно больна.
– Да, конечно, – пробормотал Ник, чувствуя, что лицо у него застыло, как маска.
Рэйчел молчала, стараясь совладать со своими чувствами: украдкой взглянув на нее, Ник заметил, что она снова часто моргает и набирает воздуху в грудь – однако дело ограничилось глубоким, тяжелым вздохом.
– Вчера ночью… – сказал Ник. – Я оставил ее с Джеральдом. Думал, это вполне безопасно.
– «Безопасно», – повторила она, – ну да. Начнем с того, что ей вообще не следовало там появляться.
– Клянусь вам, я не знал, куда она меня везет…
– Она никуда тебя не везла. Если помнишь, это ты ее вез. На этой своей кошмарной машине.
– Я…
– Извини, – сказала она так, что Ник не понял, сожалеет ли она о сказанном или просто ставит точку в конце фразы. – Ты же знаешь, в каком она состоянии. Кто знает, что с ней может случиться, если у нее нет с собой либрия.
– Лития… – пробормотал Ник.
– Это вопрос ответственности, понимаешь? Мы всегда считали, что ты понимаешь свою ответственность перед ней – и перед нами, конечно.
– Да, да, разумеется! – растянув губы в жалкой улыбке, подтвердил Ник.
– Мы всегда считали, что ты, например, сразу сообщишь нам, если случится что-то серьезное. – По ее тону Ник все яснее понимал, что это не просто размолвка; что-то переменилось в их отношениях, и переменилось очень серьезно, так что едва ли возможно возвращение к старому. – Например, мы до сегодняшней ночи ничего не знали о том очень серьезном эпизоде, случившемся четыре года назад.
– Каком? – непонимающе спросил Ник. Больше всего его напугало слово «мы», означающее, что Джеральд солидарен с Рэйчел.
– Думаю, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. – В ее взгляде Ник читал отвращение, трудно выразимое словами. – Мы понятия не имели, что она пыталась… причинить себе вред, пока нас не было.
– Я не знаю, что вам рассказали. Но она ничего с собой не сделала. Просто попросила, чтобы я побыл с ней, я так и сделал, разумеется, и все прошло, уже через полчаса все прошло!
– Но ты ничего нам не сказал, – повторила бледная от гнева Рэйчел.
– Рэйчел, пожалуйста!.. Она не хотела вас расстраивать, не хотела портить вам праздник! – В памяти всплывали полузабытые отговорки и вместе с ними – мучительное ощущение собственной беспомощности и никчемности. – Мы погуляли вместе, хорошо поговорили… – Даже сейчас он слышал в собственном голосе блеющие нотки самодовольства.
– Да, она рассказала, как ты замечательно ее успокоил, – ответила Рэйчел. – Вчера ночью у Джеральда она такие дифирамбы тебе пела!
Ник смотрел в пол и на переплетение черно-золотых столбиков балюстрады. Внизу вдруг открылась дверь, послышался женский голос: «Пока, дорогой, увидимся!» – Дверь захлопнулась, и раздался дробный цокот каблучков.
Рэйчел не двигалась, и Ник на непослушных ногах сделал несколько шагов вниз по лестнице. Однако это была не Кэтрин. Перед ним стояла Айлин, «старая» секретарша Джеральда, в темном плаще и с черной сумкой в руках. Вид у нее был такой, словно она собиралась на вечеринку, но ошиблась адресом. Ник подумал: принарядилась для фотографов.
– Здравствуйте, Айлин, – сказал он.
– Я подумала, что мне стоит прийти, вдруг я смогу чем-нибудь помочь?
– Спасибо вам, – сказал Ник.
– Вы не беспокойтесь, я тут обо всем позабочусь!
– Отлично, отлично, – пробормотал Ник и вежливо улыбнулся.
Эту Айлин он видел всего несколько раз, но много о ней слышал: в семье постоянно подшучивали над ее безнадежной влюбленностью в Джеральда, и сам Джеральд иначе как со снисходительной усмешкой о ней не говорил. В то первое лето, память о котором теперь замарана и убита, эта Айлин казалась ему частью дома. А теперь, значит, она тут обо всем позаботится.
Она шагнула вперед и положила руку на тугой завиток перил.
– Я принесла «Стандард», – объявила она. Газету Айлин держала в другой руке, отведя ее за спину, словно прикрывая семью от новостей своим телом. – Боюсь, это вам не слишком понравится…
Она шагнула вперед, и Ник, словно марионетка на веревочках, начал спускаться ей навстречу. Он чувствовал, что должен принять на себя удар, направленный на Рэйчел. Айлин протянула ему газету: на первой полосе Ник увидел свое лицо, подумал: «Нет, на это я взгляну позже» – и поднял глаза к заголовку. Прочитал его раз, другой, ничего не понял и снова перевел взгляд на свою фотографию рядом с фотографией Уани. Для самой статьи почти не оставалось места. Заголовок гласил: «Сын пэра болен СПИДом!» – и Ник вдруг ощутил острую жалость к Бертрану. Ниже шел подзаголовок: «Гомосексуальная связь ведет в дом министра!» Что же это такое? Зачем они так пишут, что ничего нельзя понять? Вдруг показалось, что перила куда-то исчезли и пол рвется ему навстречу – должно быть, так бывает, когда падаешь в обморок; вот только Ник никуда не падал и сознание его оставалось ясным – блаженство забытья было ему не дано. Он нащупал перила и принялся читать статью, чувствуя, как с каждым словом все глубже вонзается в грудь и проворачивается там тяжелый острый кол.
(2)
– Черт возьми, Ник! – говорил на следующее утро Тоби.
Ник закусил губу:
– Знаю…
– Мне и в голову не приходило! Да и никому из нас… – Он отшвырнул на обеденный стол номер «Тудей» и откинулся на спинку кресла.
– Котенку – пришло, – ответил Ник, остро сознавая, что в последний раз использует свое право называть Кэтрин ласковым домашним прозвищем. – В прошлом году, во Франции, она обо всем догадалась.
Тоби бросил на него долгий тяжелый взгляд; Ник понял, что он вспоминает о том лете, о долгом дне у бассейна, о выпивке и совместной дреме на берегу.
– Уж мне-то мог бы сказать. Я думал, ты мне доверяешь! – Все верно: в тот день Тоби открыл Нику свой интимный секрет – и имел право ожидать взаимности. – Господи, двое моих лучших друзей!.. Я себя чувствую полным болваном!
– Дорогой, я с первого дня мечтал тебе рассказать… – Тоби только насупился в ответ. – Но Уани об этом и слышать не хотел. – Ник робко взглянул на старого друга. – Я знаю, люди очень обижаются, узнав, что от них что-то скрыли. Но это ведь не имеет никакого отношения к тому, нравится тебе человек или не нравится, доверяешь ему или нет. Раз есть секрет, его нельзя рассказывать. Не важно кому. Никому нельзя.
– Угу. А теперь это! – Тоби потянул к себе со стола выпуск «Сан». – «Гомосексуальные оргии в загородном доме парламентария»! – И гневно отшвырнул газету.
– Забавное же у них представление об оргиях, – проговорил Ник, надеясь хоть немного разрядить атмосферу.
– По-твоему, это забавно? – вскинулся Тоби и тут же обреченно покачал головой, словно говоря: «Подумать только – и я ему доверял!»
Он встал и отошел к дальнему концу стола. В гостиной царила сумрачная атмосфера тягучего и нескончаемого дня: сквозь щели в ставнях било солнце, и позолота настенных ламп отливала в его лучах красноватым светом. Тоби стоял, повернувшись спиной к портрету работы Ленбаха – своему прадедушке, кажется? – плотному буржуа в застегнутом на все пуговицы черном пиджаке. Ник, всегда зорко подмечавший семейное сходство, видел, что с годами Тоби становится все больше похож на своих предков. Сегодня на нем были темный костюм, синяя рубашка и красный галстук. Он собирался на деловую встречу и с Ником разговаривал тоже по-деловому и, казалось, разделял с прадедом уважение к очевидной важности бизнеса и презрительное изумление перед скандалами последней недели.
– Боже мой, Тоби, мне так жаль! – сказал Ник.
– Еще бы! – ответил Тоби и глубоко, даже с какой-то угрозой, вздохнул. Чтобы скрыть неловкость, он оперся о стол и вновь принялся листать газету. – Сначала это мошенничество с акциями, потом папа и Пенни, теперь вы с Уради, да еще и эта чертова болезнь…
– Ты же знал, что у Уани СПИД.
– М-да… – неуверенно протянул Тоби. Затем, одновременно решительно и рассеянно, принялся складывать газеты в стопку. – И в довершение всего сестренка совсем с катушек съехала!
– Да, она все это и устроила.
– Такое впечатление, что она ненавидит папу.
– Трудно сказать…
– И тебя тоже. Не понимаю, как она могла?..
Давний разговор у озера, серьезное «взрослое» объяснение…
– Нет, не думаю, что она нас ненавидит, – ответил Ник. – Просто целые сутки не принимала лития, вот ей и захотелось сказать правду. По большому счету она ведь только этого всегда и хотела – говорить правду. Нет, она не желала нам зла. И не ее вина, что ее правду услышали враги Джеральда.
– Как бы там ни было, это конец, – упрямо подытожил Тоби. Он очень старался сохранять хмурую неприступность, но Ник заметил, как уголки его рта задергались и на секунду поползли вниз.
– Да, наверное, это конец, – согласился Ник.
Он понимал: для Тоби сейчас неприятнее всего то, что его, как выяснилось, все вокруг обманывали – или не доверяли ему, что, в сущности, одно и то же. Было очень жаль его, и все же Ник с трудом подавлял странное и неуместное желание улыбнуться над его простодушием.
– В «Индепендент», надо сказать, снимки очень хороши, – заметил Тоби. – Они молодцы.
– Да, «Телеграф» по сравнению с ними совершенно не смотрится.
– «Мейл» немного получше, но тоже не то.
Тоби снова зашуршал страницами. Свирепый Аналитик излагал свое видение ситуации на целом развороте, особенно упирая на «личное знакомство с семейством Федденов». Фотографию Тоби, вальсирующего с Софи, Ник узнал: это был снимок, сделанный Расселом в Хоксвуде.
– Не знаю, чем все это кончится, – проговорил Тоби, не поднимая глаз на Ника.
– Да, – сказал Ник. – Надо подождать.
– Знаешь, не понимаю, как ты после всего можешь здесь оставаться. – При этих словах он поднял глаза, и светло-карий взгляд его, всегда готовый смягчиться или смущенно метнуться в сторону, теперь не смягчился.
– Да, конечно, разумеется… – пробормотал Ник с каким-то негодованием, словно и в мыслях не допускал здесь остаться и Тоби этим предположением его оскорбил.
Тоби выпрямился и застегнул пиджак, возвращаясь к деловому облику и деловому самочувствию.
– Извини, – сказал он, – мне надо еще к маме зайти.
Он вышел, а Ник остался сидеть, потрясенный гневом Тоби: этого он никак не ожидал и это оказалось всего страшнее. Наконец потянул к себе газету и стал рассматривать свои фотографии. На одной он был снят у дверей дома; на другой, четырехлетней давности, красовался перед объективом в галстуке и пиджаке дяди Арчи, очень молодой и явно очень пьяный. Просто удивительно, подумал он, что фотографию с госпожой премьер-министром не поместили. Но всего остального в статье было в избытке: секс, деньги, власть – все, что привлекает читателей. Все, что так привлекало Джеральда. Ник понимал, что жизнь его надломилась и никогда уже не будет такой, как прежде; он страдал, ужасался, и все же какая-то глубинная часть его существа, маленькая и жесткая, смотрела на всю эту кутерьму с холодным презрением. Он тяжело морщился от мысли, что навлек позор на своих родителей – но ведь сам он ничего нового не узнал. Долгий телефонный разговор с отцом и матерью был тем тяжелее, что они почти ничему не удивились. Ник разговаривал с ними нарочито легкомысленно и непочтительно, остро сознавая, что ранит их еще сильнее – ведь их чувства и инстинкты оставались на его стороне, в желании утешить, обезопасить, защитить. Они все это восприняли страшно серьезно, но едва не довели его до бешенства бесконечными причитаниями: они, мол, с самого начала что-то предчувствовали, сердцем чуяли, что что-то с ним не так, и давно уже понимали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но то, что для них – и для широкой публики – стало откровением, для Ника откровением не было. Он знал о Джеральде и Пенни, знал об Уани и о себе. Единственным кошмаром для него стала сама пресса. «Где воцаряется Алчность, оттуда изгоняется Стыдливость», – провозглашал Питер Краудер так, словно высказал эту мысль впервые в истории человечества. Все годы, что Ник прожил с Федденами одной семьей, все чувства, что он испытывал к ним и делил с ними, теперь были заключены в рамку из пошлых восклицаний и выставлены на позорище толпе.
Послышался звонок в дверь. Никто не спешил открывать, и Ник подошел к двери и выглянул в новенький глазок: за ним виднелась искаженная толстым выпуклым стеклом и от того еще более уродливая, чем обычно, физиономия Барри Грума. Снова нетерпеливо затрезвонил звонок. Ник открыл дверь и глянул через плечо парламентария на почти опустевшую улицу.
– 3-здравствуйте, Барри, входите… Надо же, все разошлись.
– Не вашими молитвами, – проговорил Барри, проходя мимо него; нахмуренные брови и сжатые губы его лежали двумя параллельными линиями. – Я к Джеральду.
– Да, конечно, – пробормотал Ник, не совсем понимая, видит ли Барри в нем лакея или препятствие на пути. – Сюда, пожалуйста, – проговорил он и добавил: – Все это ужасно, мне, право, страшно жаль, – при этом ощутив смутное удовлетворение от того, что нашел верные слова и верный тон.
В первую секунду, показалось ему, Барри был готов принять это как должное, но затем снова сдвинул брови.
– Заткнись, педик ублюдочный, – проговорил он негромко, и от этой негромкости его слова странным образом прозвучали более оскорбительно.
– Я… а… – Ник оглянулся на зеркало, словно призывая свое отражение в свидетели. – Послушайте, это…
– Заткнись, гондон вонючий! – рявкнул Барри и прошел мимо него в кабинет Джеральда.
– Да пошел ты… – сказал Ник – точнее, произнес беззвучно, одними губами, вовремя сообразив, что, услышав это, Барри может развернуться и свалить его с ног оплеухой.
Дверь открылась, и из кабинета показался Джеральд.
– А, Барри, как хорошо, что вы пришли! – проговорил он, бросив на Ника быстрый укоризненный взгляд.
И дверь за ними закрылась.
– Сам ты… грубый, грязный, жадный, невежественный, страшный гондон! – прошептал Ник. И ему вдруг стало смешно.
Он прошелся туда-сюда по холлу, не отрывая глаз от черно-белых мраморных квадратов пола, словно видел их впервые, потом побрел на кухню, к Елене. Трудно было сказать, слышала ли она крик Барри. К брани Елена относилась серьезно и выражала неодобрение всякий раз, когда из уст Джеральда случайно вырывалось что-нибудь крепче «черт побери».
– Здравствуйте, Елена, – сказал Ник.
– Так, мистер Барри Грум прийти, – сказала Елена. Она была невысокой и хрупкой, однако казалось, занимала собой всю кухню – свою территорию. – Он хотеть кофе?
– Знаете, я его как-то не спросил. Но, думаю, нет.
– Не хотеть?
– Нет… – Он осторожно взглянул на Елену, гадая, сможет ли найти хотя бы в ней союзницу. – Знаете, я сегодня ужинать не приду.
Елена подняла брови и поджала губы. Ник подумал, что известие о них с Уани должно было ее поразить; он ведь даже не знает, понимала ли она до сих пор, что Ник гей.
– Как все запуталось, правда? – сказал он. – Un pasticcio… un imbroglio [21]21
Оба слова означают: путаница, беспорядок (ит.).
[Закрыть].
– Pasticcio, si, – с невеселой усмешкой ответила она. Все эти годы попытки Ника общаться с Еленой по-итальянски служили в семье неисчерпаемым поводом для шуток – и сами Ник и Елена веселились больше всех.
Она направилась в буфетную, говоря что-то на ходу. Нику пришлось пойти за ней.
– Простите?
– Сколько вы здесь жить? – повторила она, подняв голову и всматриваясь в ряды консервных банок на полках.
– На Кенсингтон-Парк-Гарденс? Этим летом исполнилось четыре года, значит… четыре года и три месяца.
– Четыре года. Хорошее время.
– Да, хорошее было время… – грустно улыбнулся он, понимая, что Елена имела в виду совсем другое.
Она встала на цыпочки, и Ник, всего на дюйм выше ее, поспешил ей помочь.
– Фасоль?
Он передал ей банку, вынудив кивнуть в знак благодарности, и снова последовал за ней, словно надеясь, что сможет еще чем-нибудь ей помочь. Она поставила банку бобов на стол и, придерживая ее одной рукой, принялась вскрывать консервным ножом: уже тысячу раз она делала это на глазах у Ника, ловко и умело, с томатным пюре, с fagioli, со множеством других продуктов, которые предпочитала использовать не свежими, а консервированными… И вдруг он все понял.
– Елена, – сказал он, – я решил, что мне пора подать в отставку.
Елена бросила на него острый взгляд, желая удостовериться, правильно ли его поняла, затем кивнула. Ему даже показалось – хотя, возможно, только показалось, – что она улыбнулась в ответ на его удачную фразу. А затем повернулась к нему спиной и пошла с банкой к столу. Может быть, за ее хлопотами и занятым видом скрывается сожаление, думал Ник; не может же быть, чтобы она совсем обо мне не жалела! Он бросил на нее взгляд, полный отчаянной надежды. За спиной у Елены простиралась галерея фотографий, и чувствовалось, что она рядом с ними – человек не чужой; она даже была здесь, на одном снимке, держала коляску с Тоби, конечно, ведь она с Федденами давным-давно, еще с легендарных хайгейтских времен… Она принялась резать лук, но вдруг обернулась к нему и спросила:
– Помните, как вы первый раз сюда прийти?
– Да, конечно, – сказал Ник.
– Как мы знакомиться…
– Да, помню. – И он покраснел и рассмеялся, поняв, что они оба никогда не забудут эту путаницу. Но то, что Елена об этом помнила, уже почти его не смущало, а скорее, радовало, ведь тогда он вел себя с ней не просто как с равной – как с высшей.
– Вы думать, я миз Фед.
– Да, так и подумал. Я ведь прежде не видел ни ее, ни вас. Вдруг входит красивая женщина…
Елена на миг зажмурилась – то ли от лука, то ли от чего-то другого – и сказала:
– А я в тот день думать: этот человек… sciocco [22]22
Глупый (ит.)
[Закрыть], знаете, весь растеряться, такой милый, и леди очень нравиться, но я-то понимать, что он… – И постучала пальцем по лбу.
– Pazzo? [23]23
Сумасшедший (ит.)
[Закрыть]– хватаясь за соломинку, спросил Ник.
– Ненадежный человек, – ответила Елена.
Ник поднялся к себе и долго стоял у окна. С небес лился блеклый и безрадостный свет холодного октябрьского утра. Он размышлял, но в мыслях его не было ни слов, ни образов – лишь светлая и горькая печаль. Потом явились слова, простые и четкие, как будто написанные на бумаге. Так было бы лучше всего, подумал Ник, – написать письмо. Холодно, логично, не боясь отклониться от намеченного плана, не опасаясь, что в самый неподходящий момент задрожит голос. Он пошел вниз, к Джеральду.
Дверь кабинета Джеральда была приоткрыта, и Ник услышал, что хозяин дома разговаривает с Барри Грумом. Он остановился в коридоре и прислушался. Так часто случалось и раньше: стоя за дверью, он прислушивался к обрывкам телефонных разговоров или личных деловых бесед, чаще всего не имеющих для него никакого смысла. Эти полуподслушанные разговоры успокаивали и ободряли его, как голоса отца и матери в дороге успокаивают сонного ребенка на заднем сиденье. Порой ему случалось разобрать какой-нибудь секрет, и потом, помалкивая о том, что слышал, Ник втайне гордился своей надежностью.
– Не понимаю, как вы это допустили, – говорил Барри.
Джеральд проворчал что-то нечленораздельное, гулко откашлялся, но промолчал.
– Я хочу сказать, что вообще здесь делает этот гомик? Какого черта вы поселили у себя в доме педераста?
Он говорил все громче и громче, и, когда умолк, четыре или пять секунд Ник, с сильно бьющимся сердцем, ждал гневной отповеди Джеральда. Он весь горел от ярости и восторженного предвкушения битвы. Да где же Барри Груму понять, как они жили в этом доме, что за отношения их связывали?!
– Думаю, приходится признать, – проговорил Джеральд, – что я совершил ошибку. Совершенно нетипично для меня, как правило, я хорошо разбираюсь в людях. Но… да, это была ошибка.
– Ошибка, за которую вы дорого заплатили, – непримиримо заключил Барри Грум.
– Видите ли, он был другом наших детей. По отношению к друзьям детей мы всегда придерживались политики открытых дверей.
– Хм… – промычал Барри, в свое время публично лишивший наследства своего сына Квентина – безо всякой вины, из принципа, «чтобы понял, какой ценой деньги достаются». – Что ж, я с самого начала понял, что ему доверять нельзя. Теперь-то могу сказать вам без обиняков, таких людишек я наизусть знаю. Помалкивает, улыбается, а в душе считает себя умнее всех. Помню, как-то у вас за ужином, несколько лет назад, сижу я с ним рядом и думаю: а ты-то что здесь делаешь, членосос паршивый, ну разве здесь тебе место? И вот что я вам скажу: он сам это прекрасно понимал. Я на него смотрел и видел, как ему хочется сбежать наверх, к бабам!
– Ну… – протянул Джеральд, чувствуя, что обязан хоть что-то возразить, – знаете, все это время мы неплохо ладили.
– Сидит и воображает, что он лучше других! Всех нас презирает, х…сос гребаный!
Барри выругался грубо, жестко, без тени юмора, словно полагая, что матерщина удостоверит истинность его слов. Точно так же, вспомнил Ник, он матерился тогда, за ужином. И тогда, как и сейчас, Ник вздрогнул и с отвращением подумал: как это вульгарно!
– Они же все нас ненавидят, точно говорю. Сами размножаться не могут, вот и паразитируют на великодушных дурачках вроде вас. Сначала к вам вполз в доверие, потом к этим чертовым Уради. И я, знаете ли, совершенно не удивлен тем, что он сделал с вашей дочкой. Сбил с пути, заманил, использовал и выбросил, вот как это называется. Дело известное, все они так поступают.
Джеральд пробормотал что-то неохотно-утвердительное. Ник стоял, словно приклеившись к двери, раздираемый новым смятением чувств – гневом на предателя-Джеральда и страстной, почти восторженной ненавистью к Барри Груму. Барри – известный мошенник, экс-банкрот и не пропускает ни одной юбки, его неприязнь – для порядочного человека все равно что медаль. Но Джеральд… боже, ведь Джеральд, несмотря ни на что, все-таки его друг!
– Должен вам сказать, Долли Кимболтон просто в ярости, – продолжал Барри. – Этот Уради только-только пожертвовал партии еще полмиллиона.
Ник на цыпочках отошел от двери и сел на свое прежнее место в столовой. Взгляд его упал на фотографию Джеральда в обнимку с Пенни Кент, заснятую с расстояния сто футов, а затем увеличенную так, что тела и лица любовников превратились в бессмысленную комбинацию точек.
Джеральд проводил Барри до дверей, а минуту спустя Ник подошел к двери кабинета, постучал и просунул голову внутрь. Огляделся, проверяя, один ли Джеральд, и с облегчением убедился, что Барри действительно ушел. Джеральд в очках с полукруглыми стеклами стоял у стола и просматривал документы.
– Я вам не помешал? – спросил Ник.
Джеральд проворчал что-то невнятное, с равным успехом способное оказаться и: «Что?», и «Да», и «Нет», но ясно показывающее, что он сердится. Ник вошел и закрыл за собой дверь; ему не хотелось, чтобы кто-то услышал этот разговор. Комната, казалось, еще гудела от жестоких слов Барри. Сиденье низкого кожаного кресла хранило на себе отпечаток гостя. Пахло кожей, застоялым сигарным дымом и мебельным лаком, и эта смесь запахов ясно говорила, что в этом кабинете вершатся большие дела.
– Не помешал, – ответил наконец Джеральд, снимая очки и одаривая Ника быстрой и холодной улыбкой.
– Хорошо… – пробормотал Ник, чувствуя, что слова как-то растягиваются у него во рту. – Я только на минутку.
Джеральд хмыкнул так, словно хотел сказать: «Ну нет, друг дорогой, минуткой ты не отделаешься!» Он положил очки на стол и подошел к окну. На нем были саржевые брюки для верховой езды и желто-коричневый свитер с вырезом, как у матроски: то и другое вместе производило впечатление походной простоты и воинственной решимости. Возможно, Джеральд уже обдумывал пути возвращения наверх. Как это ни глупо, Ник чувствовал себя польщенным от того, что ему позволено видеть Джеральда в домашнем наряде – и в то же время почти с ужасом понимал, что знает Джеральда наизусть и что ему с ним скучно. Джеральд молчал, невидящим взором глядя в сад. Ник тоже молчал, вцепившись в высокую спинку кресла: все оказалось именно так трудно, как он думал, он страшился того, что может сказать Джеральд, но не решался заговорить первым.
– Как Уани? – спросил Джеральд.
– О… – Ему показалось, что в вопросе таится какая-то ловушка. – Вы ведь знаете, он ужасно болен. Говорят, нет никакой надежды.
Джеральд задумчиво кивнул, словно подтверждая, что это вполне естественно.
– Бедные его родители. – Он повернулся к Нику, как будто проверяя, способен ли тот на сострадание к родителям Уани. – Бедняги Бертран и Моник!
– Да…
– Сначала одного сына потеряли… – Оба услышали в этой фразе голос уайльдовской леди Брэкнелл, и Джеральд, испугавшись каламбура, поспешно сменил курс. – Да, такое даже вообразить себе трудно.
Он медленно покачал головой и снова сел за стол. Лицо у него было натужно-серьезное, словно у человека, который изо всех сил пытается сдержать смех; так Джеральд обычно выражал сострадание.








