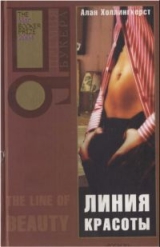
Текст книги "Линия красоты"
Автор книги: Алан Холлингхёрст
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
– Да, что-то в этом роде, – подтвердил Лео с тем скучающим видом, с каким ребенок слушает высокопарные излияния родителей – быть может, шестым чувством ощущая в них ложь, которой сами они не замечают.
– Он Лео отца заменил, – заключила миссис Чарльз. – Я всегда говорю: Господь своих детей в беде не бросает. Видите, каков молодец вырос? Что скажете, хороший у меня сын?
– Да, он… просто замечательный! – откликнулся Ник.
– А как насчет чая? – предложил Лео.
– Надеюсь, твоя сестра его уже заварила, – сказала миссис Чарльз. – Мы для нашего гостя приготовили острую свинину с рисом. Вы, англичане, – добавила она, обращаясь к Нику, – кажется, свинину чаще готовите в духовке?
– М-м… я не уверен… – пробормотал Ник, пытаясь припомнить, как готовит свинину его мать – живое воплощение всех существующих традиций. – Но в любом случае, – продолжал он, широко улыбнувшись, – не сомневаюсь, что ваш рецепт достоин войти в анналы английской кухни!
Миссис Чарльз вежливо улыбнулась в ответ: что такое «анналы», она явно не поняла.
За столом Ника посадили справа от грозной башни брошюрок «Приветствуем Иисуса сегодня», и он боялся рассыпать ее, нечаянно задев локтем. Острая свинина оказалась и вправду неимоверно острой: Ник даже заподозрил, что в его тарелку Розмари переложила специй. Но больше всего – неожиданно для него самого – его поразило, что в этом семействе ужинают без четверти шесть. Какой-то нелепый социальный рефлекс, острое чувство классового различия, детская боязнь перемен в установленном режиме – все слилось в единое и необычное ощущение: сам себе он казался исследователем в чуждом и неизвестном мире. На Кенсингтон-Парк-Гарденс ужинали на три часа позже, и вкушение пищи предварялось множеством разнообразных развлечений: болтовней, игрой в теннис, работой в саду, виски и джином. Но в доме у Чарльзов развлечений было куда меньше, вместо сада – чахлая клумба перед подъездом, спиртного здесь не держали, а Лео и Розмари возвращались с работы усталыми и голодными. Интересно, чем они занимаются после ужина? Кое о каких привычках этого семейства Ник догадывался, сравнивая ее с собственной, занимавшей среднее положение между Федденами и Чарльзами, но многое оставалось для него совершенной загадкой. Никогда прежде он не бывал в гостях у семьи чернокожих. Как видно, впервые полюбив, приобретаешь новый опыт и в других областях.
После довольно продолжительного молчания Лео спросил – так, словно они едва знали друг друга:
– Ну как дела в университете?
– Все в порядке, – ответил Ник, немного расстроенный, но и тронутый напускной холодностью Лео.
Он боготворил своего друга, но видел его насквозь и давно уже понял, что за его внезапной холодностью и даже грубостью всегда скрывается смущение, а за смущением – любовь; и всякий раз, когда такое происходило, чувствовал, что любит Лео все сильнее и сильнее.
– Пока что ничего особенно интересного. Совсем не то, к чему я привык.
Из сумрачного здания английского факультета он всегда уходил с двумя-тремя свежими анекдотами, которые приятно было вспомнить и много дней спустя; но Лео не особенно интересовался студенческими историями, и часто они пропадали впустую – или оседали под невидимой тяжестью непонимания и отторжения.
– Ник прежде учился в Оксфорде, – объяснил Лео.
– А теперь где? – спросила миссис Чарльз.
– В аспирантуре в Лондонском университете, – ответил Ник. – Пишу диссертацию.
Лео проглотил кусок свинины и, хмурясь, спросил:
– Повтори еще раз, о чем?
– Ну… – ответил Ник задумавшись над формулировкой. – Это работа о стиле… о стиле английского романа.
– A-а, понятно! – с блаженным кивком отозвалась миссис Чарльз.
Очевидно, литературоведческие вопросы настолько превосходили ее понимание, что она могла себе позволить отнестись к ним снисходительно.
Ник хотел заговорить, но она его прервала:
– Как же это хорошо, когда молодой человек так любит учиться! Лет-то вам сколько?
– Двадцать один, – осторожно ответил Ник.
– Смотри-ка ты! А с виду – совсем мальчуган, правда, Розмари?
Розмари промолчала – только иронически приподняла бровь, продолжая резать свинину. Ник, покраснев, украдкой взглянул на Лео: тот нахмурился, к щекам его прихлынула кровь, на лице было написано смущение. Уже не в первый раз Ник предположил, что его возраст имеет для Лео какое-то особое значение, так что даже самое невинное упоминание о нем запускает механизм интимных фантазий.
– Конечно, скучно без старых друзей, – поспешно продолжал Ник, хоть и чувствовал, что выпал из нужного тона. – Нужно время, чтобы освоиться… уверен, в конце концов мне там понравится! – Слова его были встречены молчанием, и он торопливо продолжил: – Кстати, в здании английского факультета прежде размещалась матрасная фабрика. И половина преподавателей у нас – алкоголики!
Обе фразы, явившиеся прямиком из-за стола на Кенсингтон-Парк-Гарденс, были столь неуместны, что Ник едва удержался от улыбки над собственной глупостью. Теперь молчание сделалось неодобрительным, даже негодующим. Лео тщательно прожевал свинину, бросил на Ника старательно-безразличный взгляд и проговорил:
– Матрасная фабрика, говоришь?
– Алкоголизм – это болезнь, – твердо глядя в тарелку, сказала Розмари, – а больные люди нуждаются в помощи.
Ник выдавил виноватый смешок.
– Э-э… конечно, согласен. Вы совершенно правы. Именно в помощи.
– А все проблемы у людей из-за одного, – помолчав, веско изрекла миссис Чарльз. – Из-за того, что у каждого прямо в середине души есть большая-пребольшая черная дыра!
Ник издал неопределенный вопросительный звук, не без страха ожидая, что за этим последует.
– И заполнить эту дыру ничем нельзя – ничем и никем, кроме Господа нашего Иисуса! Вот о чем мы молимся, теперь и всегда: чтобы Господь Иисус снизошел на нас и заполнил пустоту в наших душах! Так, Розмари?
– Именно так, – торжественно кивнув, подтвердила Розмари.
– А как твои оценки? – с почти нескрываемым сарказмом в голосе поинтересовался у Ника Лео.
Но миссис Чарльз было уже не остановить.
– Я молюсь о том, чтобы все, кто блуждает во тьме, обрели Иисуса. И еще молюсь об этих двух детях, которых я привела в сей мир. Молюсь, чтобы они были счастливы, пристроены, чтобы, как говорится, дошли до алтаря. – Последнюю фразу она произнесла тоном ниже и с добродушной улыбкой, показывая, что готова обратить последние слова в шутку.
Лео вздрогнул и судорожно поскреб голову; однако Ник почувствовал, что он не сердится на мать – скорее, ее жалеет.
Розмари, явно правая рука матери, кротко возразила, что готова выйти замуж, как только встретит подходящего мужчину.
– Кроме этого, меня ничто от замужества не удерживает, – добавила она, скромно прикрыв глаза, а затем метнула на Лео быстрый острый взгляд, по которому Ник сразу уверился: она знает.
Когда на столе появились фрукты и мороженое, миссис Чарльз сказала Нику:
– Вижу, вы смотрите на ту картину, на Господа Иисуса за плотницкой работой.
– А… да, – откликнулся Ник.
Собственно говоря, он предпочел бы на нее не смотреть, но это было невозможно – картина располагалась прямо напротив него, над плечом Лео.
– Знаете, это ведь картина старая и очень знаменитая.
– Да. Я видел оригинал – недавно, в Манчестере.
– Ну да, конечно. Я сразу поняла, что это копия, когда у нас в церкви увидела такую же.
Ник улыбнулся и моргнул, не вполне уверенный, что над ним не издеваются.
– Оригинал гораздо больше, – сказал он. – В натуральную величину. Собственно, это работа Холмана Ханта, и…
– A-а! – удовлетворенно протянула миссис Чарльз, словно это сообщение представило ей любимую картину в новом свете.
Ник терпеть не мог искусство такого сорта – грубобуквальное и тяжеловесно-символистическое; в натуральную величину этот навязчивый буквализм смотрелся еще отвратительнее.
– Я слышала, тот же самый художник нарисовал «Свет миру», это та, где Господь Иисус стучится в дверь.
– Да, верно, – благожелательно отозвался Ник, словно учитель, давно махнувший рукой на познания ученика и поощряющий в нем хотя бы интерес к предмету: – Она находится в соборе Святого Павла, можете туда сходить и посмотреть.
Миссис Чарльз восприняла эту идею с энтузиазмом.
– Розмари, ты слышишь? В эту же субботу поедем в собор Святого Павла и посмотрим своими глазами!
Нику представилось, как миссис Чарльз – в начищенных до блеска туфлях и крошечной, словно у стюардессы, черной шляпке – отправляется в свое паломничество: как нервничает в ожидании автобусов, путается в пересадках, и наконец, преодолев все препятствия, поднимается по высоким ступеням в прохладную громаду церкви, которую он, по иронии судьбы, привык считать своим владением – владением эстета и искусствоведа, а не каких-то там простецов верующих…
– Или, может быть, вместе с вами съездим… а? – обратилась она к Нику, почему-то робея назвать его по имени.
– С большим удовольствием, – быстро ответил Ник.
– Вместе поедем и осмотрим там все вдоль и поперек, – заключила миссис Чарльз.
– Замечательно! – откликнулся Ник – и прочел во взгляде Лео нескрываемую иронию.
– Знаете, – заговорила миссис Чарльз, склонив голову набок, – говорят, во всех старинных картинах, если присмотреться, есть что-то такое особенное, вроде ребуса, что ли.
– Да, часто такое бывает, – ответил Ник.
– А знаете, что особенного в этой? – В голосе миссис Чарльз слышалось: «Ни за что не догадаешься!»
Ник задумался. На его взгляд, некоторую загадку на полотне представляла фигура коленопреклоненной Девы Марии: судя по повороту головы, она смотрела на тень, предвосхищающую распятие, однако лицо ее оставалось невидимым для зрителя. Интересно, что сказал бы об этом Генри Джеймс?
– Ну, детали прорисованы потрясающе – посмотрите на эти деревянные козлы, они как настоящие, все так точно…
– Нет-нет! – торжествующе покачала головой миссис Чарльз. – Посмотрите, как стоит Господь Иисус! Его тень на стене – это же точь-в-точь образ его самого на кресте!
– Э-э… – сказал Ник, – да, в самом деле… но ведь и картина называется…
– И знаете, о чем это нам говорит? О том, что распятие и воскресение Господа Иисуса были заранее предсказаны!
– Да, пожалуй, картина в самом деле иллюстрирует эту мысль, – совершенно убитым голосом пробормотал Ник.
Лео, подмигнув, сменил тему.
– А мне нравится, как он на картине потягивается, – сказал он и, поднявшись из-за стола, раскинул руки и склонил голову набок, точь-в-точь как Господь Иисус на картине – с той лишь разницей, что у Иисуса не было в руке чайной ложки.
Розмари наблюдала за ним с тем тайным удовлетворением, с каким примерные дети любуются шалостями озорных братьев. Однако вслух сказала:
– Бр-р, у меня мурашки по коже, когда ты так делаешь.
Лео широко улыбнулся в ответ, и тень его на стене, изображавшая в сгущающихся сумерках знак креста, растянулась, задрожала и распалась на множество мелких теней.
После ужина Лео проверил мотоцикл, и почти сразу они оказались на улице. Ник покинул дом Чарльзов с облегчением, хоть и немного смущенный, – он вылетел вслед за Лео, словно за собакой на поводке. Но миссис Чарльз, кажется, не возражала. «А, уже уходите!» – сказала она так, словно для нее самой это было в радость. Или, быть может, думал Ник, спеша следом за Лео, она почувствовала, что ему с ней неудобно и неловко, и ее безмятежное прощание – лишь удачная попытка замаскировать недовольство… Право, в голосе у нее прозвучало что-то такое, как будто она на него обижена… А ведь он и в самом деле разговаривал с ней снисходительно, и она, должно быть, это заметила… Все эти мысли мгновенно пронеслись у него в голове, и Ник почувствовал, что миссис Чарльз становится ему неприятна.
Лео шагал быстро и целеустремленно, словно уже выбрал, куда идти, и молчал. Ник не понимал, что с ним – огорчен он, раздражен, обижен, готов защищаться… однако ясно было, что все эти эмоции, поочередно или вместе, могут вспыхнуть от одного неловкого слова и лучше помолчать и дать Лео успокоиться, чем сердить его неуклюжими попытками угадать его чувства. Впрочем, собственная мудрость Ника не слишком успокаивала. Солнце уже село, и в тонком холодном ветерке, и в темном кобальте высокого неба – везде чувствовалось неопровержимое присутствие осени. За этот месяц совместные вечерние прогулки, втроем с мотоциклом, приобрели для Ника особый романтический колорит.
Опасаясь, что Лео воспримет его молчание как неодобрение, он догнал его, обнял сзади и сказал:
– Спасибо тебе, милый.
– За что это? – фыркнул Лео.
– За то, что пригласил меня к себе домой. Познакомил со своей семьей. Для меня это важно. – Произнеся эти слова, он в самом деле ощутил, что очень тронут.
– Ну вот ты и узнал, как я живу, – неопределенно проговорил Лео.
Он остановился у перехода и, прищурившись, совсем как миссис Чарльз, взглянул на дорогу. Мимо пронесся автомобиль, затем другой – и снова все стихло.
– Они… замечательные, – сказал Ник.
Сказал из одной любезности – но тут же почувствовал, что слово это в тишине, под размытым мокрым светом уличных фонарей, прозвучало куда осмысленнее, чем предполагалось. Да, Чарльзы замечательны – особенно для него и особенно по сравнению с Федденами.
Лео удивленно моргнул, затем, усмехнувшись, ответил:
– Ну, если ты так говоришь… милый. – В первый раз он назвал Ника «милым», но сейчас в этом слове чувствовался двусмысленный привкус.
У Ника были на этот вечер собственные большие планы, но сейчас он решил, что лучше предоставить выбор Лео: в результате они отправились обратно в Ноттинг-Хилл, в кинотеатр «Гейт» на сеанс семь пятнадцать, «Лицо со шрамом». Фильм только что вышел на экраны, но Лео знал о нем все, не исключая и необычайной продолжительности – сто семьдесят минут! Три часа близости в темном кинозале, мысленно добавлял Ник. Три часа – прильнув друг к другу распаленными телами. А Лео все болтал о том, какой замечательный актер Аль Пачино, говорил о нем почти со страстью – Ник этого не понимал, Пачино определенно не принадлежал к числу его кумиров. В последнем номере «Тайм аут» было интервью с ним, которое Лео, очевидно, внимательно прочел. Вообще все, что он говорил сейчас о фильме, было почти буквально почерпнуто из журнальных обзоров. Но Ник понимал, что к своему увлечению кино Лео относится серьезно и ревниво – особенно на фоне познаний самого Ника в литературе, музыке и живописи – поэтому не стал спорить и ответил:
– Нет, он, конечно, гений, – сознательно подобрав слово, несущее для них обоих равно огромный и расплывчатый смысл.
Подъехал автобус. Ник вошел, сел и стал смотреть в окно, в спину Лео: тот целую вечность возился со своим мотоциклом, наконец запрыгнул в седло и помчался по залитой вечерним светом улице. Когда автобус остановился на следующей остановке и мотоцикл стал его обгонять, Лео приподнялся на сиденье и обернулся, чтобы взглянуть на Ника: секунду он, казалось, парил в воздухе, затем подмигнул, снова согнулся в седле и пронесся мимо. Ник в ярко освещенном салоне улыбнулся в ответ, поднял руку, хотел ему помахать – и тут же опустил, спиной ощутив любопытные и, быть может, подозрительные взгляды других пассажиров.
Наконец автобус пересек Хэрроу-роуд и начал долгий путь вниз по Ледброук-Гроув. Ник представил себе, как впереди мчится, визжа шинами и взревывая мотором, Лео. Вгляделся – но ничего не разглядел в путанице фар и фонарей. Где они сейчас? В этой части улицы, между каналом и административными зданиями, Ник еще не бывал – и тосковал по уютной безопасности знакомого квартала, беленых стен и частных садов. Но слишком многое отделяет его сейчас от Ноттинг-Хилла: рынок, вокзал, стальные мосты, толпы праздных и громогласных прохожих… Как-то прокладывает себе там путь Лео?
Наконец спуск сменился подъемом: чем выше над уровнем моря, тем выше благосостояние жителей. Теперь в самом названии улицы – «роща Ледброук» – чувствовалось что-то тонкое и невыразимо грустное, намек на летний день, вишневый сад и изгородь из прутьев. Ник не обманывал себя мыслью, что Лео способен понимать такие вещи: быть может, он и являет собой достойный предмет для поэзии, но поэтического склада ума ему недостает, и в эстетических впечатлениях Ника, вздумай тот ими поделиться, Лео, пожалуй, увидит лишь праздную игру ума или, как он выражается, «выпендреж». Порой Нику казалось, что его друг вообще не способен на сильные чувства – но стоило ему так подумать, как Лео вдруг проявлял страсть или нежность, потрясение или негодование с такой силой, что Ник начинал стыдиться своих подозрений. Снова перелистывая в памяти страницы сегодняшнего вечера, Ник понимал, что этот визит много значил и для самого Лео. Но все испортила необходимость скрываться и секретничать. Будь Ник женщиной, знакомство превратилось бы в ритуал: миссис Чарльз, должно быть, обняла бы его, расцеловала и со слезами на глазах сказала, что наконец-то Господь Иисус решил исполнить ее заветное желание – привести Лео к алтарю. Миссис Чарльз просто одержима любовью к Иисусу, думал Ник, не меньше, чем он сам – любовью к Лео; но она не только вправе, но и обязана свободно говорить о своей любви – а он о своей может, краснея и бросая украдкой взгляды, лишь молчать.
Войдя в кинотеатр, он обнаружил Лео в длиннейшей очереди, уже ближе к кассе.
– О, добрался все-таки! – сказал Лео, а потом, оглянувшись и кивнув на толпу жаждущих зрителей, добавил: – Сам видишь, премьера… – с таким видом, словно на премьеры ходил каждый день и они смертельно ему надоели.
Добравшись до окошечка кассы, они обнаружили, что кинотеатр уже почти полон и взять два билета рядом не получится.
– Ну ладно, – сказал Ник, пожав плечами и чуть понизив голос, ибо пара сзади косилась на них с нескрываемым любопытством. – Сходим в выходные.
Но Лео ответил:
– Слушай, мы такую очередь отстояли – неужели теперь уйдем?
– Я просто подумал, – тихо сказал Ник, – если мы не сможем сесть вместе…
Единственной причиной похода на трехчасовую гангстерскую сагу была для него возможность сесть рядом с Лео, ощутить тяжесть и тепло его тела и его руку у себя в расстегнутой ширинке. Им уже случалось ласкать друг друга в кино, чудесными, осторожными, медленными движениями, на боевиках, которые выбирал Лео, и на феллиниевском «И корабль плывет» – злосчастном выборе Ника, на котором им так не удалось достигнуть оргазма. Кроме кино, они занимались любовью в парках, в общественных банях, да еще однажды – в подсобке магазинчика Пита, от которой у Лео был ключ; но это, на вкус Ника, было еще экстремальнее обжиманий в кино. Кинозал особенно привлекал его тем, что задние ряды, как правило, оккупировали шумно вздыхающие и сопящие парочки, и в темноте Ник мог вообразить, что ничем от них не отличается.
Но теперь, получив «лучший» билет в середине заднего ряда и снова оставшись один, он с особенной остротой ощутил свое одиночество. Когда они вошли в зал, уже началась реклама: в ее неверном свете Ник пробирался к своему месту, спотыкаясь, извиняясь, неуклюже вторгаясь в мир распаленных страстью пар. Поперек его кресла лежали чьи-то пальто и сумка, их пришлось отодвинуть; слева его беспрестанно задевал локтем какой-то энергичный любовник. Ник предчувствовал, что сто семьдесят минут растянутся до бесконечности – какое-то чудовищное испытание на выносливость. Так оно и случилось: Ник не хотел смотреть этот фильм, не хотел настолько, что в какой-то момент поймал себя на поразительном и стыдном желании по-детски захныкать. Может быть, уйти и вернуться к концу? – подумал он. Но что скажет Лео? Нет, не стоит так рисковать. Публика в зале бурно реагировала на сверкание тропического моря, сияние белоснежного песка и скрытую рекламу «Баккарди». Ник попытался высмотреть Лео – тот сидел слева, перед самым экраном – однако поначалу не смог его найти, и лишь несколько минут спустя в глаза ему бросилась угловатая голова, повернутая в профиль, освещенная мерцающим и странно привлекательным светом. Лео не отводил глаз от экрана: роскошный пляж с пальмами, по которому шли красивые и надменные натуралы, был для него, как видно, чем-то вроде «Тени смертной» – для его матери.
Критики уже назвали «Лицо со шрамом» «яркой лентой» – на взгляд Ника, фильм был скорее шумным и напыщенным, на латиноамериканский манер. Действие происходило в Майами, и город этот изображался столь роскошным, жестоким, блистательным и бездушным, что Ник удивлялся, как там вообще живут люди. Сам он в таком месте жить бы не смог. Сюжет вызывал в нем самые мрачные мысли и нелепые подозрения: Ник сознавал, что реагирует точь-в-точь как мать, тяжело пугающаяся любых телепередач, в которых встречаются эротические сцены или звучит слово «дерьмо», но ничего не мог с собой поделать. История о торговцах кокаином его пугала. С неприятным чувством он вспоминал Хоксвуд, где Тоби нюхал порошок вместе с Уани Уради. Фильм подтверждал худшие его ожидания: в нем не говорилось ни слова о тонком наслаждении, о котором рассказывал Тоби, но очень много – о деньгах, о власти, о болезненном пристрастии, падении и гибели.
Парочка слева от Ника обжималась вовсю. Боковым зрением Ник заметил, как задирается короткая юбка, обнажая бедро его соседки, и виновато отвел взгляд. Он остро сознавал, что находится в длинном узком помещении с белеными стенами, среди множества незнакомых людей, о которых кинозритель, поглощенный фильмом, обычно забывает. Когда экран просветлел, Ник снова начал искать взглядом Лео, но на этот раз его не нашел. Что он сейчас чувствует? Должно быть, фильм ему очень нравится: Лео не сводит глаз с экрана, жадно впивая в себя новые стандарты «крутизны». Будь Ник с ним рядом, в сценах драк и перестрелок он бы смеялся – или постанывал от желания. Но сейчас они сидели в разных концах зала, словно два незнакомца, и обилие экранной крови раздражало натянутые нервы Ника. Нереальность фильма странным образом создавала ощущение нереальности жизни, и Нику уже казалось, что весь его роман с Лео – фантазия, выдумка, мечта.
Наконец по экрану поплыли титры. Лео вышел в фойе, моргая и довольно кивая сам себе: выражение лица Ника, кажется, его удивило.
– Классная вещь, малыш, – сказал он и, взяв Ника за руку, повел к выходу. – Вот это я называю нюхнуть кокса! – продолжал он, имея в виду сцену ближе к финалу, когда Пачино, уже превратившийся в раба собственного товара, бросает на стол большой пакет с кокаином, разрывает и зарывается в него носом. Ника эта сцена поразила своей нелепостью. – А тебе понравилось?
Ник кашлянул, прочищая горло.
– Честно говоря, не очень, – с натянутой улыбкой проговорил он.
– Да ты что?! – воскликнул Лео. – Мировой фильм! Финал – просто чума!
– Да… да, пожалуй, – промямлил Ник, с омерзением припоминая кровавую баню в конце. Его не оставляло предчувствие, что пустяковый спор о фильме может перерасти между ними во что-то серьезное и страшное.
Но тут Лео сказал:
– Жалко, не удалось сесть рядом. Так и не полизались, верно?
– Верно, – ответил Ник – и в следующий миг, от облегчения не глядя, куда идет, врезался лбом в запертую стеклянную дверь.
Вместе они вышли на задворки, где Лео припарковал свой мотоцикл, и здесь он вдруг обернулся к Нику, обнял его, целомудренно и нежно поцеловал в лоб, а затем взглянул на него с добродушным упреком.
– Николас Гест!
– М-м? – откликнулся Ник, заливаясь краской и покорно глядя Лео в глаза.
– Ты очень любишь беспокоиться по пустякам. Сам знаешь, верно?
– Знаю…
– Так что, доверяешь дядюшке Лео?
– Конечно, доверяю! – выпалил Ник, словно троечник, довольный, что учитель задал простой вопрос.
– Тогда кончай переживать. Ради меня, договорились? – И снова эта усмешка, скрывающая нежность.
– Договорились, – ответил Ник и тревожно оглянулся кругом: Лео прижимал его к стене, и со стороны эта сцена, должно быть, напоминала не столько любовное объяснение, сколько ограбление. Но вокруг никого не было.
– И не забывай об этом.
– Не буду, – пробормотал Ник, хоть и не совсем понял, о чем не должен забывать.
Этот разговор ободрил его, и еще больше ободрило то, что Лео догадался о его чувствах: и, хоть «дядюшкин» тон Лео оставлял впечатление какой-то фальши, Ник не стал поддаваться своим вечным сомнениям и, набравшись духу, с сильно бьющимся сердцем заговорил о своем плане.
– Уверен, что их не будет?
– Совершенно уверен. Правда, Кэтрин может быть дома.
– Кэтрин?.. А, сестренка! – подмигнул Лео.
Тяжелый, с острыми ребрами ключ уже прорвал в брючном кармане дыру: теперь он висел на какой-то ниточке и больно царапал Ника по бедру. Когда Ник полез за ключом, несколько новых фунтовых монет щекотно соскользнули по его ноге и рассыпались по крыльцу.
– Вот так так, деньгами швыряешься! – заметил на это Лео.
В холле всегда горел свет: Ник всегда знал об этом, не забыл и сейчас, но все же вздрогнул, словно застигнутый на месте преступления. Ключи он снова положил в карман, однако не успел сделать и двух шагов, как они со звоном упали на мраморный пол. Лео, видевший это в зеркале, поднял бровь, но промолчал. На столике в холле лежали в беспорядке ключи от машины, театральный бинокль, серая шляпа Джеральда, письмо, адресованное «лично в руки глубокоуважаемому мистеру и глубокоуважаемой миссис Джеральд Федден» – на все эти предметы Ник смотрел сейчас по-новому, словно в них таилась какая-то загадка. Посреди холла он замер, прислушиваясь. Достопочтенные мистер и миссис сейчас в Барвике, на встрече с избирателями: убеждая себя в этом, Ник одновременно соображал, как представить им Лео, если они вдруг возьмут да и появятся из темной столовой. Сейчас он остро ощущал, что хозяин в доме – не он.
Ник поцеловал Лео в щеку, повел на кухню, включил свет.
– Виски хочешь?
– Не возражаю, – ответил Лео. – В самом деле, было бы очень кстати. Спасибо, Ник.
Подойдя к стене, он принялся рассматривать фотографии. На видном месте красовался снимок из «Татлера» со дня рождения Тоби, купленный, увеличенный и вставленный в рамку, с широкими улыбками на лицах гостей, среди которых министр внутренних дел смотрелся как-то совершенно не на месте. Над ним – старая фотография: Джеральд, еще студент, на встрече в Оксфорде пожимает руку Гарольду Макмиллану. Лео молчал, но Ник, передавая ему запотевший бокал, взглянул в его лицо и понял, что Лео все вокруг подмечает и запоминает. Быть может, он сейчас высчитывал размер оскорбления, нанесенного его присутствием этому богатому и консервативному дому. Глядя на него, Ник с особенной остротой почувствовал собственное положение в этом доме, невнятное и неопределенное.
– Пойдем наверх, – сказал он.
И сам бросился по лестнице почти бегом, перескакивая через две ступеньки. Взбежав наверх, Ник зажег лампы на столах и над картинами, чтобы Лео, войдя, впервые увидел гостиную так же, как сам Ник два года назад – в тенях, отражениях и мерцании позолоты. Сам он остановился у камина, предвкушая свое торжество и в то же время с тайным страхом вглядываясь в лицо Лео.
– Я к такому не привык, – сказал Лео.
– А…
– Я ведь не пью виски.
– Ах да…
– Кто знает, что со мной теперь будет? Вдруг начну на людей кидаться?
– Это угроза или обещание? – натянуто улыбнувшись, спросил Ник.
Он потянулся к Лео, положил руку ему на бедро и, подержав так секунду или две, смущенно отстранился. В иной обстановке, оказавшись наедине, они бы уже целовались, сплетясь руками и тесно прильнув друг к другу – хоть Лео порой и посмеивался над нетерпеливостью Ника, говоря: «Без паники, малыш! Я здесь, с тобой, никуда не денусь!» Но сейчас, поставив бокал на каминную полку, Лео разглядывал «Каприччо Сан-Джорджио Маджоре» Гуарди – по сравнению с «Тенью смертной» это полотно, должно быть, казалось ему на редкость бессмысленным. Едва ли Рэйчел стала бы спрашивать гостей, какой ребус они в нем видят. На столике под картиной возвышалась стопка приглашений – нескончаемый круговорот светского общения: мистер и миссис Джеффри, графиня Хексхэм, леди Карбери, Майкл и Джин, министр по делам… а рядом – другие, на плотной бумаге, со срезанными уголками: по поручению Ее Величества лорд-гофмейстер имеет честь пригласить… Эти хранились подолгу, и Ник, проходя мимо, посматривал на них с тайной гордостью. Вот и сейчас бросил на них довольный взгляд – но тут же, сообразив, что эта деталь говорит о Джеральде, поспешно отвернулся и сделал вид, что никаких приглашений здесь нет – в тот самый момент, когда Лео фыркнул и сказал презрительно:
– Боже ты мой, ну и снобы!
Ник рассмеялся.
– На самом деле они вовсе не снобы, – сказал он. – Ну, разве что Джеральд немножко. Они…
Трудно было объяснить – да и понять – кто за что отвечает в семействе Федденов. Джеральд и Рэйчел обеспечивали друг другу алиби. Кроме того, Ник понимал, что Лео называет их «снобами» в том смысле, в каком это слово употребляется в низах – денег куры не клюют, живут в шикарном доме, словом, большие шишки. Его вдруг поразила мысль, что Лео, возможно, воспринимает это приключение – поход в Кенсингтон-Парк-Гарденс в отсутствие хозяев, возможность заняться любовью в постели – как изощренную месть богачам. Лео отхлебнул из бокала и подошел к окну. Я должен ему доверять, говорил себе Ник, я ведь всего четверть часа назад обещал ему доверять. Звенящая тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов, в этой огромной и роскошной зале казалась какой-то неестественной, и на миг – словно приотворилась и вновь захлопнулась тяжелая дверь – Ник почти услышал гул голосов и смех, донесшийся сюда из прошлого или из будущего.
– Недурная вещь, – заметил Лео, указывая на антикварный комод. – И фарфор у них… если не ошибаюсь, это севрский.
– Да, кажется, севрский, – ответил Ник, мгновенно вспомнив старину Пита. Вот кто не молчал бы сейчас! Старина Пит наверняка нашел бы что сказать!
– Нет, тут очень недурно, – раздумчиво заключил Лео и, повернувшись к Нику, кивнул: – Неплохо ты устроился.
– Милый, ведь это все не мое…
– Знаю, знаю. – Лео присел за фортепьяно, подумав, поставил бокал на стопку нот. – Так, что это у нас… ага, Моцарт, неплохо. – Пролистал ноты, поставил назад, снова распахнув на вечно открытом «анданте». – А что за тональность? – пробормотал он себе под нос так, словно игра в различных тональностях, как удары в гольфе, требует от пианиста особых приемов. – Фа-мажор…
– Рояль совсем расстроен, – сказал Ник. Он боялся, что, если Лео начнет играть (хуже того – играть плохо), демоны дома пробудятся и потребуют жертв.
– Да ладно! – пробормотал Лео и, вглядываясь в ноты, начал играть с листа.
Это была вторая часть, то самое анданте – медленное, задумчивое и горько-печальное, то, что играл Ник в вечер их первого несостоявшегося свидания – играл, пока Кэтрин не заявила, что не желает это слушать, и он, извинившись, не соскользнул в бравурную и пустую импровизацию. Извиняться за то, к чему тебя больше всего влечет, скрепя сердце признавать это глупым, скучным, «вульгарным и небезопасным» – нет на свете ничего хуже. И Моцарт, кажется, говорит как раз об этом – о том, как полет надежды обрывается на взлете, ибо крылья ее подрезаны незримыми ножницами. Лео играл довольно уверенно: Ник стоял у него за спиной, мысленно предвосхищая каждую ноту, морщился, когда Лео ошибался или запинался, улыбался, когда тот играл гладко, и мечтал только об одном – чтобы это продолжалось вечно. Но вот Лео сильно сбился, сердито хмыкнув, взял несколько случайных аккордов и потянулся за бокалом.








