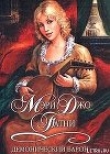Текст книги "Его уже не ждали"
Автор книги: Златослава Каменкович
Соавторы: Чарен Хачатурян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Глава седьмая
ОТЧАЯННЫЙ ШАГ
Дембовские возвратились из тюрьмы усталые, удрученные, без надежды добиться свидания с Ярославом.
– Что же нам теперь делать, мама? – подавленная, спросила Анна.
Она сидела в шляпке и перчатках, будто собиралась куда-то идти.
– Поедем в Вену, – предложила Барбара.
– Не верю, что его увезли туда… врут! Они передали его царским жандармам. Мама, я должна быть около него. Я поеду за ним…
– Аннуся, родная, тебе же известно, чем это ему угрожает. Разве ты желаешь ему зла?
– Неужели единственный выход – воспользоваться советом Калиновского и вступить в фиктивный брак? Ты веришь, мама, что Ярослав согласился на это?
– Царские власти слишком хорошо знают нашу фамилию, они ненавидят нас. Калиновский рассудил правильно.
– Не могу, не могу! Отвращение охватывает меня от одной мысли… Поедем в Вену, быть может, Ярослава действительно отправили. Мы должны повидаться с ним, посоветоваться, иначе я сойду с ума!
Поездка в Вену ничего не дала, хотя Ярослав в это время был именно там.
Все попытки увидеться с ним, перекинуться хотя бы единым словом, передать записку оказались тщетными; к нему не допустили даже нанятого адвоката, ссылаясь на то, будто русского подданного в Вене судить не будут.
Анна пала духом, тогда как Барбара еще надеялась: Калиновский с его обширными и влиятельными связями должен помочь им добиться свидания с Ярославом.
Мать и дочь поспешили обратно во Львов.
Калиновский принял их сердечно. С выражением участия и сострадания на лице слушал он нерадостную повесть Барбары об их мытарствах в Вене.
– Вся наша надежда на вас, пан Людвиг, – откровенно призналась Барбара.
Калиновский вздохнул и озабоченно заходил по голубой гостиной, обставленной с дворцовой пышностью.
– К сожалению, пану Ярославу теперь можно помочь, находясь только в России, а не отсюда. Да, его передали русским. Я мог бы выехать туда, но моя поездка будет безрезультатной…
Женщины с тревогой ловили каждое его слово.
– Мне известно, что досье пана Руденко-Ясинского осталось во Львове. Полиция упорно ищет акт вашего бракосочетания с паном Руденко-Ясинским. Будем предельно искренни: если в досье появится этот документ…
– Лучше я умру, чем соглашусь… – прошептала Анна.
Калиновскому вдруг показалось, что замок, который он строил с таким рвением и надеждой, воздвигнут на зыбком песке и вот-вот рухнет.
«Не отказаться ли от затеи? – заколебался он. Но сразу же овладел собой и с досадой подумал: – Ты ли это, Людвиг? Неужели ты бессилен? Ты ведь никогда не останавливался на полпути! Наступила решающая минута. Еще один ход, и тогда ты – благородный рыцарь, и Анна – твоя!»
– Мне самому больно вам предлагать это, пани Анна, – проникновенным голосом заговорил адвокат. – Поверьте, другого выхода нет… – Он остановился под огромным филодендроном и задумчиво добавил: – Может быть, завтра-послезавтра мой совет окажется лишним… Запоздалым…
Барбара поняла устремленный на нее вопросительный взгляд дочери.
– Решай сама, – вздохнула мать. – Бывает, когда из-за нерешительности или необдуманности человек страдает всю жизнь. Подумай хорошо, чтобы потом не укорять себя, что ты могла спасти Ярослава и не сделала этого.
«Ярослав, я решаюсь на отчаянный шаг ради твоего спасения… Я ставлю под сомнение свое доброе имя, свою честь. Отрекаюсь от тебя, чтобы сохранить тебя для людей, которым ты, как Прометей, несешь огонь, свет, счастье… Пусть в твое сердце никогда не закрадется сомнение в моей верности… И, если не суждено нам встретиться снова, твой ребенок, которому я дам жизнь, клянусь, любимый, будет таким, как ты…»
Эти мысли вернули Анне силы. Она выпрямилась и проговорила каким-то странно изменившимся голосом:
– Мама, я согласна…
Барбара перевела дыхание, словно только что избежала большой опасности, угрожавшей им.
– Пан Людвиг, мы так вам обязаны, что даже неловко просить вас…
– Я весь к вашим услугам.
– Как все это оформить?
– Прежде всего необходимо расторгнуть брак пани Анны с Руденко-Ясинским. Я поеду в Прагу и побеспокоюсь о том, чтобы не осталось никакого следа, который мог бы послужить доказательством для полиции. Не тревожьтесь, все хлопоты возьму на себя. Я не могу равнодушно взирать на горе вашей дочери. И, скажите, разве не долг христианина – помочь своему ближнему? Если пани Анна разрешит, я сам готов взять на себя роль жениха и разыграть ее до конца. – Сделав маленькую паузу, Калиновский клятвенно произнес: – Ну, а что касается защиты пана Руденко-Ясинского, я буду отстаивать это дело как свою честь: выеду в Россию, найму лучшего адвоката, и мы выиграем процесс.
Глава восьмая
НОВАЯ ИНТРИГА
Нет, не горестная судьба двух любящих людей заставляет Людвига Калиновского нервничать, совершая обычную утреннюю прогулку по Кайзервальду[18]18
Лес, расположенный недалеко от Лысой горы во Львове.
[Закрыть] верхом на породистой лошади.
«Нельзя полностью предвидеть все… А если Руденко-Ясинского помилуют? Если всего лишь – Сибирь и каторга? – спрашивает себя Калиновский. – Тогда… тогда суровые испытания еще больше сблизят Анну с мужем. Их любовь, их несломленное доверие друг к другу всегда окажутся выше заблуждений, обид…»
И злой мозг Людвига Калиновского плетет новую интригу.
«Они должны умереть друг для друга… Да, да, скорбное известие о трагической смерти Анны, которое Руденко-Ясинский получит в тюремном каземате, пожалуй, самое верное оружие, способное убрать с дороги этого хлопа, – принял решение Калиновский. – А с ней… Здесь надо осторожнее».
Калиновский резко повернул лошадь и рысью помчался в город.
Спустя час, приняв ванну, переодетый и надушенный, Людвиг Калиновский выпил кофе и направился в кабинет, куда вслед за ним лакей завел Магду Гжибовскую.
Гжибовская была подавлена великолепием убранства целой анфилады комнат, через которые ей пришлось пройти. И сейчас она с раболепием смотрела на окруженного сигаретным дымом и ароматом духов владельца всех этих богатств, которым, ей казалось, и цены нет.
«Вот как? Этот миллионер во мне нуждается? Надо переписать и подписать какое-то письмо? Сто крон за такую услугу… – по спине Магды Гжибовской пробежала легкая дрожь, тогда как в глазах, тусклых, как у рыбы, вспыхнули искорки алчности. – О, я не дам наступить себе на ногу…»
Она прочла письмо. Страшное письмо.
С минуту она колебалась. «Безрассудно отказываться от таких денег… – нашептывала ей жадность. – Ты же не из тех, кто предпочитает жить бедняком, чем разбогатеть грехом? Ну?»
Но Магда Гжибовская возвела очи к небу.
– О, нет, нет, пан меценас![19]19
Адвокат.
[Закрыть] – Гжибовская молитвенно складывает руки и вздыхает. – Как я могу это засвидетельствовать? Пани Анна и ее мать переехали от меня живые и здоровые. А здесь написано… Да и у меня потом не хватит денег на свечи, чтобы вымолить у бога прощение за такой грех.
Вместо ответа Калиновский, обаятельно улыбаясь, достал из ящика письменного стола чековую книжку и, выписав на предъявителя двести крон, положил чек перед женщиной.
Взглянув на сумму, Магда Гжибовская дрожащими руками почти схватила чек и поспешно спрятала в свой бархатный редикюль. Затем она взяла из рук Калиновского протянутое ей перо и склонилась над письмом. По в следующее мгновенье, словно ее ужалила в руку оса, она выронила перо.
– О, я не могу… – вымолвила она. – Это слишком большой риск.
Улыбка Калиновского, казалось, говорила: кто ничем не рискует, тот ничего не получает.
Не без сожаления, как успел подметить Калиновский, хозяйка меблированных комнат достала из редикюля чек и положила обратно на стол.
Калиновского не озадачишь. Он молча выписал второй чек и на такую же сумму. Оба подтолкнул в сторону женщины.
Узкая ладонь Гжибовской легла на чеки.
– Пан меценас, – почти прошептала хозяйка меблированных комнат, – а если муж пани Анны вернется?
Калиновский молча отвел ее руку, взял оба чека и бросил их в ящик письменного стола.
«Сумасшедшая! Что я наделала? – губы женщины заметно дрожали. – Вот уж правда, что малая оплошность может довести до большой беды…»
Тем временем Калиновский достал из портмоне уже подписанный чек и положил перед ней. Начиная какое-нибудь дело, он всегда думал о конце.
– Пятьсот крон? – не поверила своим глазам женщина.
– Я попрошу вас, пани Гжибовская, переписать это письмо, – все с той же мягкой улыбкой, которая не сходила с лица, промолвил Калиновский. – И не бойтесь, этот хлоп больше никогда не появится во Львове.
– О, конечно, конечно, я сейчас выполню вашу просьбу, – пряча в редикюль чек, закивала головой женщина. – Я надеюсь на вас как на каменную стену.
А вечером Калиновский посетил своего духовного наставника, отца каноника из костела Марии Снежной, чтобы завершить свой коварный план.
Глава девятая
ПЕРЕД КАЗНЬЮ
Людвиг Калиновский с семьей поселился в Вене, на Клангенфуртерштрассе, в пансионе фрау Эльзы Марии Баумгартен, напротив роскошной виллы барона Рудольфа фон Рауха, утопающей в зелени и цветах.
Пансион фрау Баумгартен состоял из трех небольших живописных коттеджей, окрашенных в синий, розовый и зеленый цвета. Стояли они на некотором расстоянии друг от друга вдоль улицы, отделенные от нее легкой металлической сеткой, густо заросшей вечнозеленым плющом. К домикам через цветники вели аккуратно подметенные дорожки, вымощенные кирпичом. Вокруг раскинулся фруктовый сад. Пансион был рассчитан на богатых туристов. Каждый коттедж – для одной семьи. К услугам гостей здесь было все, даже кухарка, горничная и лакей.
За последние семь лет Людвиг Калиновский часто снимал коттедж у фрау Баумгартен. Его особенно устраивало то. что хозяйка пансиона умела молчать и хранить тайны клиентов.
К величайшему удовольствию фрау Баумгартен, которая хорошо знала покойного Адама Калиновского – скрягу, Людвиг, его сын, был полной противоположностью родителю. Страстью молодого Калиновского были оргии. Женщины, шампанское, карты…
Иногда порог зеленого коттеджа переступала молодая, стройная женщина. Густая вуаль скрывала ее лицо. Фрау Баумгартен хорошо знала ее имя. Но поскольку будущий наследник миллионов с королевской щедростью одаривал свою хозяйку, она на все закрывала глаза, а главное – часто меняла прислугу в зеленом коттедже.
Людвиг любил женщин и был любим ими. Поэтому не трудно представить удивление фрау Баумгартен, когда Людвиг Калиновский вдруг женился. Сначала она не поверила, считала это одной из многочисленных проделок своего богатого клиента. А женщина, которую Калиновский назвал своей женой, по мнению фрау, – просто красивая любовница, которую он привез из-за границы для развлечения.
«Да, но зачем тогда Калиновский платит за год вперед и оставляет в коттедже красавицу польку с матерью, если сам уезжает куда-то в Россию? Такого никогда не случалось, – забеспокоилась владелица пансиона. – Впрочем, у Этого плута Калиновского никогда правды не добьешься. Возможно, комедия с женитьбой нужна ему для того, чтобы отвести глаза барону Рауху? Только вряд ли это ему удастся. Барон хитер и коварен». Сама фрау Баумгартен едва не попалась на удочку. Она хорошо помнит ту встречу с бароном. Подходит он как-то и спрашивает:
– Скажите, уважаемая фрау Баумгартен, где вы достали чудесную картину, которой очаровали баронессу? Я имею в виду ту, которая висит в кабинете пана Калиновского. Баронесса просит, чтобы я у вас купил ее за любую цену.
И не сообрази фрау, что этим самым барон хочет получить подтверждение, будто его жена бывает в пансионе у пана Калиновского, – скандала не миновать. Нет, фрау Баумгартен не так уж наивна. Она удивленно глянула на барона и ответила:
– Герр барон, вы, несомненно, ошибаетесь, баронесса никогда не была в коттедже пана Калиновского. Удивляюсь, как могла ей понравиться картина, которой она никогда не видела… – И, уловив его досаду, продолжала: – А может быть, вы сами рассказали баронессе об этой картине, а потом забыли?
– Возможно, возможно, – пробормотал барон, чтобы выпутаться из неловкого положения, и попросил: – Все-таки, не будете ли вы так любезны, фрау, продать мне картину?
Пришлось сказать ему, что картина принадлежит пану Калиновскому и барон должен поговорить с ним сам.
Эльза Мария Баумгартен за словом в карман не лезла, если нужно было отстаивать честь своих жильцов.
За такую преданность Людвиг Калиновский подарил ей массивный золотой браслет. И, откровенно говоря, фрау Баумгартен всей душой желала, чтобы красивую молодую польку в коттедже Калиновского сменила какая-нибудь черноокая мадьярка, или – еще лучше – пусть его навещает баронесса.
Но, к великому разочарованию фрау Баумгартен, одно обстоятельство чрезвычайно поразило ее: белокурая полька ждет ребенка.
«Бог мой, Людвиг Калиновский будет отцом!» – с насмешливой улыбкой пожимала плечами фрау Баумгартен. Нет, такого безрассудства она от него никак не ожидала. И потом, что за фантазия ехать сейчас в Россию, когда русские воюют с турками?
В день отъезда Калиновского Анне казалось, что никогда не наступит вечер. За обедом, который тянулся нестерпимо долго, она не проглотила и кусочка. Сидела молчаливая, бледная. Ее раздражал запах лаванды, шедший от Калиновского.
И хотя Анна своими глазами видела заграничный паспорт на имя Людвига Калиновского, хотя они с матерью сами проводили его на вокзал, искренне веря, что он спешит на помощь Ярославу, Калиновский, с присущей ему осторожностью дипломата и недоверчивостью дельца, скрыл от своего управляющего, что уезжает не в Россию, а во Львов.
* * *
В конце лета 1877 года, ранним утром, когда первые лучи солнца еще не успели рассеять туман, из приземистых кованых ворот варшавской цитадели, тарахтя колесами, выехала кибитка. Впереди и сзади ее, гулко цокая подковами по каменной мостовой, скакали по два конных жандарма.
В кибитке – пять арестантов в кандалах. Прижатые друг к другу, как пальцы в тесной обуви, они даже не могли протянуть ног.
Ярослав Руденко в арестантской дерюге, бледный, заросший, прислушивается к разговору двух молодых поляков, успевших за год заточения в крепости стать на целую жизнь старше: они обманули смерть, приходившую каждый день под дверь их каземата. Казнь не состоялась, ее заменили каторжными работами в рудниках и пожизненным поселением в Сибири.
Тот, которого товарищ называл Домиником, с гордым профилем и темными бровями, напоминавшими крылья птицы, возмущается низостью тюремщиков, украдкой на рассвете втолкнувших их в эту сумрачную клетку на колесах, не дав проститься с родными и друзьями.
– Оторвать от родины, семьи, товарищей… – сжимал он кулаки. – Но я бы с готовностью отдал жизнь, лишь бы освободился мой народ.
– Вы, вероятно, хотите сказать «мой народ, но без тех поляков, которые его угнетают, которые не живут в бедных лачугах варшавского Маримонта»?
Молодой поляк стремительно вскинул брови и, как Ярославу Руденко показалось, приветливо посмотрел на него. То ли потому, что он сказал это на родном языке Доминика, то ли потому, что был с ним согласен, но его взгляд был дружеским.
С минуту помолчав, Доминик вновь с жаром заговорил:
– А они боятся… «светлейший государь» и… наши польские лизоблюды. Да, боятся. Страх – первый признак их поражения.
– Чего боятся? – тихо спросил пожилой лобастый арестант.
– Кандального звона. Потому и везут нас в «карете с комфортом», а не гонят этаном. Народ не слепой: сыны «свободного» Королевства Польского и… в цепях!
– У наших палачей, друг мой, достаточно наглости, чтобы совершать и публичные казни, и тайные расправы, – возразил ему второй, белозубый юноша.
– Но все-таки нас везут, – упрямо доказывал Доминик.
– С первой же пересылки погонят этапом, – уверенно сказал лобастый арестант. – Придется отмерить ногами не одну сотню верст.
– Вы тоже в Сибирь? – спросил Доминик у Руденко.
– Нет, на юг. В Одессу. А уж после суда…
Он не закончил фразы и, растирая рукой занемевшую ногу, надолго задумался, ощущая в душе все тот же ледяной холод, как и после трагического известия из Львова.
Много дней понуро бредет колонна арестантов, звеня кандалами. Их одежда, волосы, брови и ресницы совсем поседели от пыли. Пыль хрустит на зубах, набивается в нос, в горло. Дышать становится тяжко. И люди начинают с надеждой вглядываться в каждое облако, гонимое ветром. Только бы пошел дождь… Но и дождь, если не промчится быстро, принесет настоящую беду. Тогда арестанты, проклиная дождь и свою горемычную судьбу, побредут по грязи глубиной в пол-аршина.
Ночевали чаще всего под открытым небом. А на заре, разбуженные окриками конвоиров, арестанты поднимаются, дрожа от холода, торопливо сдирают с волос и одежды колючки.
Иногда к Большому шляху сбегаются деревенские дети. Они с опаской, исподлобья провожают «пропащих людей, которых бог покинул», как про арестантов говорят старшие.
Проходит неделя, вторая, третья, а этап в пути.
Месяц минул, прежде чем вдали показались тополя и белые мазанки.
«Наконец-то дошли… это Украина», – с облегчением переводит дух Ярослав Руденко.
Придорожный «журавель» возле какого-то украинского села превращает несчастных в диких зверей. За глоток воды, нечаянно пролитый из бадейки, виновного готовы растерзать. Жадно пьют из каменной колоды, где обычно кучера останавливаются «напувать» лошадей.
Ах, разве есть силы выжидать, когда бадейка дойдет до твоих рук? И люди бросаются на землю у колодца, истыканную копытами лошадей, и жадно пьют прямо из луж.
И снова в путь.
Но что случилось? Почему по всем дорогам снуют жандармы? При звуке рожка приближающегося дилижанса колонну арестантов конвой оттесняет к обочине дороги.
«Не степной ли смерч настигает дилижанс? – думает Руденко, видя, как клубится что-то вдали. – Нет, то опять отряд конных жандармов».
Жандармы настигают громоздкий дилижанс почти у самой колонны.
– Стой! Садись! Быстро! – приказывают конвоиры.
Арестанты опускаются на запыленную полынь.
Смертельно перепуганный кучер, одноглазый, с рыжей бородой, изо всей силы натянул поводья:
– Тпрр-р-р, бисова тварюка!
Длинноусый жандарм, с лицом калмыцкого типа, придерживая рукой карабин, лихо спрыгнул с коня, который, как разъяренный зверь, грыз удила и ронял пену. Распахнув переднюю дверцу дилижанса, длинноусый жандарм грозно прокричал:
– Господа, проверка документов!
Тощий жандармский офицер не спеша слез с лошади и скрылся в дилижансе.
…С наступлением темноты этап прибыл в винницкую пересыльную тюрьму. Здесь Ярослав Руденко узнал, почему на дорогах мечутся жандармы.
Оказывается, две недели назад из киевской тюрьмы бежали политические заключенные за попытку поднять вооруженное восстание крестьян Чигиринского уезда. Их ждал суд и смертная казнь. Среди беглецов находился и сын деревенского священника Яков Стефанович, душа заговора. В какие-нибудь восемь месяцев этот энергичный, умный и решительный человек сумел вовлечь в заговор, поставленный на военную ногу, не одну тысячу крестьян из нескольких губерний. Они ждали сигнала к восстанию в первый же день ближайшего праздника.
В церквях было полным-полно народу. Крестьяне наивно верили, что сам бог исполнился состраданием к мукам и горю мужицкому и благословляет их на справедливое дело. Откуда им было знать, что еще с давних времен действует указ Петра I, который обязывает священников доносить властям о выявленных на исповеди «преднамеренных злодействах против службы государевой или церкви»? И священники поспешили донести властям о заговоре.
Начались обыски, аресты. Схваченных истязали, пороли розгами, томили без пищи и воды, но они молчали словно камни.
Люди перестали ходить на исповедь.
Не зная, как проникнуть в тайну заговора, полиция бесновалась. Хватали новых и новых крестьян. Уже было арестовано больше тысячи, а крестьянское движение, подобно горной реке после ливня, бурля, разливалось вокруг.
И все-таки нашелся предатель. Им оказался содержатель кабака. Через него и узнала жандармерия имена вожаков заговора. Их схватили и заточили в киевскую тюрьму, где втрое усилили охрану. Но смельчаки не ждали покорно суда и казни. В одну из темных ночей они бежали. Вот и охотятся сейчас жандармы за отважными чигиринцами и их предводителем.
… Три недели спустя этап подходил к Одессе. И здесь тоже по всем дорогам рыскали своры жандармов. По их хмурым, злым лицам нетрудно было догадаться, что преследователям пока не удалось напасть на след беглецов.
…Около двух часов стоит колонна арестантов на перекрестке дорог, выжидая, пока пройдут войска, спешащие на турецкий фронт.
Теперь дорога потянулась через виноградники, зеленеющие широкими разливами в степи. Конвоиры держат карабины наготове. Стоит кому-нибудь отклониться от колонны на шаг влево или вправо, выстрел последует без предупреждения.
Изнуренные голодом и жаждой, с кровоточащими ранами на ногах, стертых, сбитых кандалами, этапники жадно едят глазами иссиня-черные, сочные и ароматные, как им кажется, ягоды «муската».
До чего же обессилел этот молодой, высокий молдаванин с землисто-серым, отекшим, словно после морской болезни, лицом. Потрескавшиеся губы парня что-то шепчут, но разобрать Ярослав Руденко может лишь одно слово: «Ляна»…
Может быть, это имя его сестры или невесты, кто знает? И не грезится ли ему сейчас, что не тонкие ветви лозы, а гибкие девичьи руки Ляны тянутся к нему… Как щедра к его любимой и ее подругам добрая осень! Как цветисто она разодела подтянутых, стройных девушек, усыпав их светло-зеленые платья гроздьями винограда… И может быть, в шелесте листьев, похожих на большие человеческие сердца, парень слышит голос Ляны: «Как ты долго шел ко мне… Подойди же ближе, подойди…»
И вдруг парень бросается в гущу винограда. Иссохшими губами он приникает к большой черной грозди и, осыпая ее поцелуями, шепчет: «Ляна… Ляна… Ляна…»
Внезапный выстрел. И парень без крика и стона, вскинув руки, насколько могли позволить кандалы, медленно осел и вдруг повалился лицом вниз, ломая лозы.
Подбежавший конвойный нагнулся над ним, пощупал пульс. Затем перевернул арестанта на спину и свел ему руки на груди. Выпрямился, снял бескозырку, перекрестился.
Подбежал к начальнику конвоя, доложил:
– Представился, ваше благородие.
В числе тех, кому приказали вырыть яму для убитого, оказался и Руденко, потрясенный бессмысленной жестокостью, которая совершилась на его глазах.
«Парню, видно, не больше двадцати…» – сокрушенно вздохнул Руденко, отходя от невысокого могильного холма.
Несколько дней спустя, когда его онемевшие ноги почти отказывались двигаться, а тело покрылось испариной и по лицу текли капли нота, вдруг неожиданно впереди засверкало море, залитое солнечным светом.
Недалеко от берега чайки охотились за рыбой, то падая вниз, широко распластав белые крылья, то с ликующим криком взмывая вверх.
Проплыли две большие рыбачьи лодки.
И от свежести легкого морского бриза, шума набегающих волн, что, ударяясь о прибрежные камни, рассыпались высокими фонтанами брызг, перед глазами Ярослава Руденко ожили картины детства.
…Море ласково плещется у каменистого обрыва, где на днище опрокинутой лодки сидят с удочками трое мальчуганов.
– Сла-а-а-вик! – откуда-то сверху доносится тревожный женский голос.
– Это опять попадья. Она нам всю рыбу распугает, – угрюмо роняет взъерошенный, вечно сопливый сын дьяка Лаврентия. – И чего она, Славка, так боится, когда ты на море?
Славик не любит, когда неряшливый Тишка называет его маму «попадья». Попадья толстая, курносая, и глаза у нее, как у ваньки-встаньки, бегают туда-сюда, туда-сюда… Это жена батюшки Феофана, они живут в Феодосии, Славик ходил к ним с папой…
– Христом богом, молю, сыночек, не бегай к воде, – глаза матери, всегда сияющие чистотой, сейчас полны слез. Тоненькая, совсем как девочка, только что в длинном платье, она едва не плачет.
– Не бойся, мама, я не утону, я умею плавать.
Славик уверен, что его слова как рукой снимут мамину тревогу и на ее лице появится улыбка, в которой светится что-то невыразимо нежное.
Взрослые всегда умеют так сказать, что им просто нечего возразить. Да, конечно, мама права, те двое мальчиков из рыбацкого поселка, которых недавно отпевал его папа, умели плавать не хуже дельфинов, а все-таки утонули…
Умытый, причесанный, в чистеньком отглаженном костюмчике, Славик идет с мамой в церковь. Он горд, что его мама внушает к себе уважение, потому что все люди с ней здороваются, и по их ласковым взглядам он угадывает, что они любят и его тоже.
Нет, Славик не все понимает, о чем с мамой говорят рыбачки, но одно ясно: говорят они о священнике, значит о папе. Рыбачка с большими жилистыми руками, которая несет младенца, сказала:
– Наш священник добрее, чем бог.
Отец… Он запомнился большим, русоволосым, с бородой и усами. Но при всей его степенности в его живых карих глазах часто вспыхивали искры сдержанного смеха. Устремив на человека свой добрый взгляд, проникавший, казалось, в самую глубину души, он умел успокоить, обнадежить человека.
После смерти жены священник замкнулся в себе, и Славик обрел неограниченную свободу.
Спозаранку, наскоро позавтракав и схватив в придачу кусок хлеба, он убегал к рыбакам, где пропадал весь день. Как все мальчишки, участвовал в уличных баталиях, в горячке боя кидался камнями, не давал спуску обидчикам. Одним словом, умел постоять за себя.
И каждый день он наблюдал горе рыбацкое, которому, подобно морю, казалось, не видно берегов.
Как-то вечером, когда дети рыбаков играли в прятки, Славик вбежал во двор и присел под стенкой у открытого окна мазанки. И тут он услышал, как кто-то в комнате сказал:
– А ваш поп, если хотите знать, опаснее пристава!
По низкому густому голосу Славик узнал дядьку из порта.
– Ты уж не бери греха на душу, Савелич. Истинный крест, наш священник – добрейший человек. В эпидемию скольких людей от смерти спас, а его жена жизни своей не пожалела.
«Это сказал рыбак, у которого шаланда «Мария», – узнал мальчик.
– Да?
– Таких людей поискать надо.
О, как мальчик был благодарен, что рыбаки не давали его отца в обиду.
– Уши вянут вас слушать! – усмехнулся Савелич. – Что господин Любченко, скупая у вас оптом рыбу, держит вас за горло, вы знаете. Что он нажил миллион на вашем горбу – вы тоже знаете. Что пристав, прохвост и взяточник, всегда держит сторону любченков, вы тоже понимаете. А вот что поп разжимает ваши кулаки, которыми надо стукнуть по любченкам, этого вы не понимаете. «Все люди братья», – проповедует он с амвона. Хорошо, пусть братья. Но почему вы – нищие и обездоленные? Почему ваши дети ходят босыми и оборванными? Почему вы живете в таких халупах? А ваши «братья» любченки живут в роскошных дворцах. Их дети учатся в гимназиях. Где ж тут правда вашего попа?
Давно кончилась на улице игра, в которой мальчишки мерились в хитрости, ловкости и осторожности. Недосчитавшись сына священника, они принялись громко его звать.
Но мальчик, казалось, не слышал их. Потрясенный открытием, которое молнией сверкнуло в его уме, он сидел будто пригвожденный. Его отец приносит беднякам зло…
Славик бежал домой, захлебываясь слезами. Но, увидев сгорбленную спину отца, мальчик украдкой вытер кулаком тяжелые слезы. Впервые его честное и прямое сердце не открылось перед отцом…
Как бы прогоняя нахлынувшие воспоминания, Ярослав провел рукой по лбу.
Между тем, арестованных пригнали в одесскую тюрьму, которую узники называли «домом ужасов». Число самоубийств, случаев умопомешательства и смерти среди политических заключенных здесь достигало огромной цифры.
В конце января 1878 года состоялся суд, и Ярослава Руденко приговорили к смертной казни через повешение. Приговор еще не был окончательно утвержден, но приговоренный содержался в камере смертников.
Даже сюда, сквозь трехаршинную толщу каменных стен и глухих железных дверей, долетел из далекого Петербурга отзвук выстрела Веры Засулич, покушавшейся на петербургского градоначальника генерал-адъютанта Трепова.
Нет, эта девушка, почти ребенок, вовсе не была террористкой. Она даже не состояла в партии, которая боролась против деспотизма, но она добровольно, по велению своего сердца пошла на самопожертвование. Кто был для Веры студент Боголюбов? Родственник? Нет. Возлюбленный? Нет. Она никогда не видела и не знала его. Он был политический арестант. Вера мысленно представляла себе, как под окнами камер для женщин, испуганных чем-то необычайным, происходящим в тюрьме, вяжутся пучки розг, как будто бы предстоит пороть целую роту; разминаются руки, проводятся репетиции экзекуции. Перед глазами Веры вставало бледное, изможденное лицо молодого узника, не ведающего, что его ждет… Боголюбова привели на место экзекуции, и он обмер, пораженный известием о готовящемся ему позоре. За что? Не снял шапки при вторичной встрече с градоначальником… И вот молодой человек, который за участие в манифестации на площади Казанского собора лишен всех прав состояния и присужден к каторге, лежит распростертый на полу, позорно обнаженный, не имея никакой возможности сопротивляться. Свистят березовые прутья… И девушка задает себе вопрос: «Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника? Кто смоет, кто и как искупит позор, который всегда неутешимой болью будет напоминать о себе узнику? Да, осужденный с твердостью переносит суровую каторгу, но не примирится с издевательством…»
И Вера Засулич мстит за него, и за себя тоже, ведь ей едва минуло семнадцать лет, когда без суда и следствия ее бросили в застенок Литовского замка, а затем в казематы Петропавловской крепости. Два года она не видела ни старушки матери, ни родных, ни знакомых…
Какое она совершила преступление? Однажды в учительской школе, куда Вера ходила изучать звуковой метод преподавания грамоты, она случайно познакомилась с одним студентом и его сестрой. Да, Вера раза три или четыре принимала от него письма и передавала их по адресу, ничего, конечно, не зная о содержании самих писем. Но оказалось, что молодой человек играл какую-то видную роль в студенческих волнениях: его арестовали и объявили государственным преступником. Пало подозрение и на Веру.
И вот – отняты мечты, отнята юность. Вместо радости, солнца, цветов, обрызганных росой, вместо любви – тюремные решетки на окнах под потолком, редкие прогулки, плохое питание. Поднимало дух только сознание, что ты не одинок, что рядом с тобой за одной стеной и за другой томятся товарищи – жертвы несправедливости и жестокого произвола.
Через два года Веру выпустили, не найдя никакого основания даже предать ее суду. Вскоре девушку снова схватили в ее доме. А через пять дней в пересыльной тюрьме ей сообщают: «Пожалуйте, вас сейчас отправляют в город Крестцы». Девушка обомлела. Ведь еще апрель, холодно, а на ней одно платьице и легкий бурнус. «Как отправляют? Да у меня нет ничего для дороги. Подождите, по крайней мере, дайте мне возможность сообщить родственникам, предупредить их. Я уверена, что тут какое-нибудь недоразумение. Окажите мне снисхождение, отложите отправку хоть на день, на два». – «Нельзя, – говорят, – не можем по закону, требуют немедленно вас отправить».