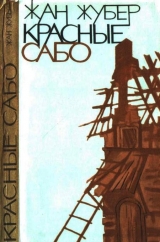
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
При виде Парижа Андре охватывает волнение, почти радость. Он самостоятельно доходит до такси и говорит Жоржу:
– Знаешь, мне лучше! – И потом – Я хотел бы… я хотел бы проехать по Парижу. Это не слишком дорого, а?
Что же он хочет увидеть? Сену, Елисейские поля, Сен-Жермен и Люксембургский сад, и еще библиотеку Сент-Женевьев. Там он просит шофера на минутку остановиться.
– Посмотри, – говорит он Жоржу, – вот сюда я ходил читать по вечерам. У них есть все на свете книги. Надо будет как-нибудь показать тебе.
– Конечно, мы обязательно побываем там вдвоем, когда ты выздоровеешь.
Его помещают в больницу, где он чувствует себя потерянным, чужим для всех, он присылает оттуда короткое письмо, написанное карандашом на листке, вырванном из блокнота:
«Мое окно выходит как раз на стену соседнего здания, но перед ним есть крошечный садик с несколькими деревцами, кустами и скамейками, так что, в общем, все не так уж грустно…»
Я отправился в Клозье. Башни продолжают наступать на долину, где прежде были сады и огороды, но дядин домик все еще стоит, где стоял, – памятник ушедшей жизни, со своими тремя деревцами, огородиком, теперь уже совсем крошечным, и полуразвалившимся курятником.
– Значит, тебе нужен портрет Андре? – говорит мне Жаклина. – Он наверху, в маленькой комнатке. Иди вперед, а я за тобой. Нога у меня совсем разболелась, никуда не годится.
Эта комната нравится мне больше других: небольшое бюро, диванчик, по стенам – сплошь полки с книгами, фотография бурделевской маски Бетховена, репродукция фрагмента «Потопа» Микеланджело – женщина с напряженным, суровым лицом держит на руках ребенка, – а там, в углу, портрет; я подхожу и долго, пристально вглядываюсь в него: лицо такое же, как на ранее снятой фотографии, но черты его обострились, посуровели. Меня удивляют едва заметные усики, на фотографии их вроде не было, но, скорее всего, они отросли у него за несколько недель, проведенных в больнице. Рисунок сделан не очень умелой рукой, и все же в нем ясно угадываются увлеченность и талант художника, еще несколько неуверенный, боязливый. Можно до бесконечности размышлять об этих рано умерших юных существах, о том, что они хотели и обещали свершить; создать, быть может, некое творение, которое выросло бы подобно дереву, что принимается на самой бесплодной почве, презрев все трудности и препятствия. Хватило ли бы у Андре веры и сил преодолеть эти препятствия? Я вопрошаю эти глаза, которые смотрят на меня тем же пристальным взглядом, каким смотрели пятьдесят лет назад на себя в зеркало, я ищу в них ответа на другой, еще более важный, более существенный вопрос – и, так же, как он в ту минуту, вижу в них только смерть, одну только смерть.
– Он был замечательный мальчик, – говорит Жаклина, – по воскресеньям частенько сидел у окна и рисовал, не то что другие, которые бегали в кафе, на танцульки, на всякие праздники. Я тогда была маленькая, я подходила и заглядывала к нему через плечо. А он говорил: «Ничего не получается». Я так им восхищалась.
Она тоже считает, что я похож на него, у нее такое чувство, говорит она, будто я его наследник, будто я принял как эстафету тот страстный поиск, который ему не дано было довести до конца, а теперь я продолжаю его с помощью Слова.
Как-то днем он попросил зеркало – сиделка принесла его из своей комнаты и положила ему на постель, прислонив к согнутым коленям, чтобы ему легче было увидеть себя. Он рисовал около часа, а может быть, даже два.
– Ты, наверное, устал, мальчуган?
– Нет-нет, не беспокойтесь!
Закончив портрет, он подписался и поставил дату: 12 мая 1920 года.
– У меня болят глаза, – сказал он, – я очень устал.
Ночью он умер.
У меня есть только две фотографии моей матери в юные годы – их разделяют десять лет. Первая была сделана в 1914 году, в начале войны, карточку хотели послать Жоржу, который находился на фронте в районе Марны. Это групповой снимок с «продуманной композицией». В центре, в неизбежном бархатном кресле, сидит Жермена. На ней длинная, широкая черная юбка и блузка со стоячим воротником, под которой угадывается довольно полная грудь, от Жермены веет невозмутимым спокойствием. Рядом с ней, сжимая ее руку неосознанно ревнивым жестом, сидит Жаклина, она слегка хмурит брови, как бы желая утвердить свое первенство. Сзади, за ее спиной, – Жанна, а возле нее Андре – в воскресном костюме, жестком воротничке и при галстуке, стоит, опершись кончиками пальцев о спинку кресла. Моей матери здесь лет десять, она в узком платье, отделанном тонким белым кружевом, в темных чулках и высоких ботинках. Длинные прямые волосы сбоку около уха украшены довольно безвкусным бархатным бантом, но даже это не портит ее прелестного личика маленькой Джоконды. На этом семейном портрете, где позирующие тщательно расставлены и рассажены фотографом из Шаторенара, явно с душой художника, все взгляды устремлены в объектив и у всех на губах одна и та же слабая улыбка.
Вторая фотография – это небольшой портрет в овальной рамке, на оборотной стороне его четким почерком фиолетовыми чернилами сделана дарственная надпись тому, кто должен был стать моим отцом: «От твоей милой в двадцать лет с нежной любовью». Как же все изменилось за это десятилетие! Маленькая девочка превратилась в женщину, но даже и не в этом дело. Улыбка исчезла, уступив место серьезности, почти меланхолии, глаза словно стали больше, волосы подстрижены так коротко, что едва прикрывают уши. Впрочем, позже, после моего рождения, они станут еще короче, подстриженные по моде того времени «под мальчика». Главное, что поражает меня в лице матери, кроме по-прежнему трогательной и словно бы еще ярче проступившей красоты, – это то выражение печали, которому весь фон снимка, туманный и расплывчатый, сообщает нечто романтическое. Страдание, тревога оставили на этом лице свой след, и я вспоминаю слова матери, сказанные мне как-то: «Не так-то легко быть двадцатилетней! В этом возрасте я была не очень-то веселая». На фотографии это сразу бросается в глаза. Впрочем, причин для грусти было более чем достаточно: смерть ее матери, затем отца, затем Андре, четыре военных года и вечная нужда – ведь, пока Жорж был на войне, Жермена должна была кормить все семейство одна, на свои жалкие учительские гроши. Было от чего впасть в меланхолию, хотя я думаю, что деревенская жизнь со своими играми, посиделками, сменами времен года и долгими воскресными прогулками в полях для девушки ее возраста еще не совсем потеряла свою прелесть.
В четырнадцать лет ее посылают в Монтаржи, готовиться к экзаменам по «дополнительному курсу». Она живет пансионеркой у мадам Буассан, грязной, злой, волосатой старухи, в ее мрачной квартире на первом этаже, в самом центре города. Ей отвели узенькую комнатку с железной кроватью, одним соломенным стулом и туалетным столиком, на котором стояли таз и фаянсовый кувшин для умывания; моя мать наверняка чувствовала себя очень одинокой, и, думаю, ей нередко случалось поплакать. В комнате было слишком холодно, и она не могла там заниматься, поэтому ей приходилось готовить свои бесчисленные, так изнурявшие ее задания в кухне, под неумолчное ворчание старухи о том, что керосин, мол, нынче недешев и что нечего здесь ночи просиживать, пора идти спать.
– Но я же еще не кончила заниматься!
– Заниматься, милочка, надо поживее, нечего тут волынку разводить!
Из крана мерно капает вода. Коридор насквозь пропах капустным супом и кошачьей мочой.
Именно в это время, я полагаю, она и переписывала в зеленую тетрадь свои любимые стихи: больше всего Сюлли Прюдома, Жоржа Роденбаха, но также «Марсельезу мира» – тут, несомненно, сказалось влияние Жермены, – потом идут Леконт де Лиль, Виньи, «Младая пленница» Шенье, стихи Верлена, и среди них, конечно, знаменитое «Сердце мое плачет».
Тетрадь эту можно считать своего рода дневником, ибо выбор стихов определялся душевным состоянием моей матери. Томная, тянущая тоска этих любимых ею поэтов, без сомнения, была для нее каким-то чудодейственным эхом ее собственной грусти, одновременно и растравляя, и смягчая ее. А вокруг одни дожди и туманы, тусклые дни, мрачные сумерки и сухая палая листва. Я слишком хорошо помню Монтаржи времен моих отроческих лет, и мне легко вообразить себе, какими глазами моя мать – сирота, оторванная от родных, – смотрела на этот застывший, серый мирок. И для нее тоже здесь была вечная осень!
Когда она старательно списывает «Первое одиночество» Сюлли Прюдома:
Вот школа: мрак и неуют,
Малыш в слезах с утра.
Другие скачут и поют,
Он – в уголку двора, —
я знаю, что она видит: темный школьный двор, похожий на тюремный, пропахший пылью и мокрой шерстью, блестящие от дождя стволы платанов, порывы холодного ветра, лужи, холод, свет в окне класса, где она сейчас сядет за парту и будет заниматься. А ведь есть же где-то другая жизнь: то ли в воспоминаниях о деревне, то ли в предчувствии будущего, туманного, неопределенного, полного неведомых опасностей и тайн. Но пока что кажется, что этой, сегодняшней жизни не видно конца.
Траур, неодолимые препятствия, горести, несчастья – этим словам, которые мало-помалу становятся неотвязными, она пытается противопоставить несколько неубедительно оптимистичных цитат:
Хоть на единый миг – миг счастья безоглядный,
Сменивший горе миг, пред новым горем миг,
Тому, кто хмель любви и радости постиг,
На этот краткий миг пусть станет жизнь отрадной!
И внизу страницы следующий афоризм Байрона:
«Человек – это маятник, бесконечно колеблющийся между улыбкой и слезами».
Вероятно, эти слова вселяли в нее надежду: придет день, который принесет улыбку.
Я обнаружил эту тетрадь, когда мне было четырнадцать лет, а может быть, мать сама мне отдала ее, и, поскольку там еще оставались чистые страницы, я, естественно, продолжал вписывать туда стихи. Мне приятно думать, что мы с моей матерью как бы встретились в этой тетради, что Верлен послужил нам связующим звеном, ведь это им она закончила свои записи и с него же я начал, перейдя затем к Малларме, Рембо, Самену, Корбьеру и Франсису Жамму. Вспоминая свою тогдашнюю упоенность поэзией, я легко могу себе представить, как она наслаждалась стихами, как повторяла их про себя, шагая по улице со школьной сумкой под мышкой или вечером, перед тем как уснуть. В эти отроческие годы поэзия царила в тайниках наших душ и оба мы смутно предчувствовали, что именно в ней заключено главное. Мне страшно думать, что для молодых людей конца нашего века все обстоит иначе. За последние тридцать лет тяжеловесная тупость давит все сильнее и сильнее. И все же кто знает? Несколько лет назад меня пригласили в одну из школ поговорить о поэзии, после моего выступления меня окружили девочки в свитерах и джинсах. «Ну да, мы очень любим поэзию, – уверяли они, – вот, поглядите, мы даже переписываем свои любимые стихи». Взволнованный, я полистал тетрадку, протянутую мне одной из девочек – она стояла передо мной, чуть робея, опустив глаза, покусывая губки. В тетради я нашел стихи Арагона, Превера, Элюара, Десноса и даже стихотворение моего друга Роже Ковальского.
– А вот это где вы нашли?
– Я списала у подружки. Стихотворение мне понравилось, я взяла и переписала.
– Вы что же, передаете свои тетрадки друг другу?
– О, только близким подругам!
Итак, не все еще потеряно. На этих девочек, которые с сияющими глазами слушали стихи и стыдливо признавались в своей любви к слову, в чувствах, пробуждаемых поэзией, надвигалась безжалостная машина, опошляющая и разрушающая умы. Они сопротивлялись ей на свой манер, но я чувствовал, как хрупка и уязвима их стойкость. Сколько времени смогут они еще продержаться? Задай я им этот вопрос, они, без сомнения, убежденно воскликнули бы: «Всю жизнь!» Я снова вспомнил о зеленой тетрадке. Шестьдесят лет спустя эти девочки загорелись той же страстью, повторили то же действо.
После двухлетних занятий моя мать получила аттестат и сдала вступительный экзамен в Педагогический институт. Итак, она будет учительницей. Но во время медицинского осмотра она простодушно признается расспрашивающему ее врачу, что в детстве переболела дифтеритом. Этого оказалось достаточно, чтобы ее не приняли. Она говорила мне, что была не слишком огорчена: ей хотелось самой зарабатывать на жизнь, поскорее стать независимой. И, повинуясь той же неодолимой силе, которая тридцать лет назад толкала подыхавших с голоду крестьян в рабочие предместья, моя мать тоже пошла работать на завод. Уж мне-то никак не следует сожалеть об этом: ведь там она встретит моего отца. Голова идет кругом, как подумаешь, каким случайностям обязаны мы своим существованием.
Что же до моего отца, то он нанялся на завод в тринадцать лет, рассыльным в контору. Для него уже миновала пора игр в полях и песчаных карьерах. Он должен вставать затемно, шагать вместе с толпой других рабочих к мостику через реку и с утра до самого вечера бегать по длинным коридорам, разнося письма и всякие ведомости. Позже, заметив, что у него красивый почерк, ему доверили переписку бумаг.
Я обнаружил в чулане одну из его ученических тетрадей: все записи сделаны с трогательным старанием, аккуратные, идеально ровные строчки, слова тщательно выписаны фиолетовыми чернилами с красивым нажимом, изящные заглавные буквы. На полях учительские пометки: «хорошо», «очень хорошо», «удовлетворительно». В конце тетради клякса – ловко затертая, но все же успевшая наделать бед, она навлекает на владельца тетради мстительную реплику: «Грязно!», дважды подчеркнутую красным карандашом. Представляю, сколько страданий доставила она этому прилежному ученику, даже если причиной огреха была теснота на кухонном столе, где он делал уроки, проказы кошки или беготня Симоны.
Счет, диктант, наглядный урок, урок этики. О да, мораль прежде всего! Нужно любить родину, усердно трудиться, уважать законы, быть бескорыстным, честным, скромным и знать свое место. Страницы с диктантами полны коротких нравоучительных текстов, как, например, эта история юного рассыльного по имени Андре, которому поручают отнести счета некоему богатому коммерсанту. Служащий, который принимает их от него, пытается уговорить мальчика разделить с ним – тайком, разумеется! – лишние шесть франков, ошибкой выданные ему:
– Увы, в наше время служащие с трудом зарабатывают себе на пропитание. Они трудятся до изнеможения, им платят гроши, а хозяева не знают, куда девать деньги. К счастью, при известной изворотливости удается иногда урвать малую толику у скупердяя хозяина…
Но неподкупный Андре с возмущением отказывается от сделки.
Хозяин, который, притаившись в соседней комнате, все слышал, хвалит его за честность и хочет вознаградить, подарив ему эти самые шесть франков.
– Нет, мсье, – просто отвечает Андре, – я только выполнил свой долг, и мне было бы стыдно получать за это вознаграждение.
И, вежливо поклонившись, он удаляется, ничего не пожелав принять от хозяина.
Он бодро и весело шагает по улице, думая про себя: «Вот так так! Разве за честность нужно вознаграждать? Нет, честность не продается и не покупается, мой старый отец тысячу раз повторял это брату Жюльену и мне, и я никогда не позабуду его слова».
Трогательная добродетель, из которой тем не менее некоторые ловкачи умеют извлечь выгоду в нашу меркантильную эпоху, когда денежные воротилы, более чем когда-либо, наживаются и диктуют свои законы обществу. Третья республика, дарующая крохи образования народу, также хорошо умеет умерить его аппетиты.
Когда отцу исполняется девятнадцать лет, война вырывает работящего, спокойного юношу из привычной рутины бумаг, в которых бесконечно толкуется об одном и том же: резиновые сапоги, автомобильные камеры, шины. Война бросает его – без особого, впрочем, для него ущерба, не считая нескольких бронхитов, – из Салоник в Кобленц; когда он наконец возвращается домой, умирает его отец. Он поселяется в недостроенном доме вместе с Миной и Алисой, которая обожает брата и всячески за ним ухаживает. По воскресеньям он вскапывает грядки и клумбы в саду, мастерит что-нибудь или же, обманув бдительность сестры, отправляется потанцевать на деревенском празднике.
Рассматривая фотографии, где он снят молодым, его тонкое лицо и слегка насмешливый взгляд, мне легко представить, что ему нравится изображать из себя эдакого соблазнителя и что он умело пользуется неотразимой силой своих голубых глаз. Вот и моя мать, сталкиваясь с ним в коридорах завода, не остается равнодушной. Сперва они обмениваются улыбками, потом словами, затем назначают свидания, ведут задушевные разговоры. Любовь, та самая любовь, которую глухо обещали поэты из зеленой тетрадки, внезапно озаряет их серое существование. И предместье, и заводская контора, и бедная комнатка, где живет моя мать, – все вдруг волшебно преображается. Эти «минуты счастья»… ах, если бы они могли длиться всю жизнь!
Алиса, которая давно начеку, сразу чует опасность, и, едва ее брат заговаривает о свадьбе, дает ему ожесточенный отпор:
– Ну о чем ты только думаешь? Это же безумие! Тебе лучше остаться с нами!
Он слушает ее вполуха, помалкивает и продолжает поступать по-своему, хотя, как я подозреваю, все же переживает некоторую внутреннюю борьбу, так как еще с полгода не принимает никакого решения.
Наконец он женится, и, видимо, полагает, что он отделился от родных, держится от них на расстоянии. Мне это расстояние кажется маловатым. После короткого свадебного путешествия в Альпы молодая пара снимает крошечную квартирку на первом этаже в конце той же улицы, всего в пятидесяти метрах от родительского дома.
Упершись локтями в подоконник, я курю и смотрю вниз на сады, на «большой дом», что стоит чуть поодаль и выглядит сейчас необитаемым, на новую виллу на месте бывшей гранитной мастерской. Мне немного жаль эту исчезнувшую мастерскую. Все свое детство я любил разглядывать нагромождения плит, колонн и крестов, слушал пронзительное стальное визжание большой пилы, впивавшейся в камень. Все это давало богатую пищу моим неотвязным думам о смерти; прикрыв глаза, я, как сейчас, вижу двор мастерской, летом заросший высокой травой, зимой занесенный снегом: мое «русское кладбище», где не хватало разве только волков. А еще по этому двору одно лето гуляла Катрин, в которую я был влюблен или воображал, что влюблен.
А в садах вечно копошился работящий народец, который, смотря по времени года, мотыжил, копал, поливал или собирал урожай: мужчины в каскетках, женщины в фартуках; они сохранили в себе деревенскую жилку – «легкую руку на зелень» и неизбывное трудолюбие. Конечно, им надо было прокормить семью, вот они и работали не разгибая спины, не щадя своих сил, не жалея навоза, но для них это было также способом сохранить свои деревенские корни в этом рабочем предместье, куда их выгнала нужда. Здесь, на этих лоскутных огородиках, они вновь обретали все тяготы и радости, связанные с землей, от которой они бежали, но, убежав, не смогли оторваться. К вечеру они разгибали натруженные спины, вытирали потные лица и отдыхали, опершись на ручку лопаты или мотыги. Казалось бы, еще немного, и они молитвенно сложат руки, заслышав звон к вечерне. Вот только запахи – запахи здесь были не деревенские. Когда ветер дул с востока, он доносил паровозную гарь из железнодорожного депо; с запада попеременно налетали то едкий дым из Сен-Гобена, то сладковатый запах с Хатчинсоновой фабрики, то густой дух асфальтового завода.
Дом одной стороной выходил на грунтовую дорогу, которую дожди мгновенно превращали в непроходимое болото; с задней стороны к нему примыкал тесный дворик с сарайчиками, откуда проходили в сад и огород.
Когда я родился, родители мои снимали две комнаты – кухню и спальню и жили в большой тесноте. Домовладельцы – пожилая крестьянская пара, ушедшая на отдых, – жили на втором этаже и занимали еще одну комнату на первом, которую в конце концов тоже уступили моим родителям. Нужно было только пробить в нее дверь, это оказалось нетрудно сделать, и теперь жить нам стало просторнее.
Вот в этой самой комнате я и родился. Мой отец ждал в кухне, сидя в углу у очага, а в спальне суетились Мина и повитуха. Стояло сухое и ясное зимнее утро, солнце сияло. Я издал слабое мяуканье. Женщины крикнули:
– Это мальчик! – И все забегали еще пуще.
– Умница, малышка, – сказала повитуха моей матери, – молодцом себя вела!
Потом, подав отцу тазик, где лежала пуповина, она скомандовала:
– Пойдите-ка заройте это под розовым кустом, тогда у сына будет хороший голос!
Я думаю, что мой отец пренебрег бы подобными глупостями, но поблизости вертелась тетя Алиса, и эти слова не пропали даром. Ритуал, таким образом, был тайно свершен в бабушкином саду, возле кухонной двери.
Долгое время меня повергали в трепет фотографии, где я снят младенцем, а мои мать и тетка, напротив, слишком часто, на мой взгляд, любовались ими. Я заранее знал: вот сейчас польется поток сентиментальных воспоминаний, нежных возгласов и прочего сюсюканья, которые меня немало раздражали, ибо я чувствовал, что в глубине души обе женщины не могли простить мне того, что я вырос и тем самым ускользнул из-под их крылышка. А может быть, я бессознательно опасался, что вдруг по слабости своей стану соучастником какого-то магического действа, которое ввергнет меня в вечное, непреходящее детство, откуда я так мучительно и с таким трудом вырвался. Подростком я всякий раз прямо-таки корчился от отвращения, когда доставали эти альбомы в переплетах под кожу, где были собраны орудия моей пытки.
Нынче я, разумеется, смотрю на них совсем другими глазами, ведь это единственные оставшиеся мне приметы того времени, о котором я ничего больше не помню; теперь я почти сержусь на мать за то, что память ее слабеет и изменяет ей. Я допытываюсь: «Где это? Когда? Почему?» Она поправляет очки, наклоняется, пристально разглядывает снимки, желтые, как палые листья: «Сейчас посмотрим… Это… это, должно быть…» Она ни в чем не уверена.
Вот мой отец, в одной рубашке без пиджака, улыбаясь, держит меня над капустной грядкой – возможно, картина символическая. Вот я сижу в колясочке с высокими колесами, на голове у меня чепчик. Мать, вся поглощенная материнской заботой, склонилась надо мной и баюкает меня. На ней светлое платье, густые пышные волосы коротко острижены. Дальше идет быстрее: вот я уже сам держусь на ногах, я хожу, вот я в берете, надвинутом на самые брови, в пальтишке и в галошах, держу за руку бабушку, такой крошечный рядом с ней. А на этом снимке я узнаю наш сад, бельевую веревку и смородиновый куст у дорожки. Вот зима, деревья стоят голые. А здесь я уже перестаю улыбаться. Я в столовой, оклеенной обоями в цветочек, стою возле стула, на котором сидит моя черно-белая кошка. Я положил руку ей на голову и гляжу на нее, на нас падают косые солнечные лучи. А эти снимки относятся к моим летним каникулам – пляжи в Бретани или в Вандее, куда я ездил с родителями во времена Народного фронта. Я сижу на песке, я на скале, я в лодке… Мой отец в купальном костюме с бретельками… Моя мать на фоне волн, молодая, счастливая.
Это время уже мелькает в моих собственных воспоминаниях. Но все, что ему предшествовало, ускользает из памяти. Образы, лица первых лет моей жизни, которые я безуспешно пытаюсь выловить из глубин сознания, зная, что они, скрытые, таятся там. Пока что они упорствуют, не поддаются. Иногда на миг что-то вспыхнет, мелькнет чья-то тень, я протягиваю руку, но видение мгновенно исчезает, как бы мстя мне за слишком долгое забвение прошлого.
Если сознание наше силится затмить образы раннего детства – несомненно, из боязни увязнуть, утонуть в них, – то наши сны, напротив, щедро одаривают нас этими смутными видениями на своем невнятном, но оттого не менее красноречивом языке. Один кошмар с несколькими незначительными вариантами часто преследует меня во сне и кажется мне одним из тех главных событий, которые оказывают влияние на всю нашу жизнь, придают ей особую окраску. А в этом именно случае я думаю даже, что мой сон как бы представляет самое главное событие моей жизни: миг рождения, о котором – вот горестный парадокс! – наиболее заинтересованное лицо не может свидетельствовать ровным счетом ничего. И однако, не странно ли, что все заключено именно в этой минуте, в том, как ты проживешь то мгновение, когда тебя грубо выталкивает на свет божий, в который раз повторяя драму грехопадения, ибо рождение человека одна из символических его интерпретаций? Завету «И будешь в муках рождать» эхом вторит другой: «Будешь рождаться в муках», ибо это трудное отторжение от материнского тела, материнского рая, это мучительное продвижение к воздуху, обжигающему легкие, к свету, слепящему глаза, к шумам, бьющим по нервам, способно причинить одно только острое страдание, к которому еще вдобавок присовокупляется здоровенный шлепок, положенный, как мне объяснили, каждому новорожденному «для его же блага».
И вот я продвигаюсь по какой-то трубе – глиняной или каменной, – она все сужается, так что вскоре мне приходится цепляться за выступы стен, пробираясь вперед пядь за пядью со все возрастающими усилиями. Назад повернуть невозможно: я вынужден ползти вперед. Дыхание мое стеснено, я начинаю задыхаться, тьма сковывает мои движения, меня охватывает страх, и порой я кричу. И тогда я просыпаюсь с бьющимся сердцем, не понимая ни где я, ни что со мной, пока свет лампы не возвращает меня в привычную реальность моей спальни. Я все еще дышу с трудом, мне хотелось бы уснуть, но я знаю: бессонница уже не отпустит меня. Итак, я опять родился на свет – в который уже раз.
Я нашел еще одну фотографию, которая некогда поразила мое воображение: на ней сняты мой отец и кузен Ги в «Торпедо», кажется марки Дион-Бутон; снимок относится к двадцатым годам. Ги сидит за рулем, он повернулся в профиль и с торжественным видом взирает на лежащую перед ним дорогу. Мой отец, элегантно одетый, при галстуке, но с непокрытой головой, устроился на заднем сиденье; он небрежно прислонился к дверце машины, в пальцах у него сигарета. Не нужно даже особенно напрягать зрение, чтобы убедиться: перед нами одна из тех декораций из картона или фанеры, довольно грубо сработанных, за которые фотограф усаживает клиентов, прося их «принять позу». Многим поколениям удалось таким дешевым способом создать иллюзию, хотя и немного смехотворную, «шикарной жизни», оказываясь при пособничестве фотографа в роскошной машине, на палубе яхты, в аэроплане, даже в гондоле воздушного шара. Вообще таких декораций было великое множество, в большинстве своем они выглядели довольно грубо, но изредка встречались и искусные подделки, которые могли ввести вас в заблуждение. Это напомнило мне фотографию несколько иного рода, изображающую меня в четырехлетием возрасте, в бархатных штанишках на помочах и белой рубашечке, я стою среди каких-то колонн у балюстрады, опершись на некое подобие курульного кресла – ни дать ни взять маленький лорд с картины английского живописца. Ну скажите, как мне было не состроить высокомерно-скучающую мину, соответствующую этим декорациям и обстоятельствам?!
Что же касается Дион-Бутона, то мне, конечно, объяснили, что все это – чистое надувательство, но в глубине души я отказывался полностью признать очевидное: ведь если спичечный коробок мог становиться поочередно то грузовиком, то кораблем, то бизоном, почему бы бумажному автомобилю кузена тоже не превратиться вдруг в настоящий?
По правде говоря, мне так и не довелось познакомиться с кузеном Ги. Он неожиданно объявился в нашей семье как раз перед моим рождением. Жил он в Париже, иными словами, «вращался в сферах». Я думаю, он был мелким конторским служащим, но всегда одет с иголочки, красноречив, обаятелен и, конечно, со склонностью к гаерству. В том, что касается кузена, семейная хроника полна всяких историй об улетевших шляпах, о падениях в лужу, о рыболовных крючках, зацепившихся за штаны, и ко всем этим происшествиям он относился с веселой улыбкой, всегда умел обратить их в забавный спектакль с бесконечными вариациями. У него была репутация игрока на скачках, а еще ему приписывались многочисленные похождения с «женщинами», о чем говорилось осторожными намеками.
Время от времени он являлся к нам, провести в семье воскресенье, рассказывает мне мать. И воображение мое тут же рисует картину: я вижу парижское шоссе, ревущую машину, проносящуюся между рядами платанов, и Ги за рулем: его волосы треплет ветер, в уголке рта зажата сигара. Или нет, конечно же, он ездил поездом, да еще в третьем классе! Он приезжал ранним утром и, если погода была хорошей, отправлялся удить пескарей с моим отцом и дядей Эженом, пока женщины готовили обед. После рыбалки садились за стол. Кузен Ги и тут вел себя молодцом: ел за четверых, пил за пятерых, болтал без умолку, а потом пел приятным тенорком «Рамону» или «Время, когда цветут вишни». Наконец женщины убирали со стола посуду, и в саду под сливой, возле водоразборной колонки, начиналась азартная партия в белот. Мужчины в одних рубашках без пиджаков, в подтяжках, женщины – в цветастых платьях. «Я бью!.. А я вас козырем, козырем!» Дядя Эжен сдвигал каскетку на затылок, он, как никто, умел особенно эффектно и оглушительно шлепнуть о клеенку решающей картой. Мой отец записывал очки своим ровным красивым почерком. День медленно клонился к вечеру, женщины садились шить в увитой зеленью беседке.
И вот однажды в воскресенье Ги является мрачнее тучи. Его засыпают вопросами, и он, для вида поломавшись, признается, что у него «финансовые затруднения»: подходит срок одного платежа, ему грозит арест имущества. За обедом он сидит с вытянутым лицом, почти ни к чему не притрагивается. Забыты «Рамона» и «Время, когда цветут вишни»! За десертом он утирает набежавшую слезу. Все взволнованы, утешают беднягу. Туманными намеками он дает понять, что, может быть, родные могли бы ему помочь. Ну ясное дело, они уж и сами об этом думали! Каждый извлекает свои сбережения, и к вечеру кузен отбывает в Париж, благодарный и утешенный. Вероятно, он еще раза два-три после того навещал родных, но теперь держался уже по-другому, слегка отчужденно, и уверял, что все уладится, дайте ему только срок. Это вопрос нескольких недель! Потом кузен вовсе исчез, не писал, не отвечал на теплые письма моего отца, в которых тот по своей скромности и стеснительности ни словом не поминал о деньгах. Воскресенья проходили теперь без кузена, и проходили немного грустно, иногда кто-нибудь, забывшись, восклицал: «Как говорил кузен Ги…», но тут же сконфуженно умолкал. «Что же с ним могло стрястись, с этим негодником?» Тетушка Алиса – воплощение доброты – уверяла, что он обязательно вернется и отдаст деньги. Но он не вернулся, он будто испарился. Странное дело: в семье о нем всегда говорили со смесью нежности, насмешки и легкого сожаления. Все обольстители таковы, во всяком случае наиболее одаренные: казалось бы, есть все основания на них сердиться, а по ним, напротив, скучают.








