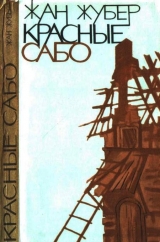
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
И вот нынче вечером, сидя в комнатке одного из пригородов, на Севере, куда давным-давно уже шагнул и по-хозяйски водворился беспорядок, я спрашиваю себя: что они сделали с Югом? Я думаю не только о загаженных пляжах, о развороченных холмах, об уродливой цементной коросте, которая задушила побережье, города и теперь медленно, но верно ползет в глубь этого края, словно серый прилив, но я думаю еще и о том, во что превращаются здесь люди? Они уже отравлены легким заработком, спекуляцией, коррупцией; и самые ловкие из них уже держат нос по ветру, они готовы продать и мать, и отца, лишь бы округлить счет в банке, они уже уничтожают виноградники, вырубают сосновые леса, загрязняют реки, норовя повсюду поспеть, побольше изгадить. И если Север стал для Юга великим растлителем, то он нашел себе здесь немало сообщников. Они толпятся в приемных, вырывая друг у друга подряды, – это новая каста «избранных», они слепы и глухи ко всему, кроме добычи, презирают книги, презирают старый Юг, и сердце их никогда не дрогнет при виде мертвого поверженного леса. Мечтателей среди них не ищи! Воплощение их грез – это грохот бетономешалок и дивиденды. А поскольку слово поэта имеет не больший вес, чем слово народа, кто может остановить этих палачей?! Впрочем, что народ, что поэты? Когда свирепствует чума, кто из нас гарантирован от заразы?
Читатель поймет, что я пишу эти строки с яростью и почти с отчаянием. Правда и то, что в этой битве меня и моих единомышленников приперли к стене, нам внушают, что все это неизбежно, что поступь прогресса неудержима, но я знаю, я уверен, что рано или поздно он захлебнется в собственной блевотине. Что сказали бы об этом Андре или Жорж, когда и наши противники не всегда различали, где левое, где правое. Жорж умер в девяносто один год в надвигавшейся тени башен-новостроек. У него отняли сад, он ходил своими мелкими шажками по четырем соткам, которые ему милостиво оставили, и говорил мне: «Я пишу, пишу, знаешь, я не в силах остановиться… Столько разных вещей вспоминается!», и еще: «Я перечитываю Мальро, Толстого, Бакунина…» А башни – он их просто не замечал, он ухитрялся их не видеть, он отринул их благодаря Мальро, Толстому и Бакунину, благодаря страничкам из школьных тетрадок, которые он коряво исписывал в течение дня, а иногда и по ночам. Я спрашиваю себя: не был ли дядя более стойким и более мудрым, чем я? Иногда в ночных кошмарах мне чудится треск сосновых стволов под ножом бульдозера, истерзанные лужайки, раздавленные под тяжестью огромных машин холмы, уродливо разинутые рты, выкрикивающие цифры или угрозы. А иногда еще я думаю, что стоило бы переплыть море – может быть, там, на дальних берегах, найду я то, что умирает сейчас здесь, на нашем Юге. Я вижу широкие пляжи, саванны, болотистые плавни, где важно расхаживают фламинго; пальмовые хижины под сиреневым небом; высоких, медлительно ступающих, полунагих негритянок – воительниц и колдуний. Время не ждет, надо спешить, надо ответить на этот призыв, пока не поздно! Как явственно звучит он нынче вечером! И вот я уже листаю книги. Неисправим!
Дядя Жорж оказался скверным солдатом! Начал он с того, что, стоя раздетым в зале мэрии, в Шаторенаре, закричал: «Долой армию!» С тех пор его не выпускали из-под наблюдения, ибо ничто не тонет безвозвратно в этих канцелярских реках, где полицейские досье, временно канув в глубину, в конечном счете все же выныривают на поверхность. Его направляют в кавалерийскую часть, стоявшую в Люневилле. Дело происходит осенью: небо затянуто облаками, монотонные дожди шелестят над сумрачными лощинами, над медлительными реками с водой цвета ржавчины. Слишком широкая шинель болтается на дяде, как на огородном пугале, и вдобавок, намокнув под ливнем, пахнет псиной – словом, вид у него далеко не воинственный. Впрочем, я сильно подозреваю, что дядя и не старался выглядеть иначе, желая выставить армию, пусть в собственном своем лице, в самом смехотворном виде. «Это еще что за фигура, – орет сержант, увидев его, – ну чистое пугало, черт его побери! Сразу видать – бездельник и смутьян. Нет, вы только гляньте на этого вояку! Сапожник? Рассказывай еще! Сабо? Засунь их себе знаешь куда?» Жорж держал винтовку как вилы, впрочем, вил ему не дали, хотя и поставили ухаживать за лошадьми. Еще чего, давать вилы этому косолапому – а вдруг поранит лошадям ноги! Пускай выгребает навоз руками – чего уж лучше! Впрочем, лошадей дядя любит, ему нравятся эти миролюбивые сильные животные, их запах растравляет его тоску по деревне. Подле них он утешается от издевательств «бывалых солдат» – больших скотов, чем эта бессловесная скотина, – тех, что, сперва обобрав, преследовали и травили новобранцев. Жорж восстает против них: он не был и не будет ничьим рабом, нигде и никогда. И вот он оказывается в полном одиночестве, если не считать кучки таких же, как он, новоиспеченных солдат, которые, разинув рты, слушают его речи о революции и всеобщем мире.
По вечерам он, если не сидит на гауптвахте, ходит к тем товарищам, с которыми свел знакомство в местном отделении профсоюзов. Впоследствии он мне рассказывал: «Это были славные парни, сталевары, и жизнь у них была несладкая. И все же они приглашали меня к себе. Жена тут же ставила на стол лишний прибор и старалась угостить меня чем повкуснее. Мы разговаривали часами: они рассказывали о своем изнурительном труде, о потогонной системе, о зарплате, о безработице, а я им говорил о придирках и издевательствах офицеров, о том, как нам стараются помешать читать революционную литературу. Нет, мы не рассуждали о высоких материях! В то время, в 1904 году, это еще не вошло в моду среди интеллектуалов. Не то что теперь, когда даже у некоторых буржуа считается хорошим тоном провозглашать себя коммунистами, расхаживать с „Юманите“ под мышкой у всех на виду и даже иметь членский билет. А тогда социалисты и анархисты почти все были из простого народа, многим даже не довелось учиться в школе, многие не умели читать. Они не были сильны во всяких теоретических тонкостях, зато твердо знали, за что борются: за право есть досыта, за право свободно дышать. Перед ними стояла цель ясная и светлая, как вода в горном ручье. Сапожники, рабочие, мы понимали друг друга с полуслова: всех давила одинаковая нищета; и с немецкими рабочими, что были по ту сторону границы, мы могли бы так же легко договориться, как и со своими».
В семьдесят лет, рассказывая мне все эти истории, дядя ничуть не утратил своего пыла и продолжал так же истово, как в молодости, мечтать о всеобщем братстве; но теперь он понимал, что ему самому не суждено дожить до этого золотого века, и, мне кажется, даже начал сомневаться в том, наступит ли он вообще когда-нибудь. Немного наивная страстная вера двадцатилетнего революционера постепенно выдохлась после всяких проявлений догматизма, предательства социалистов и двух мировых войн, каждая из которых в несколько дней развеяла в прах все надежды сторонников непротивления. Идеи продолжали жить, но как бы вне этого реального мира, где они никак не могли найти реального воплощения. В дядиной душе родилось разочарование, но, как ни странно, оно не было окрашено горечью или грустью, и, если он не верил больше в доброту людей, это не значило, что он отвернулся от них. Он оставался таким же живым, любознательным ко всему, жадно читал книги и газеты и всегда был готов пуститься в философские рассуждения хоть с крестьянином, хоть с профессором, обращаясь с ними с одинаковой простотой.
– Люди не ангелы, – говорил он мне. – Я столько повидал и людских слабостей и предательства! Да, в общем-то не такое уж это веселое зрелище!
– Ты больше не веришь в доброго дикаря?
– Ну что тебе сказать? Наше общество, конечно, ни на что хорошее не способно, но и в самом человеке сидит какая-то гниль, что-то низменное.
Я смотрел, как он сидит возле печки, опустив ладони на колени. На прилавке лежала книга, раскрытая на той странице, где он прервал свое чтение. Он покачал головой:
– Да, что-то низменное есть, и ничего с этим не поделаешь.
Я отвечал:
– Некоторые называют это злом. А знаешь, ты, кажется, потихоньку становишься христианином. И я даже начинаю думать, что ты всегда им был.
Он не любил, когда я так говорил. Он понимал слово «христианин» как «католик», а все эти деревенские кюре, святоши, проповеди, отлучения стояли у него поперек горла. Не желал он иметь ничего общего с этим отродьем. Такие вот христиане украли у него христианство, и, я думаю, он ни разу в жизни не заглянул в Евангелие, хотя по своим взглядам был довольно близок к нему. Впрочем, на стене в коридоре у него висела гравюра, которая долгое время меня интриговала: жирный, лоснящийся кюре смотрит на проходящего мимо худого, истощенного Христа и презрительно восклицает: «Еще один бродяга!» Эта картинка давала мне повод для размышлений. Я начинал понимать, к какому лагерю принадлежал дядя, но чувствовал, что его интерес обращен скорее к ненавистному образу попа, нежели к так и оставшемуся ему чуждым Христу.
Вот это-то и есть самое страшное в современной церкви, да и во всякой религии, с ее компромиссами и нетерпимостью, ее мелочностью и низостью, быть может, и неизбежными при столь долгом существовании. Она отвратила от христианства тех, которые в сердце своем были наиболее достойны его исповедовать, сами того не подозревая и рискуя так никогда этого и не узнать. Во всех них – в Жорже, Алисе, Жермене – жили эти качества: доброта, жертвенность, особая душевная чистота и, вопреки окружавшей их действительности, мечты о наступлении эры всеобщего братства. Что до Жаклины, которая, как и ее отец, решительно отвергает церковь, то и ее душа, я видел, неизменно была одержима жадным, лихорадочным поиском, блуждала в запутанном лабиринте с редкими проблесками света, где недоставало путеводной нити, которой могло бы стать состояние благодати. В своем одиночестве, в своей тоске она несла гордыню, как мрачную хоругвь, и эта гордыня ослепляла ее еще больше. В этих сражениях истерзались и душа ее, и тело, и я спрашиваю себя: обрела ли она наконец с возрастом то, что, по сути дела, было так просто постичь, хотя иногда на это уходит вся жизнь.
Однажды она призналась мне, что живет в «беспросветном отчаянии», потом, немного позже, рассказала о своих долгих блужданиях по лесу, о глубоком волнении, которое охватывало ее там, о том, что на душу ее нисходило умиротворение – правда, этого слова она, кажется, вслух не произнесла. Мне показалось, что она противоречит сама себе, и я сказал ей об этом. Она качнула головой, она заколебалась: «Да, я испытала это и также отчаяние!» Как будто от последнего ей не хотелось отказываться. Да, гордыня в ней укоренилась прочно и продолжает мучить ее, застилая свет, который так близко, совсем рядом.
Впрочем, мне ведь тоже не дано увидеть этот свет, как не дано и познать Христа, ибо живут в моей душе старые сомнения, старое недоверие, которых ничто так и не смогло окончательно уничтожить; мне чудится, что меня призывает иной бог, иной Христос, еще не названный, по ту или по эту сторону нашей тяжкой истории.
Да, но здесь, в Люневилле, Жоржу всего двадцать лет, он полон молодого задора, страсти, слова так и рвутся наружу. Он терпеливо просвещает своих немногочисленных учеников в уголке какого-нибудь чулана. Выбираясь в город, он присутствует на собраниях забастовщиков и, несмотря на свой мундир, первым начинает аплодировать оратору, бичующему армию. Находятся доносчики. И вот его вызывают и учиняют ему допрос. Среди его вещей обнаруживают «Юманите», анархистскую «Либертер» и вредные брошюры. Он ничего не отрицает, он просто отстаивает свое право на свободу мысли. Сидя на гауптвахте – эдакий юный святой Франциск Ассизский от анархизма, – он проповедует братство мышам и паукам и пытается потихоньку обратить в свою веру тюремщиков. Потом его выпускают, но казарма – та же тюрьма, где придирки и наказания сыплются на него градом.
Приходит день, когда, не в силах больше терпеть, он решает дезертировать. В городе у него есть знакомый анархист, который, хлебнув некогда штрафной роты, смертельно ненавидит армию. Они часто беседуют о дезертирстве, и анархист говорит Жоржу: «Тебе надо подумать, я понимаю, но, когда ты решишься, обратись ко мне. Я тебе достану штатскую одежду и провожу до границы. Можешь рассчитывать на меня!» Наконец Жорж, решившись, приходит к нему домой, его наставник, мертвецки пьяный, храпит на кровати, и от него невозможно добиться ничего, кроме невнятного бормотания. Все же он тычет неверной рукой в угол, где лежит одежда, и в то время, как Жорж поспешно натягивает ее на себя, тот, икнув, опять засыпает. Костюм слишком велик дяде, и вид его способен пробудить подозрения у самого тупого жандарма, но на улице темно, а дядина решимость непоколебима. Он кубарем скатывается с лестницы, швыряет мундир под первый попавшийся куст и шагает по пустынным ночным улицам, между садами, направляясь к границе. После садов идут низкие амбары, потом луга, где в тумане фыркают невидимые лошади. Поднимается холодный ветер, но дядя идет так быстро, что по спине его текут струйки пота. Вдали мигают огоньки – в той стороне, должно быть, Германия. Германия! Он колеблется, потом ему делается страшно. Какая жизнь ждет его там? Нищета, презрение и, кто знает, может быть, тюрьма? Он вспоминает родных, которых ему наверняка не суждено больше увидеть. И внезапно он отказывается от своего намерения, он бежит назад в Люневилль. Он шарит в кустах, обдирая пальцы о колючки, и каким-то чудом находит свой мундир. Он стучится в караулку, уже после отбоя, офицер орет: «Это еще кто такой явился? Откуда? Почему руки в крови?» – и сулит ему, что завтра он у него узнает, где раки зимуют. Жорж легко отделывается – всего несколькими днями гауптвахты.
Отслужив в армии, Жорж вернулся к себе в деревню. За время его отсутствия дела в семье отнюдь не пошли на лад: отец пил мертвую, целыми днями пропадая где-то с такими же отпетыми забулдыгами, как он сам, и, увидев мать, худую и бледную, и Андре, прозрачного от голода, Жорж понял: семья дошла до полной нищеты. Изабель, которая жила в Париже, время от времени присылала денежный перевод, но толку от него было мало: деньги тут же перекочевывали в кафе, а запас сабо неумолимо уменьшался. Лесоторговцы отказывались поставлять березу, они боялись, что им не заплатят. Жорж отправился к ним, объяснил, что теперь, когда он вернулся, он сам начнет работать в мастерской; они поверили ему, и назавтра же березовые кругляки были привезены и свалены во дворе.
Отец как будто испытал прилив энергии и вернулся в мастерскую. Они стали трудиться там на пару: отец делал заготовки, а Жорж выдалбливал и отделывал сабо, но теперь он работал умело и споро. Иногда он нарочно увеличивал темп, так что отец с трудом поспевал за ним: он суетился, выдыхался, ел на ходу, стараясь не задержать сына. Он больше не обзывал его «недоноском» и не изъявлял желания хвастаться своими подвигами, как любил делать это несколькими годами раньше. Жорж искоса поглядывал на отца и молчал, стиснув зубы и виртуозно управляясь с долотом. «Давай-давай, работай, скотина! – думал он. – Догоняй этого бездельника, этого безрукого. Все теперь изменилось: бездельник-то стал половчее тебя! Ну-ка, посмотрим, как ты это проглотишь. Ты здесь прежде был хозяин, а теперь пришел мой черед!» Он мстил отцу за все унижения детства.
Но через несколько дней он все же сбавил темп, и наступило что-то вроде счастливого перемирия. Отец был весел, подшучивал, иногда даже смеялся и напевал «Счастье любви» или «Когда цветут вишни». Он больше не переступал порога кафе, а однажды вечером, скручивая сигарету, сказал Жоржу:
– Я вижу, ты много чему обучился, пока бродил по Франции. Теперь ты хорошо знаешь ремесло и твои сабо удобны в носке, но вот только…
Он взял одно сабо и, поднеся его к окну, повертел в руках.
– Что «только»? – спросил Жорж.
– Я тут наблюдал, как ты работаешь: ты все делаешь как надо и у тебя хорошо получается, но если бы ты держал долото вот так, то работа получалась бы более тонкая. Этот секрет мне когда-то показал папаша Бро в Биньоне.
Жорж вынужден был признать его правоту.
– Да, верно, так лучше. Я попробую. Послушай, отсыпь-ка мне табачку.
На дворе стояла осень, дожди лили как из ведра, и сабо сбывались хорошо. Денег теперь хватало, и куча стружек не уменьшалась, а росла, так что печка весь день напролет весело гудела в углу мастерской. В доме появилась картошка, мешок фасоли и, наконец-то, мясо по воскресеньям. Мать заплатила долги бакалейщику, и на ее лице вновь засветилась улыбка. Однако Жорж поглядывал на нее с беспокойством: она похудела и сгорбилась, изнуренная тяжкой работой, нищетой и поздней беременностью – только что родилась моя мать. Волосы ее поседели, и в свои сорок два года она выглядела старухой.
Однажды Жорж проходил мимо школы в Шанткоке, соседней деревне, куда он пришел, чтобы заказать партию леса; он услышал детское пение и остановился как вкопанный, с удивлением узнав «Марсельезу мира» на слова Ламартина. Стояло начало лета, окна класса были распахнуты, и голос учительницы вел хор:
Нил Запада, наш Рейн, светлы твои просторы.
Стреми свой мощный бег меж берегов крутых!
И унеси в волнах извечные раздоры
Тех, что искони пьют от чистых вод твоих.
Я представляю себе, как дядя стоит, задрав голову, перед школьной оградой, в сабо, груботканой рубахе и плисовых штанах, буквально зачарованный этими словами, доходящими до самого его сердца. «Все правильно, – думает он, – добрые семена начинают давать всходы. Скоро весь мир поймет нашу правду, и тогда война станет невозможна!» Детские голоса высоко взлетают среди полуденной тишины, и Жорж, улыбаясь и забыв о делах, все стоит и стоит, прислушиваясь к ним. Гимн заканчивается, слышен мягкий голос учительницы: «Дети, уже четыре часа. Собирайте книги и тетради!» Топот башмаков, гомон. Быстро, не раздумывая, Жорж пересекает школьный двор и стучится в дверь. Ему открывает молодая женщина в сером платье, с волосами, стянутыми пучком на затылке; стоя на пороге в освещенном проеме двери, она прямо глядит ему в глаза, с виду ничуть не удивленная его появлением. За ее спиной, в классе, школьники галдят, шумно хлопают крышками парт. Некоторые встают на цыпочки, чтобы из-за ее плеча разглядеть, кто пришел, и шушукаются, подталкивая друг друга локтями.
– Мадам, – торжественно начинает Жорж, – я проходил по улице и услышал, как вы учили детей этой прекраснейшей «Марсельезе мира». Будучи воинствующим пацифистом, я считаю долгом выразить вам свое восхищение!
Дети толпой теснятся за спиной молодой женщины, она отстраняется, и стайка учеников выбегает из класса, крича на бегу: «До свидания, мадам! До завтра, мадам!» Галопом промчавшись по двору, детишки разбегаются по улочкам.
Она глядит им вслед, все еще держась за ручку двери, и солнце искрится в ее глазах, потом поворачивается к нему:
– Спасибо за ваши слова. Мне приятно это услышать. Я очень люблю моих детишек! В этом возрасте они такие милые. – Но что с ними станется потом? Если бы хоть я смогла научить их таким вещам, как доброта, справедливость и ненависть к войне… Значит, вы тоже пацифист?
И тогда Жорж рассказывает ей о тех товарищах, что останавливаются в его доме, о прочитанных книгах, о деревенских сходках, о том, как его оскорбляют порой, а однажды даже пригрозили избить. Она сочувственно кивает головой Он смотрит ей в глаза и видит в них внимание и симпатию к нему.
– Вот почему, – заканчивает он, – я и решился постучать в эту дверь. Ведь таких, как мы, не очень-то много.
– Сейчас – да, но когда-нибудь, кто знает?
С тех пор он стал часто захаживать в школу. Окончив свой трудовой день и поужинав, он быстренько умывался, приводил себя в порядок и, сев на велосипед, ехал к Жермене. Между Шюэлем и Шанткоком было добрых десять километров, да и дорога шла большей частью в гору, так что он приезжал, изрядно запыхавшись. Но в эти вечера его переполняла радость, он чувствовал себя таким сильным и, пригнувшись к рулю, жал на педали, мчась по грязной дороге, между рядами яблонь. Его ацетиленовый фонарь слабо освещал путь, временами колеса проваливались в рытвину, и вода захлестывала ноги. «Черт бы взял эту чертову грязь!» – кричал он в темноту и тут же начинал смеяться, еще сильнее нажимая на педали.
Он оставлял велосипед во дворе школы и ощупью поднимался по темной лестнице, пахнущей мелом и мокрой шерстью. Затем он трижды стучал в дверь: это был условный знак. Жермена отодвигала тетрадки на другой конец стола и наливала ему кофе. Им столько нужно рассказать друг другу, прежде всего о своем прошлом; так он узнал, что ее муж, тоже учитель, умер год назад, оставив ее с двухлетней дочуркой Жанной, которая теперь жила у ее матери. Но больше всего они говорили о литературе и о политике: социализм, анархизм – они оба считали, что соглашение между ними вполне возможно. Она давала ему читать книги, а когда подошло лето, они стали совершать долгие прогулки по дорогам в прохладных сумерках. Начинали колоситься хлеба. С полей на повозках возвращались в деревню крестьяне, воздух был напоен запахом сена и листвы. До них доносилось блеянье коз на пастбищах, а по временам издали долетал звон деревенского колокола.
Чтобы быть поближе к Жермене, дядя в конце концов перебрался в Шанткок и обосновался в сарае, где он и стал работать на себя одного, выдалбливая сабо. Дни тянулись медленно, а дела шли далеко не блестяще, но, как я понимаю, дядя был так полон своим счастьем, что его это нисколько не заботило.
Я хорошо представляю этих счастливых и чистых душой людей: двух товарищей, воодушевленных общей страстью, общей приверженностью одним и тем же идеям; и когда однажды вечером он наконец возьмет ее за руку, это будет почти братское пожатие. Но за ними, разумеется, уже следят; заклятые враги этой «безбожной школы» не дремлют, и находятся люди, которые повсюду кричат, что учительница – потаскуха, что она неплохо развлекается. Но они слишком увлечены друг другом, чтобы обращать внимание на какие-то жалкие сплетни.
Я спрашиваю себя, не был ли знаменитый подвиг Жоржа, совершенный им в тот год 14 июля, чем-то вроде признания в любви?
Слишком долго остававшийся в тени, теперь он, охваченный страстным чувством, возжаждал совершить поступок поразительный и героический, он долго обдумывал его, выдалбливая свои сабо, и вот, в канун национального праздника, отправился в Шаторенар, где купил у галантерейщика несколько кусков полотна. Утром праздничного дня на площади, разукрашенной трехцветными флагами, началась раздача наград школьникам, мэр промямлил традиционную речь, трубач сыграл несколько мелодий, а дети вместе с учительницей спели «Марсельезу мира». Им похлопали: мелодия была уже знакома слушателям, а слова, впрочем слегка перепутанные оробевшими школьниками, не казались слишком крамольными. К тому же Ламартин – это вам не Жорес, он имел право занять несколько страничек в школьной хрестоматии!
Скандал начался позже, когда праздничное шествие проследовало по улицам, намереваясь совершить обход деревни. Впереди выступал оркестр – четыре трубача и два барабанщика, старавшихся вовсю, за ними вышагивали члены муниципального совета, неся трехцветные знамена. Позади шла небольшая кучка принарядившихся жителей деревни, мальчишки толкались, швыряли петарды в ноги девчонкам, получая в ответ тумаки. С неба струились солнечные лучи, пахло хлевом и спелым колосом. И вдруг шествие смешалось, у мэра вырвалось ругательство, музыканты поперхнулись, а все взоры устремились вверх. Над сараем сапожника развевалось два больших полотнища: одно красное, другое черное.
– Какой позор! А ну-ка снимай сейчас же эту гадость! – закричал мэр, обращаясь к Жоржу, стоявшему со скрещенными руками перед дверью сарая.
– И не подумаю! Это мое личное дело. Каждый волен иметь свое мнение, разве не так?
– Если ты сам не снимешь, то сниму я, понял?
И мэр стал требовать немедленной помощи, – уж не знаю, что он имел в виду – веревки, лестницу. Он побагровел от ярости, остальные бестолково суетились вокруг: большинство стояло за него, другие – их было меньше – доказывали, что, в конце-то концов, никому от этого худа не будет и что сапожник вполне имеет право иметь свои убеждения и вывешивать какие хочет флаги.
Мэр продолжал ругаться на чем свет стоит, но лестницу не несли, и никто не выражал особого желания лезть на крышу. Какой-то старик предложил вызвать жандармов из города, но вокруг запротестовали; словом, началась такая перепалка, что мэр, так и не придя ни к какому решению, совсем пал духом, музыканты снова задудели в свои тромбоны и кортеж удалился, оставив дядю зубоскалить и торжествовать победу.
Оба знамени провисели над мастерской целый день, никто больше так и не посягнул на них, люди подходили по двое, по трое и смотрели, подталкивая друг друга локтями. К вечеру дядя залез на крышу и бережно свернул каждый флаг, обматывая полотнище вокруг древка.
– Какой же ты сумасшедший! – сказала ему Жермена.
– Ничего, как видишь, они струсили. И вот еще что: они ведь хлопали твоей «Марсельезе». Знаешь, в ту минуту я был по-настоящему счастлив.
– Да-да, это было прекрасно, но ты все испортил. В деревне только об этом и толкуют!
– Ты на меня сердишься?
– Да нет же, – улыбнулась она. – В общем, у тебя это хорошо получилось!
Однажды вечером он сказал ей: он думал весь день и решил, что было бы и в самом деле хорошо, если бы они могли жить вместе. Она посмотрела на него серьезно, взволнованно и ответила, что она совсем не против, но как быть с деревней, которая следит за каждым их шагом, – ведь ее недруги только и ждут удобного случая, чтобы разойтись вовсю, и тогда уж ей наверняка придется оставить свое место. «Ладно, давай поженимся, – решил он. – Да и вообще, свободное сожительство – это для художников. Законный брак, незаконный брак – мне все едино!»
В Шюэле, в семье Жоржа, новость была встречена с восторгом, но, как ни странно, против брака восстал отец Жермены, железнодорожник. Жорж надел белую рубашку, одолжил у кого-то галстук и явился к нему, чтобы по всем правилам сделать предложение, но тот, хоть и принял его вполне вежливо, уклонился от прямого ответа и объявил, что ему нужно подумать. Проводив дочкиного воздыхателя, он стал кричать, что не для того он дал ей образование, чтобы «выдать за пастуха». Сапожник или пастух – какая разница! Хоть он и был социалистом, в душе его все же жило тщеславное желание, мечта выдать дочь за учителя или за помощника нотариуса. Жермена возмутилась и заявила, что не для того она училась, чтобы ходить на поводу у родителей, и что времена средневековья давно миновали.
– Ты высказал свое мнение, – сказала она, – прекрасно! Теперь слово за мной, и я выхожу за Жоржа.
Отец поворчал еще немного и наконец утихомирился. Итак, они поженились, гражданским браком разумеется, и кюре со своей кафедры, не называя имен, гневно клеймил неверующих, развратников и всяких врагов общества. Деревенские святоши объявили им войну: они кричали всем и каждому, что такой брак – позор для их деревни и что от школы попахивает ересью.
Не забыты были ни поступок Жоржа 14 июля, ни лозунг «Долой армию!», прозвучавший на призывном пункте. Подобные выходки трудно проглотить крестьянам, чьи глотки так же узки, как и их умишки. Так что когда Жорж переселился в школу, к своей жене, у него еще оставалась горстка друзей, но при этом образовалось столько врагов, что и представить себе трудно. И враги эти только на время затаились, выжидая удобного случая, чтобы поднять голову и укусить.
Я думаю, вначале Жорж не слишком-то обращал на них внимание. После всех тягот и терзаний детства он наконец обрел Жермену, неведомую доселе сладость семейного очага, долгие беседы, чтение книг. С помощью учебников своей жены он начал пополнять знания, такие отрывочные из-за семейных неурядиц и изнурительного труда в мастерской. Я представляю себе, как они сидят рядышком под лампой, склонившись к учебнику, она объясняет, он спрашивает, качает головой. Жермена забрала Жанну у своей матери, и Жорж очень привязался к этой немного диковатой девочке, которую он мало-помалу сумел приручить. Весь день он работал в мастерской, он чувствовал себя свободным и счастливым. Заходили приятели, чтобы потолковать о политике, припомнить старые мечты и чаяния: то были местные жители, а также его товарищи по странствиям дорогами Франции и еще бродячие анархисты, которые не замедлили разузнать его новый адрес, рассчитывая, что найдут себе здесь и стол, и кров. Некоторые из них чересчур внимательно разглядывали Жермену и туманно рассуждали о коллективном пользовании женщинами. Таким разъясняли, что по этому пункту хозяева имеют свое собственное мнение. Если в гостях недостатка не было, то клиенты, напротив, заходили все реже и реже. В своей наивности дядя никак не хотел понять, что для этой серенькой деревни его сабо действительно были слишком уж «красными».
И однако, первые месяцы их совместной жизни можно было бы назвать вполне счастливыми, если бы не глухая вражда «белых», прорывавшаяся иногда из-за сущих пустяков: то березовые стволы, сваленные на улице, мешают пройти, то текст диктанта выбран крамольный, то куры или собака забежали в чужой огород. Мстительный мэр действовал исподтишка, он из кожи вон лез, чтобы добиться увольнения учительницы, – кончилось тем, что ее перевели в Мельруа, на очень плохое место, где жители незамедлительно объявили ей войну. Там у них и родилась Жаклина. И там Жорж узнал о смерти своей матери; а поскольку старик отец не способен был заботиться о младшей дочери Луизе, ее отправили в Париж к старшей сестре Изабель. Та недавно вышла замуж за банковского служащего и жила в крохотной квартирке, где ей и предстояло провести всю свою жизнь за уборкой и кастрюлями, в вечном затворничестве, если не считать коротких визитов в ближайшую бакалейную или мясную лавку. Моя мать спала в кровати с сеткой в уголке супружеской спальни и ходила в грязную школу близ Барбеса, где разное хулиганье запугивало и преследовало ее.
Именно к этому времени относится эпизод в стиле Рокамболя, который окружил весьма прозаическую фигуру дядюшки Амедея, мужа Изабель, ореолом легенды. Он стал инкассатором и в этом новом качестве ходил по улицам в треуголке и с кожаной сумкой через плечо. Это занятие считалось опасным, так как крайние анархисты из банды Бонно, сторонники индивидуальных актов экспроприации, – в противоположность анархистам из компании Жоржа – уже прославились своими «подвигами». По случаю рождения первой дочери Амедей просит однодневный отпуск, который ему и предоставляют. И как раз в этот самый день Бонно устраивает засаду служащему, который подменяет дядю, вырывает у него сумку с выручкой и выстрелом в упор убивает его наповал. Таким вот образом дядя Амедей спасся от смерти, но упустил единственную в своем роде возможность войти через столь узенькую дверцу в Историю.








