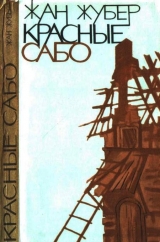
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Война разразилась в солнечный день, в самый разгар жатвы. Отовсюду неслись крики: «Смерть бошам!», «На Берлин!», а Жоржу и Жермене казалось, что мир рушится. Убийство Жореса поразило их как удар грома, со стыдом и отчаянием в душе они переживали крушение пацифизма. Уже через несколько дней на стенах появились призывы и приказы о мобилизации. Жорж немного поколебался, но выхода не было. Он смазал свои инструменты, запер мастерскую и отбыл на фронт со смертью в душе. В поезде, уносившем его на восток, он забился в уголок вагона и вопреки обыкновению всю дорогу просидел молча, среди гогота и шуток. Никогда еще не ощущал он себя таким одиноким.
Да, странный был солдат дядюшка: солдат, за четыре года войны ни разу не выстреливший из ружья. Он попал в обозную команду, ему выдали повозку с мулом. Эта упрямая, капризная скотина доставляла своему хозяину массу хлопот: мул останавливался вдруг посреди дороги как вкопанный или пускался бешеным галопом, брыкаясь как сумасшедший. Солдаты веселились, подстегивая его ветками, а он бесился еще пуще. Но тут появился дядя и решил укротить мула терпением и мягкостью. С помощью лакомств и ласки он в конце концов добился того, что упрямое животное стало тише воды, ниже травы, бегало за ним, виляя хвостом, как собака, норовя лизнуть его в лицо… В то время, когда пацифизм был сметен с лица земли первыми же залпами пушек, а его последним пристанищем остался лишь клочок швейцарской земли, эта дядина победа стала его скромным вкладом в дело борьбы против насилия. И в своих мемуарах дядя как раз отмечает тот факт, что за все четыре года военной кампании он не одержал иной победы, кроме как над своим мулом.
Я перечитал несколько страниц, которые он посвятил войне: как и следовало ожидать, патриотические нотки звучат там крайне редко. Только победа на Марне слегка взволновала его; после тягот и страданий, пережитых во время отступления, ему, как он простодушно признается, «в общем-то, пожалуй, приятно оказаться в лагере победителей». Правда и то, что судьба редко доставляла ему подобную возможность: за исключением 1936 года, он всегда шел против течения при всех знаменательных коллективных действах. Во многих обстоятельствах, как он сам замечает, он инстинктивно принимал сторону слабых против сильных, кем бы они ни были. Такой способ поведения порождает святых, но отнюдь не хороших солдат или хороших борцов.
Итак, в его мемуарах нет ни высоких слов, ни героических устремлений, но зато я не нашел там ни грязи, ни крови, ни трупов – ничего из всех тех ужасов, какими изобилуют рассказы о войне и многие романы. Мы оказываемся как бы за кулисами великих событий, там, где место и скромным статистам, и всяким аксессуарам, и лишним декорациям, сама же трагедия разыгрывается на некотором расстоянии, за занавесом, который лишь временами чуть приоткрывается для нас. Ну а за сценой продолжается обыденное повседневное существование: солдаты бьют вшей, жуют сухари, жульничают, ворчат и ругаются по пустякам.
Сперва дядя состоит санитаром, он подбирает на передовой раненых, которых затем отвозит в легкой повозке, запряженной мулом, в полевой госпиталь. Он медленно, осторожно продвигается вперед по ухабистой дороге, подбодряя и успокаивая несчастных, стонущих на носилках, и эта роль, вполне по его характеру, немного облегчает угрызения совести, которые он, пацифист, испытал, подчинившись приказу о мобилизации. Позже ему дают лошадей и более тяжелую повозку и поручают доставлять продукты и боеприпасы. Когда я думаю о Жорже-солдате, мне прежде всего вспоминается одна сцена, о которой я сперва услышал от него самого, а потом прочел в его книге, – эта сцена полнее всего дает представление о нем.
Сидя на своей повозке, дядя проезжает по развороченной снарядами, разоренной деревне, где от нескольких ферм осталась лишь жалкая груда развалин. Я представляю себе эту меловую землю, обожженные обрубки деревьев, еще, может быть, стаи ворон под стремительно несущимися облаками, так как дело происходит осенним днем. Восточный ветер доносит до него запах пороха и отдаленный грохот канонады. Жорж бросил поводья, и лошади идут сами, они хорошо знают эту дорогу. Он держит на коленях книгу и увлеченно читает, не обращая внимания на дребезжание корзин и ящиков у себя за спиной. В сумке у него всегда лежит книга между флягой и буханкой хлеба. Сейчас он увлечен русскими писателями: Толстым, Достоевским, Чеховым, но при этом не забывает читать Руссо и Дидро. Жермена вкладывает две-три книжки в каждую посылку, и когда он ей пишет с фронта, то чаще всего описывает не войну, а ту радость, которую доставила ему такая-то прочитанная сцена, такой-то персонаж или диалог, и он взволнованно пишет: «Я много думаю о тебе, о Жаклине, обо всех вас. Здесь все так грязно и так ничтожно. Ах, когда же я увижу вас снова? Какое счастье, что у меня есть твои книги, я при малейшей возможности читаю их. С ними, моими лучшими друзьями, да с мыслью о вас я все способен выдержать».
В тот день он позабыл обо всем: о лошадях, о холоде, о пушках. Он едет словно во сне, но сон этот для него гораздо ярче и реальнее, чем окружающая его зловещая действительность. Внезапно пронзительный свист заставляет его вздрогнуть. Метрах в двадцати от повозки разрывается снаряд, за ним другой, третий, поднимая фонтаны грязи и обломков. Вырванные из полудремы, обезумевшие лошади с диким ржанием несутся галопом.
Жорж валится со своего сиденья, роняет книжку и цепляется за борт повозки. Каска съезжает ему на глаза, наконец он ощупью находит поводья и криками пытается успокоить своих коняг, со страху помчавшихся прямо в поле. Прощай, книга, как, впрочем, и содержимое корзин, выброшенных из повозки в грязь. Снаряды продолжают рваться вокруг с адским грохотом и вонью.
Говорят, при подобных обстоятельствах даже самые закоренелые атеисты начинают молиться. Но дядя молиться не умеет, я думаю, он просто пробормотал сквозь зубы: «Вот дерьмо! Дерьмовая война!» или что-нибудь в том же духе. Потом, внезапно, взмокшие, задыхающиеся лошади останавливаются, упершись в изгородь. Он пользуется этим, чтобы соскочить с повозки в ближайшую воронку и съежиться там, закрыв голову руками. Грохот канонады постепенно удаляется, дядя отваживается выглянуть из своей ямы и убеждается, что его упряжка исчезла. Он долго блуждает по роще с поваленными, хаотически раскиданными деревьями, находит наконец дорогу и только к вечеру, совершенно измученный, добирается до своего расположения. Его уже сочли погибшим. Лошади вернулись одни, таща пустую повозку. Сперва его встречают радостно, обнимают, хлопают по спине, потом сержант начинает клясть его на чем свет стоит за потерянное довольствие.
– У нас бывали время от времени такие вот внезапные артиллерийские налеты, как гром с ясного неба, – рассказывал дядя. – Но тот налет я особенно хорошо запомнил, ведь он случился в день моего рождения! Мне исполнилось тридцать лет, а книга, которую я читал, называлась «Воскресение».
Когда я был подростком, мать часто повторяла: «Как ты похож на моего брата Андре! Глаза, рот… Просто невероятно!» Я вспоминаю, что это не очень-то мне нравилось, поскольку в том возрасте я не желал походить ни на кого, а уж тем более на Андре, о котором мне было известно, что он умер от чахотки в двадцать лет – последнее обстоятельство особенно угнетало меня и казалось дурным предзнаменованием.
В нашем туманном крае чахотка в те годы косила людей десятками, особенно в семьях бедняков, которые ютились в сырых лачугах, никогда не ели досыта, но зато злоупотребляли спиртным. С материнской стороны туберкулез унес чуть ли не полсемьи. О нем говорили обиняками, боясь назвать своим именем: «Он очень утомлен», или: «У него скверный бронхит», или еще так: «У него слабая грудь». Это было как бы попыткой заклясть беду, но никто на сей счет не обманывался и не строил никаких иллюзий. Существовал некий злой рок, кровавый бог-убийца, который крался за нами по пятам и время от времени наносил Удар.
И когда несколько лет спустя университетский рентгенолог сказал мне: «Послушайте, старина, вы довольно серьезно больны. Придется вам прервать занятия. Я должен немедленно отправить вас в санаторий», – меня внезапно захлестнуло ощущение полного крушения, какое, наверное, испытал и Андре, и его старший брат, имени которого я даже не знаю, и его мать, впервые увидев кровь на своем платке. Мне было двадцать два года, я жил в Париже, был влюблен в Жюльетту и рьяно занимался, готовясь к конкурсным экзаменам, от которых, как мне казалось, зависело все мое будущее. Земля буквально ушла у меня из-под ног, я чувствовал, что злое проклятие, тяготевшее над нашим родом, настигло меня. Почти покорившись своей участи, я приготовился к медленному умиранию. Но гора, куда меня послали, показалась мне вовсе не «волшебной»[5]5
Намек на роман Томаса Манна «Волшебная гора», где события тоже происходят в туберкулезном санатории в горах.
[Закрыть], а санаторий с его кашляющим, маниакальным и сладострастным народцем, на мой взгляд, выглядел так жалко, что кто-то внутри меня тут же принял твердое решение выздороветь во что бы то ни стало. И по истечении десяти недель мои легкие стали девственно чистыми, повергнув лечившего меня врача в величайшее изумление. Случись это в Лурде, такой факт сочли бы чудом.
Однажды, я был тогда еще ребенком, мать достала из ящика и протянула мне фотографию: «Вот посмотри! Это Андре!», и я исподлобья, со смесью раздражения и страха, бросил взгляд на молодого человека, сидящего в напряженной позе; я действительно уловил некоторое семейное сходство, и оттопыренные уши, как ни прискорбно, напоминали мои собственные. Я придрался к этой малолестной детали и не разглядел остального. Он был для меня чужим, и я ни за что не желал признавать между нами какую-то преемственность, которую мне так упорно навязывали. Помню, я тогда пробормотал что-то невразумительное и тут же поспешил забыть о нем. А вот теперь я сам спрашиваю у матери:
– Ты помнишь ту фотографию Андре? Она еще у тебя?
Она тут же принимается рыться в шкафу, приговаривая: «Ох, сколько же здесь накопилось всяких бумаг, да разве тут разберешься?». Она сама, к несчастью, не любит ничего копить и время от времени начинает лихорадочно выбрасывать на помойку «всякое старье» из погреба, с чердака, отовсюду, так что для моих семейных исследований здесь в доме мало что уцелело. Впрочем, я не очень расстраиваюсь, утешая себя тем, что я не историк, не архивариус и что скудость документов в какой-то степени способствует человеческому прозрению, создает некие флюиды, помогает свободному парению фантазии, столь несправедливо осмеянной в наше время, хотя я могу голову дать на отсечение, что воображение способно возродить мир.
«Ах, все эти вещи!» – голос матери внезапно срывается, и я догадываюсь, что она наткнулась на фотографии моего отца, потому что она надолго замолкает, медлит и только спустя некоторое время, встрепенувшись, снова начинает рыться в ящиках. «Ага, вот она!» На этот раз я бережно кладу фотографию на стол, склоняюсь над ней и разглядываю с горячим интересом; я соглашаюсь признать то, от чего некогда отрекся и что теперь внезапно бросается мне в глаза: наше с ним сходство – тот же рот, лоб, взгляд, в котором я читаю ту же грусть, мечтательность, жажду чего-то иного, еще не названного, – словом, это как бы моя фотография, и примерно в том же возрасте. Как будто я сам сижу верхом на стуле, в саду, в период моего выздоровления, и лицо почти такое же!
– А ведь и верно, я на него похож!
– Ну слава богу, признал-таки. Я всегда тебе это говорила.
Я тут же спрашиваю, не сохранилось ли у нее еще чего-нибудь от Андре: другие фотографии, письма, рисунки… Она качает головой: наверное, осталось несколько писем, два или три, написанных им в конце жизни, но она не помнит, где они, надо бы поискать. А рисунки все потеряны. Есть только последний автопортрет, законченный им как раз перед смертью, когда он уже не вставал с больничной койки. Карандаш и бумага всегда были при нем, он попросил у санитарки зеркало. Она ответила: «Тебе вредно утомляться. Отдохни-ка лучше!», но он настаивал, и она, зная, что он все равно обречен, принесла ему зеркало. И тогда он начал рисовать – молча, серьезно, опираясь спиной на подушки.
– Этот портрет, – говорит мать, – должен быть в Клозье, в спальне наверху.
– Надо будет мне съездить туда посмотреть. Расскажи мне о нем!
Она описывает брата: очень ранимый, умный, мечтательный, пожалуй, нелюдимый и неловкий с чужими. Окончив школу и получив блестящий аттестат, он, конечно, не смог учиться дальше. Четырнадцать лет – пора приниматься за сабо, чем он лучше других! По вечерам он много читал, читал и по воскресеньям, когда молодежь бегала на танцульки. С отцом не ладил. И в конце концов нанялся на завод в Париже. Ему тоже хотелось уехать.
Он больше не может переносить деревенскую жизнь, пьяные скандалы отца и даже этот гатинэзский край, который раньше так любил и который сейчас так обезображен нескончаемо долгой зимой. В мастерской он с утра до вечера выдалбливает сабо, стиснув зубы, молча переносит придирки и ругательства. Сквозь мутные оконные стекла ему видны согбенные домишки по обочинам грязной дороги, где изредка с трудом пробирается крестьянин с мешком на плечах, толкая перед собой скрипучую тачку. «И в этом вся моя жизнь!» – думает он. Невыразимая тоска охватывает его при виде этой серой равнины, упирающейся в лес, при виде тощей живой изгороди, над которой тяжело нависают облака. Кому же довериться, кому излить душу? Жорж на войне, сестра его слишком мала, друзей у него нет, он не заходит в кафе, где старики толкуют о зерне, о свекле и о последних новостях с фронта. Работа также гнетет его: одни и те же движения, бубнящий голос отца, вечный запах стружек и лака! К тому же он так быстро устает, его лихорадит, и по вечерам он немного кашляет: наверное, бронхит, от которого он никак не избавится по такой гнилой зиме. «Ложись лучше пораньше, чем книжки читать! – кричит отец, застав его однажды поздно ночью укутанным в одеяло и с книгой на коленях. – Ты что думаешь, у нас керосин дармовой?» Андре не отвечает, он не желает спорить, он знает: что бы там ни было, а книгу у него не отнять. По вечерам, когда отец засыпает и храп его раздается в соседней комнате, он потихоньку зажигает лампу, осторожно выдвигает из-под кровати чемоданчик и достает из него Золя, Толстого, Ибсена, Гюго или же иногда – но гораздо реже – Кропоткина, Бакунина, Эрве, которых ему посоветовал читать старший брат – у того голова занята политикой, он активно работает в солдатских комитетах, читает «Юманите». Не то чтобы он, Андре, не интересовался политикой, просто он чувствует, что его настоящая страсть и призвание не в этом. И однако, я нахожу в одном из трех писем, которые мать все-таки отыскала, строки, взволновавшие меня. Письмо адресовано Жоржу.
«Я твердо верю и всегда буду верить в то, что ты и другие борцы за общее дело приносите величайшую жертву народу, от глупости и безразличия которого так страдаете. Сможет ли эта трагедия, что длится уже целых три года, расшевелить умы и обратить их к нашим идеям? Сможет ли народ Франции разобраться в деле Мальви, которое является процессом над всем рабочим классом? Вчера в газетах был напечатан протест ВКТ. Итак, Мальви должен отправиться в Сен-Себастьян, а не в Германию, как утверждал эта сволочь Моррас. Поистине, к чему иметь демократические убеждения в нашей республике – и так будет продолжаться и дальше, если те, кто представляет народ в парламенте, не поднимут наконец свой голос. Что станет со всеми нами под гнетом реакции, которая набирает силу с каждым днем?»
Я нахожу, что для восемнадцатилетнего юноши он мыслил весьма глубоко и ясно, и стиль его письма достоин всяческих похвал.
Иногда по вечерам, закончив работу, он умывается над ведром, стоящим у порога мастерской, отряхивает свои плисовые штаны от налипших стружек и, так же как несколько лет назад Жорж, вскакивает на велосипед и едет по дороге, ведущей в Мельруа. Он приезжает туда в полной темноте. Деревенские улочки уже опустели, тут стоит запах супа и хлева. Он толкает школьную калитку и, обтерев сабо на пороге, стучится в дверь кухни.
– Это я, Андре!
– Входи, – откликается она.
Жермена сидит за столом, покрытым клетчатой клеенкой. Она проверяет домашние задания, но, увидев, что вошел Андре, кладет ручку на край чернильницы, заправляет упавшую прядку волос за ухо и улыбается ему.
– Я не помешал? – спрашивает он.
– Да нет, ты мне никогда не мешаешь! Я тут проверяла диктанты. А ты уже отработал? Садись же, не стесняйся!
Он усаживается возле плиты, разматывает шарф и кладет его на колени.
– Как девочки? – спрашивает он.
– Хорошо. Они уже поужинали. Спят.
– Есть новости от Жоржа?
– Сегодня утром получила письмо. Пока в их секторе спокойно, но надолго ли? А может, он мне не пишет всей правды? Ох, эта война, когда же она кончится! Он ведь столько боролся, всю жизнь не знал покоя… Как я надеюсь, что хоть тебя не возьмут, Андре! Но поговорим о другом! Ты приехал за книгами?
– Да, эти две я уже кончил: «Человек-зверь» и «Ошибка аббата Мурэ».
Он разворачивает бумагу, в которую заботливо завернул книги, и кладет их на стол.
– Погоди-ка, сейчас я тебе выберу другие.
Она берет лампу, и они идут по коридору.
В классной комнате пахнет мелом, чернилами и золой, печурка уже погасла, и ночной холод затопил комнату. Жермена открывает шкаф, где рядами стоят книги, все в черных коленкоровых переплетах с маленькой наклейкой на обложке, где от руки написаны имя автора, название книги, номер: сотни три томов, которые она ласково поглаживает по корешкам.
– Ну что ж тебе дать? Еще Золя? Я знаю, ты его любишь. Вот возьми «Землю» и «Разгром» – это прекрасная антивоенная книга. Знаешь, а ведь ты почти все здесь уже прочел. Ах, что бы мы делали без книг! Надо бы купить еще, но денег не хватает.
Он держит в руках обе книги, листает их, вдыхая знакомый запах, и внезапно у него вырывается признание: вот тут вся его жизнь – в книгах, в письмах Жоржа, и в ней, в Жермене, и во всех этих словах, во всех идеях, которые кружат ему голову. Но мастерская, но его отец, ох!..
– Да, я знаю.
Потом он говорит, что собирается уехать в город. Не в Монтаржи, нет, это слишком близко, а в Париж. Он хочет жить в Париже. Он уже написал Барлье, знакомому анархисту, который приезжал к ним в начале войны. И он очень надеется получить работу на заводе. Там, в Париже, у него будут книги, музеи, театры. А вдруг он сможет учиться рисованию по вечерам, после работы? Ему так хочется рисовать!
– Вот, погляди, это я сделал в прошлое воскресенье!
Он вынимает из кармана блокнот и показывает ей набросок: ферма, дерево, а на заднем плане низкое небо над пашней, стая ворон, и во всем ясно ощущается свинцовая тяжесть, пригибающая Гатинэ к земле в долгие зимние месяцы.
– Посмотри, вот местечко, где так и тянет повеситься в каком-нибудь сарае.
– Не говори так! Но рисунок твой хорош, знаешь! Ты ведь и правда очень способный, и как было бы хорошо, если бы ты смог учиться. Париж… да, может быть, ты и прав. Но завод… Подумай как следует! А пока что бери книги, тебе пора ехать. Отец, наверное, заждался.
На улице тьма, и он, согнувшись в три погибели, крутит педали, а сверху падает и падает на него серый снег пополам с дождем.
Андре уехал в конце зимы. Надо было бы описать его первое впечатление от Парижа, его ликование, его энтузиазм, смешанный с удивлением и робостью в ту минуту, когда он сошел с поезда на Лионском вокзале. На нем почти новый дешевенький вельветовый костюм, галстук, туфли. Он ставит чемодан между ног на тротуар и долго разглядывает толпу, лампочки, что зажигаются на фасадах домов. По правде сказать, я не знаю подробностей: моя мать рассказала мне о десятичасовом рабочем дне в предместье, о комнатушке в Марэ, которую он делил со старым анархистом Барлье, о письмах, в которых Андре так мало говорил о заводе и так много о самом городе, о его бульварах, о Елисейских полях, о Лувре, о «необъятнейшей» библиотеке, куда он ходил по вечерам.
– Сент… а дальше забыла, – говорит мать.
– Библиотека Сент-Женевьев?
– Да, кажется, так. Кажется, Сент-Женевьев.
Вот это мне легко себе представить, поскольку я и сам поздними вечерами ходил туда заниматься, когда был студентом в Париже. Тогда я еще не знал – да если бы и знал, меня это мало тронуло бы, – что он тоже сидел за одним из этих длинных столов, под лампой, изредка поднимая глаза к узеньким лесенкам, ведущим на галереи, сплошь заставленные книгами, где неслышно, как тени, скользили люди в серых халатах. Близилась ночь, ни один звук шумного города не проникал сюда, в этот храм слов, где – я это знаю! – повседневная действительность, время, пространство стираются, уступая место иному миру – не менее реальному, чем настоящий, – миру человеческой фантазии. Кого изучал он тогда – Бальзака, Флобера, Ибсена? Его мозолистые пальцы рабочего с нежностью листают страницы. Иногда глаза его смыкаются, усталость завладевает им, десять часов, отработанных в цехе, свинцом ложатся на плечи. Однажды он все-таки засыпает, уронив голову на книгу, и библиотекарь будит его, тряхнув за плечо: «Эй, здесь тебе не спальня! Для бродяг есть скамейки в сквере!» Пристыженный, он смотрит снизу вверх в разгневанное лицо, склонившееся над ним. Объяснять, оправдываться, да поверят ли ему? «В последний раз тебя предупреждаю, – бросает тот, уходя. – Смотри, я с тебя теперь глаз не спущу!» Он так боится быть выгнанным, что, почувствовав сонливость, изо всех сил вонзает себе ногти в ладонь.
Что касается уроков рисования, ему приходится временно от них отказаться: обучение стоит дорого, а ему надо экономить. Так проходят месяцы, заканчивается война, но он не участвует во всеобщем ликовании – в его глазах это скорее конец кровавого кошмара, чем победа.
А силы его мало-помалу тают. Зимой он начинает кашлять, плохо спит, его лихорадит. Он просыпается весь в поту. Заводской врач, прослушав его легкие, смотрит ему прямо в глаза:
– Ты очень серьезно болен, дружок. Тебе нельзя работать.
– А что у меня?
И тот резко отвечает:
– Туберкулез.
Удар слишком жесток. В его глазах – в моих глазах! – все внезапно расплывается, мир вдруг начинает вращаться с головокружительной скоростью и здание, которое он с такой надеждой возводил, дает трещины и готово рухнуть. Он так упорно, так страстно боролся с судьбой – и все разлетается в прах в этой серой фабричной больнице с немытыми окнами; и внезапно его сотрясает крупная дрожь, трясущимися руками он натягивает одежду, а врач продолжает:
– Тебе необходим отдых, хорошее питание, чистый воздух. У тебя есть родные в деревне?
– Да, – отвечает он как во сне, – да…
И он вернулся в деревню. Однажды вечером приехал на повозке с вокзала.
– Он так изменился, – рассказывает мать, – стал бледный, худой, глаза блестели от лихорадки. Я хотела его обнять, а он тихонько отстранил меня: «Не надо, лучше не подходи ко мне!» Он подсел к кухонному столу, положил ладони на клеенку и стал смотреть прямо перед собой, как будто видел что-то необычайное на стене, а Жермена говорила ему: «Вот ты и приехал. Хочешь, отдохни с дороги, я приготовлю тебе комнату!» Она решила поселить его в школе, в маленькой солнечной комнатке, окнами выходившей в сад, – так она могла ухаживать за ним. А мы все должны были разместиться в двух остальных комнатах. Он пошел спать. Я лежала в одной кровати с Жаклиной и никак не могла уснуть: я все видела его впалые щеки, лихорадочный взгляд, слышала его кашель в глубине коридора…
– Сколько же времени он пробыл у вас?
– Кажется, почти год. Знаешь, в те времена туберкулез – это был такой ужас! Андре не покидал своей комнаты, а нам запрещалось к нему входить. Он разговаривал с нами из-за перегородки, а иногда писал мне, как будто я жила на другом краю света. Вот, взгляни, я нашла одно из его писем.
«Моя комната, четверг вечером.Милая маленькая Луиза!
Я пишу тебе, раз мы с тобой почти не видимся из-за моей ужасной болезни, которая сделала меня затворником. Нас отделяет друг от друга лишь тоненькая перегородка, простая стена, но и ее достаточно, чтобы отдалить тебя от меня и помешать нам выразить друг другу свою любовь. В этом письме я хочу поблагодарить тебя за те две книжки, которые ты подарила мне к Новому году. Я обязательно хочу поблагодарить тебя, чтобы ты не сомневалась в том, как бесконечно я тронут твоим нежным вниманием ко мне. Надо ли говорить тебе, что, получив их, я плакал от умиления?! Тебя это не должно удивлять: я ведь теперь часто плачу. И однако, я все же сообщаю тебе об этом, Луиза, потому что хочу, чтобы ты знала: мои слезы иногда бывают вызваны чувствами, которые нельзя назвать чисто эгоистическими. Сегодня вечером меня вдруг охватила тяжелая печаль – как будто черная, мрачная туча застлала мне глаза. Она принесла с собой что-то такое, что подавило мою волю, ибо сквозь тьму, окутавшую меня, все окружающее становилось особенно зловещим. Я думал о всех тех жертвах, которые ты приносила и до сих пор приносишь мне, так же как милые, добрые Жорж и Жермена. Все во мне восстало против этого неумолимого зла, сделавшего вас рабами. Когда я говорю „рабы“, я ничуть не преувеличиваю. Подумать только! Из-за меня вы никуда не можете отлучиться, вы прикованы к дому. Вы не можете покинуть меня. Да, вы не позволяете себе никаких поездок, никаких развлечений. Вы ведете жизнь, полную непрерывного тяжкого труда, и для вас уже целых восемь месяцев длится это монотонное существование, на которое вы обрекли себя. Нет, правда, я часто говорю себе, что злоупотребляю вашей преданностью, что я не имею права заставлять вас страдать из-за моей болезни. Ведь не вы же в ней виноваты, так почему ваша жизнь должна быть из-за нее испорчена? Ей-богу, признаюсь тебе, раз уж я начал исповедоваться, что, если бы я мог поехать в санаторий, я был бы очень рад этому, зная, что освобождаю вас от себя».
«Пятница, после полудня.Грустное письмо! Зачем я пишу тебе его, ведь оно только расстроит тебя! Не знаю. Думаю, что у каждого из нас наступает в жизни такой момент, когда больше невмоготу оставаться наедине со своими сокровенными мыслями. И тогда с человеком происходит то, что произошло со мной: хочется доверить их самому близкому существу, поделиться своими размышлениями, которые преследуют меня, не дают мне покоя. Прости меня, милая Луиза, и знай, что я бесконечно ценю то, что каждый из вас делает для такого капризного и сварливого, а подчас и злобного больного, как я. И все же, несмотря на это, мое сердце целиком отдано вам. Я люблю тебя, люблю вас всех, я только и держусь этой вашей любовью ко мне.
В последнее время я немножко воспрянул духом. Если бы я верил в какие-нибудь сверхъестественные силы, я бы молился, я бы умолял о том, чтобы это состояние души продлилось как можно дольше.
Твоя оценка моего утреннего рисунка оказалась вполне справедливой. Ты нашла, что я слишком обезобразил себя на портрете, и действительно, когда Жермена принесла мне фотографию и я сравнил оба изображения, я согласился с тобой: мой рисунок – дрянь, как и все остальные. Теперь я понимаю, мне пришлось бы здорово потрудиться, чтобы не остаться навсегда таким вот жалким мазилой, как сейчас. Бланш – та наверняка стала бы уверять меня в своих письмах, что я гений. Ерунда все это. А главное то, что я имею возможность приятно проводить время, рисуя сколько душе угодно. Я и тебе советую: занимайся тем, к чему тебя тянет. Я убежден, что при упорстве и настойчивости ты обязательно достигнешь того, что сможет доставить тебе радость.
Прими же, милая Луиза, самый нежный братский поцелуй от любящего тебя
Андре».
– Понимаешь, – говорит мать, – он читал, он рисовал, но настроение у него было ужасное. Однажды, проходя по коридору, я услыхала его рыдания. Сперва доктор считал, что ему становится лучше, но потом, в середине зимы, состояние его ухудшилось. Старик качал головой: «Ему бы надо поехать в горы, но это так дорого! И потом, я его знаю, он не вынесет жизни в санатории. Посмотрим!..»
Он измеряет течение дня по движению солнца, по щебету птиц, по топоту стада или скрипу повозок, по давно знакомым, привычным шумам дома. И по детям… Особенно по детям: вот они бегут к школе, и он слышит дробный перестук сабо, вот декламируют что-то хором в классе, глухо и монотонно, точно молитву, вот радостно загомонили на переменке, а теперь, наверное, пишут диктант, потому что до него доносится серебристый голос Жермены, раздельно и четко произносящей слова; он различает: «запятая», «точка с запятой», «точка и конец» – последнее всегда вызывает общий вздох облегчения и легкий гул, тут же прерываемый стуком линейки по столу: «Тише, тише, дети! Теперь возьмите карандаши и проверяйте!» Урок счета. Урок пения. Все эти разреженные звуки долетают до него сквозь стены, через коридор, замирая и тая по дороге в его комнату, где он лежит и читает. Иногда, разморенный полуденной жарой и неумолчным гудением мошкары, он задремывает. Позже, к вечеру, его будят чьи-то вскрики, топот сабо по переулкам, и вот наступает час, самый опасный для больных, тот сумеречный, невнятный час, когда утренние надежды развеиваются в прах, уступая место видениям, исполненным ужаса и отчаяния. И тогда, уронив раскрытую книгу на грудь, он опускает веки и лежит неподвижно, совсем как мертвый.
Подошла весна, и в деревне начались пересуды и волнения. Все знали, что молодой человек поселился в задней комнате школы: он утомлен и нуждается в отдыхе. Что ж, на первый взгляд ничего особенного, но время идет, и жители начинают шептаться, расспрашивать, подозревать самое худшее. Как-то вечером одна старуха, возвращаясь с луга с охапкой травы для кроликов, увидела Андре за окном. «Худющий, весь белый, а глаза вот такие, аж страх берет!» И действительно, деревню охватывает страх, страх близости этого недуга, который боятся назвать вслух, о котором говорят обиняками, как будто само слово уже таит в себе заразу. Многие семьи волнуются и громко возмущаются. Только этого еще не хватало – такой больной в школе! И их, в общем-то, можно понять. Пишут письмо инспектору школьного образования. В школу является мэр – толстый, неопрятный крестьянин, говорит он путано, но обеими ногами крепко стоит на земле: «Бедняга – такой молодой, ну и попал он в переделку, жалко, конечно, но придется ему убраться отсюда». – «Говорите тише, – просит Жермена. – Что, если он вас услышит!» Кюре не приходит, тот действует на расстоянии. Эти безбожники, эти красные, они навлекут беду на деревню, он всегда это предсказывал. Еще немного, и он начнет разглагольствовать о каре господней! Андре ничего не подозревает о поднявшемся переполохе. Впрочем, ему и не до того: состояние его резко ухудшается, кровохарканье лишает последних сил, он почти не встает с постели. Врач решает отправить его в парижскую больницу. Позже, говорит он, мы, может быть, найдем средство поместить его в горный санаторий.








