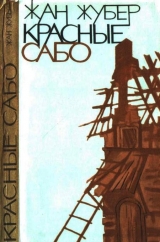
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Дневной свет меркнет в комнате, но я едва замечаю это и забываю повернуть выключатель. Снизу, как когда-то в детстве, доносится голос матери:
– Если хочешь, можно ужинать.
Я бормочу: «Да-да». Мне так не хочется отрываться от чтения, но неудобно перед матерью, я откладываю книгу и спускаюсь на кухню.
Если наша библиотека была более чем скромной, то дядина долгое время казалась мне совершенно неиссякаемой. Эти тома в грубоватом переплете из черного коленкора я в каждый свой приезд к нему брал и привозил обратно в связке на багажнике велосипеда, они казались мне сияющими просветами среди серости провинциальной жизни, которая, по мере того как уходило детство, все явственней обнаруживала свою убийственную монотонную тоску. Книги утоляли душевный голод, который я ощутил к двенадцати годам и который не оставляет меня доныне. Теперь-то я понимаю, что библиотека эта была не так уж и велика и особенно была бедна поэзией, если не считать Бодлера и Ришпена, попавших туда по какой-то необъяснимой случайности. Я сильно сомневаюсь, раскрыл ли дядя хоть раз в жизни Бодлера. «Такие штуки не для меня, я в них ничего не смыслю!» – говаривал он, когда я пробовал беседовать с ним о поэзии, и, насупившись, упрямо качал головой. Поэзия не доходила до него, его интересовали «идеи». То же самое было с Жаклиной и Жерменой – преданные своему делу учительницы, они воспринимали стихи лишь как предмет для декламации. А ведь известно, какого сорта «поэзия» мелькала на страницах учебников начальной школы: назидательные стихи, глуповатые жанровые картинки, банальные размышления о жизни отставных школьных инспекторов, и среди всей этой мешанины – неизменный и обязательный Гюго. Разумеется, не самые лучшие стихи. Только «Искусство быть дедом».
В конце концов я попросил у дяди «Цветы зла» и «Песнь нищих» и увез их на багажнике своего велосипеда. Я яростно жал на педали, несясь в темноте, и время от времени глядел через плечо, проверяя, не потерял ли я свое сокровище.
Сейчас я не могу припомнить во всех подробностях эту первую свою встречу с Бодлером, занявшим потом такое важное место в моей жизни. Помню только, что она пробудила во мне смешанные чувства – восхищенное изумление и почти испуг. Самые яркие стихотворения буквально вознесли меня на вершину блаженства, и я переписал к себе в тетрадь «Предсуществование», «Экзотический аромат» и, конечно, «Приглашение к путешествию»:
Эти стихи и поныне дороги моему сердцу. Но вот другая сторона его творчества – темная, мрачная, плотская – сбивала меня с толку. Я еще не достиг возраста тревоги и отчаяния. Даже сами названия пугали меня, и я прятал книгу поглубже в шкаф, хотя моей матери в жизни не пришло бы в голову запрещать мне какое бы то ни было чтение. Разве что она иногда спрашивала как бы невзначай: «А тебе еще не рановато это читать?», но окончательное решение всегда оставалось за мной.
Впрочем, Ришпен тоже произвел на меня довольно сильное впечатление, и я несколько месяцев продержал его на столике в изголовье кровати, прежде чем вернуть дяде. Но в противоположность Бодлеру, которого мне еще только предстояло полюбить, Ришпен не оставил в моей душе заметного следа. Во всяком случае, больше я его никогда не перечитывал.
В эти последние годы нашего века, когда все движется и летит с головокружительной быстротой, когда к услугам легионов бездельников – стоит им только мигнуть – реактивные самолеты, которые мгновенно доставляют их на другой конец света в продезинфицированные, кондиционированные отели Калькутты, Нью-Йорка, Токио, Катманду, откуда они возвращаются не более удивленные всем увиденным, чем скажем, мы из наших редких поездок в Орлеан или в Фонтенбло, но зато все более пресыщенные и скучающие, – так вот, я ясно вижу в наше лихорадочное время, до чего же малоподвижно и оседло жила прежде наша семья. Мина никогда не бывала в Париже; может быть, она иногда добиралась до Морэ или Питивье на каком-нибудь попутном дребезжащем автобусе – надо будет спросить об этом Симону, – но она так и не увидела ни гор, ни моря. Впрочем, думаю, у нее и времени-то не хватало даже помечтать об этом; она разглядывала открытки с видами, и этого ей было достаточно. Ее миром был дом, сад, курятник, карьер, а дальше поселок и наконец лес, который, верно, был для нее чем-то вроде Африки или Ориноко. Самым дальним ее путешествием долгое время был переезд из Сен-Жан-де-Брэ в Шалетт – она тогда вышла замуж, а завод как раз начал опустошать деревни, нанимая рабочих. Шестьдесят километров! Для простого люда вселенная нередко ограничивалась несколькими гектарами. На них рождались, на них жили и умирали: короткая траектория от земли к земле. А за пределами их мирка расстилалось некое зыбкое пространство, откуда иногда доходили смутные слухи, а иногда и налетали бури, перед которыми нужно было смиренно согнуть спину. И только война, одна она, способна была сорвать с места этих людей. После долгих изнурительных переходов ошеломленные люди оказывались на чужой, неведомой земле, которая потом вспоминалась им лишь тяготами, голодом, холодом и жестокой, беспощадной бойней.
Мой отец ни в чем не походил на ветерана войны. К войне он относился с ужасом и презрением, угадывая, что в ее истоках лежат страсть к наживе и соперничество хищников. «А расплачиваться, как всегда, приходится маленьким людям!» Впрочем, он никогда по-настоящему и не сражался. В девятнадцать лет он попадает в Салоники; теперь наши враги – турки, эти усатые дикари, разъясняют солдатам, но отцу так и не довелось увидеть ни одного турка, с усами или без оных, и вспоминалось ему впоследствии вовсе не очарование Востока, а военные катера в штормящем море, пляжи, огороженные колючей проволокой, бараки для солдат, тощие, голодные лошади и блистательная неразбериха при передвижении французских войск. Я разочарованно слушал его, в тщетной надежде услышать сказки «Тысячи и одной ночи». Впрочем, я не очень ясно представлял себе, где эти самые Салоники, кажется, я тогда путал их с Константинополем. Скорее всего, он и сам ни в чем не успел разобраться: солдаты высаживались на берег, получали оружие, сидели на месте, ждали, скучали, потом уезжали. Турки с усами так и не вошли в их программу.
Затем его перебросили в оккупированную Рейнскую область, и вот об этом периоде своей жизни он вспоминал чуть ли не с умилением, хотя и такая жизнь тоже была не в его духе. Он вспоминал о зеленых рейнских берегах, о кабачках, о пиве, о белом рейнском вине. Моя мать добавляла: «И немочки были тоже ничего!» Об этом предмете отец не распространялся. «Ба!» – восклицал он с улыбкой, и только, но я видел, как в его голубых, почти немецкой голубизны, глазах едва уловимо мелькала какая-то грусть. У меня сохранилась фотография, на которой старательно позирует группа солдат, собравшихся во дворе казармы: первый ряд сидит на земле, второй стоит позади, все глаза напряженно устремлены в объектив, фотограф, видимо, крикнул: «Не шевелиться!» – и нырнул под черное покрывало. Улыбки становятся натянутыми, а лица все более неестественными. А вот живая картинка: какой-то верзила вздымает кверху кувшин, его товарищ чокается с ним пузатой кружкой. Мой отец сидит в центре – здесь он уже в чине сержанта, – светлые глаза, красивое лицо, а рядом с ним, такая неуместная в этой мужской, впрочем, не слишком воинственной с виду компании, молоденькая девушка, почти подросток, я всегда не без некоторой неловкости размышлял о том, какую роль она при них играла? Стряпуха? Подавальщица? Не знаю, но, вне всякого сомнения, немка, с косами, уложенными на голове, только не из пышных немецких блондинок, напротив: впалые щеки, лихорадочный взгляд, тоже устремленный в объектив. Дело было в Майнце, весной 1919 года – во время цветения вишен и голода. Люди старались забыть несчастья, принесенные войной, но в глазах этой девушки я еще вижу ее мрачную тень.
Июнь 1939 года, самое начало войны, и такое же впечатление полной неразберихи. Приемник исходил неразборчивым треском и свистом. Трагический голос диктора вещал о том, что родина в опасности, призывал встать под знамена, твердил о чести и вере в наше оружие. Отец в глубокой задумчивости стоял у окна, прислонясь лбом к стеклу и глядя в сад, потом повернулся к нам и сказал:
– Это война. Опять все сначала!
Смеркалось, но я заметил слезы у него на глазах. Я никогда еще не видел его плачущим. Теперь мне кажется, все, что нас ожидало в дальнейшем, было в ту минуту написано на его лице.
Но в 1940 году произошло то великое переселение, которое в считанные недели вовлекло множество оседлых людей в водоворот странствий и приключений и которое мы окрестили величественным словом «исход». Об «исходе» люди говорили бесконечно, тысячи историй и анекдотов обрастали все новыми и новыми подробностями и в конечном счете превращались в легенду. И сейчас, задним числом, они сохранили о том времени воспоминания не трагичные, а скорее веселые, почти комедийные: этакая странная фиеста, которая была особенно памятна от близкого соприкосновения с опасностью и смертью. «Забавно, – говаривала Алиса, – вроде бы все потеряли, а унывать и не думали!» Симона высказывалась в том же духе: «Жили как туристы! И ничего, жили!» Что же касается Мины, та по своему обыкновению помалкивала, но по тому, как она улыбалась, обнажая беззубые десны, я понимал, что и она, в свои семьдесят лет, сумела оценить это приключение.
Я всегда задавался вопросом, отчего в том памятном июне половина Франции снялась с места: было тут и потрясение после чудовищного разгрома, и, конечно, заразительный, как болезнь, страх, но, может быть, ко всему этому примешалось еще и безотчетное, сумасшедшее желание вырваться в начале лета из привычной рутины жизни на бессрочные каникулы.
Первыми двинулись бельгийцы: запыленные, грязные перегруженные автомобили, чуть не задевавшие брюхом землю; длинные телеги, заваленные чемоданами, тюфяками, клетками с колибри, собаками, кошками и детьми. За ними устремились жители Севера Франции, потом парижане – тоже на машинах, на велосипедах, с тележками, затем с тачками, и, наконец, те, у кого не было ничего, кроме мешка за плечами, или те, кто и этот мешок потерял, – они шли по обочинам, пропуская поток машин, нараставший по мере распространения всяких слухов и паники и то и дело образующий пробки. Вся эта лавина катилась мимо нас по парижскому шоссе, и мы сперва только наблюдали за столь живописным, а потом откровенно тревожным зрелищем. Какая-то растерзанного вида семья рассказывает нам, что они идут из Фонтенбло, что город бомбили, что там множество погибших. Женщина плачет. А ведь это в пятидесяти километрах от нас! Мы призадумываемся. И вдруг нас тоже охватывает паника. В какие-то считанные часы мы судорожно складываем вещи, привязываем тюки к багажникам велосипедов и, с трудом толкая их, устремляемся вместе с общим потоком по направлению к Луаре.
В том июне выдался неслыханный урожай хлебов: по обе стороны дороги стеной стояли тяжелые, налившиеся колосья, еще чуть зеленоватые, между ними горели маки, синели васильки. Еще немного, и мы готовы были остановиться и начать рвать цветы, делать букеты, забыв о войне и об этом разгроме, сорвавшем нас с места и увлекшем на юг. Синее небо над нашими головами, приветливое летнее солнышко, в лесу, мимо которого мы шли, ворковали горлицы.
В тридцать шестом году мы вот так же, всей семьей, ходили в лес или в луга и вдыхали тот же запах поспевающих хлебов и свежей листвы, и так же играли солнечные блики на лесной поросли. Но праздник кончился, уцелели только остатки декораций.
И сейчас нас окружала растерянная толпа, теснились и напирали легковые машины, забитые матрасами, повозки с впряженными в них першеронами, где сидели, свесив ноги, ошеломленные крестьяне, порой проезжал военный грузовик, откуда выглядывали хмурые, серые лица солдат. То тут, то там автомобиль, опрокинувшийся в кювет или в последнем рывке въехавший в поле, оставив за собой борозду, как от подбитого зверя. Поднятый капот, распахнутые дверцы, из которых вываливались наружу узлы и чемоданы.
– Смотри-ка! – сказала Симона, остановившись около одной из машин. – Какое красивое белье!
И она нагнулась было, чтобы потрогать вышивку.
– Ты что, рехнулась? – закричала Мина. – А ну иди сюда! Не смей трогать!
– Жалко все-таки!
Но она зашагала дальше по обочине, держа за руку Сильвию, а Мина за ее спиной монотонно бурчала:
– Господи, вот несчастье-то! Ну прямо неисправимая какая-то!
А мы все толкали наши велосипеды, горло пересохло, пот обжигал лицо, велосипед Эжена, нагруженный сверх меры, иногда опрокидывался. Выругавшись: «Черт бы побрал это чертово отродье!», он поднимал его и выправлял руль. Мина причитала: «Боже мой, как подумаю, что мы все бросили на произвол судьбы: и дом, и сад, и кроликов!» – но чувствовалось, что жалуется она только для виду, да она и сама позже признавалась мне, как ей тогда вдруг стало легко и свободно и как она поняла, что, в сущности, главное в жизни – жить, а все остальное не имеет значения. А потом этот страх, от которого сжималось все внутри, оказалось, что и он в конечном счете не так уж и неприятен. Он тлел в нас слабым огоньком, внезапно разгораясь от нескольких слов, брошенных другими беглецами: «Немцы уже в Лорри. Орлеан горит. Они бомбили мосты. Они расстреливают мирных жителей. Но их остановят на Луаре!» Преувеличенные, но якобы достоверные, раздутые паникой слухи сбивали нас с толку и заставляли то ускорять шаг, то колебаться, стоит ли идти дальше. И все же мы шли вперед – единомышленники, почти пленники этой массы, устремлявшейся к реке. Впрочем, самолеты мы видели только издали, да и то надеялись, что они были французскими. Изредка до нас доносились глухие раскаты, но мы не были уверены, канонада это, бомбардировка или же то взрывались склады с горючим. Ничего по-настоящему трагического или кровавого в этой неразберихе мы не наблюдали, если не считать вечера первого дня, когда над нашими головами на бреющем полете с воем пронесся самолет и в закатных лучах солнца я явственно увидел на его серых крыльях огромную черную свастику. Он спикировал на дорогу, и мы гурьбой бросились в канаву, уткнувшись носом в землю с бешено колотящимся сердцем. Сильвия заплакала, какая-то старуха закричала, я прижался к отцовской ноге, а перед моими глазами медленно вращалось колесо опрокинутого велосипеда. Мы ждали взрыва, но самолет со свистом пронесся над нашими головами, не обратив на нас внимания, и исчез.
Когда стемнело, мы сошли с дороги и устроились на ночлег на лугу под стогом сена. Мужчины вытащили из стога несколько охапок, и мы улеглись на них, укрывшись одеялами. Вокруг в темноте бродили какие-то тени, ощупью отыскивая себе убежище на ночь. Кто-то кого-то звал, слышался шепот, порой приглушенные ругательства, потом шаги удалялись в сторону поля, откуда доносилось ржание лошади.
– Ты, наверное, устал, – сказала мне мать. – Мы ведь столько прошли с утра!
– Да, устал немножко. А завтра мы пойдем дальше?
– Конечно, так что засыпай поскорей. Набирайся сил!
– А Луара далеко еще?
– Километров двадцать пять – тридцать. К вечеру должны дойти. Не бойся, все будет хорошо. Вот перейдем Луару и отдохнем на другой стороне, в Солони.
Я попробовал представить себе Солонь, страну лесов, озер и ланд, может быть, хоть туда война не дойдет. В лунном свете я видел профиль матери, склонившейся ко мне, и думал: как все-таки странно, что мы все очутились здесь и спим на соломе, под открытым небом.
Мать поплотнее укутала меня одеялом.
– Не раскрывайся. Ночи еще холодные. Засыпай поскорей!
И она устроилась рядом со мной, а я долго еще лежал без сна, слушая неразборчивую перекличку голосов в темноте и ворчание моторов на дороге. В поле робко запела цикада. С тихим шорохом проносились в воздухе летучие мыши. Дядя Эжен давно уже храпел, надвинув каскетку на самый нос. Я пытался представить себе, на кого похожи немцы, гнавшиеся за нами по пятам, наверное, на ужасных чудовищ, раз от них бежит пол-Франции. То они виделись мне в остроконечных касках, как на фотографиях из журналов времен первой мировой войны, то сеющими смерть гусарами и уланами 1870 года, какими они представали в рассказах моей бабушки. Но мне было известно, что теперь у них на вооружении мощные военные машины. Спят ли они ночью или же продолжают гнаться за нами, как хищные звери за добычей? И что мы будем делать, если тот знаменитый мост, на который вот уже несколько дней уповают все беженцы, тоже разрушен? Я чувствовал, как захлопывается ловушка, но наконец, измучившись от всех этих мыслей, заснул.
Утро встречает нас такой же солнечной погодой, но идиллия окончена: на рассвете, едва мы просыпаемся, над нами с яростным воем проносятся самолеты – они летят на юг и там, у реки, внезапно спикировав, обрушивают на берег свой бомбовый ураган. Потом они улетают, оставив на месте взрыва черный султан дыма, который, извиваясь, поднимается вверх и заволакивает все небо. Чем дальше, тем гуще становится толпа беженцев, а давка все сильнее, так как к мосту сходятся сразу несколько дорог. Оборванные, грязные солдаты уверяют нас, что мост еще цел, но вряд ли долго продержится: уж если немцы за него возьмутся, вот будет побоище, черт побери! Повсюду в кюветах валяются брошенные исковерканные машины с разбитыми стеклами, а в поле горит большой грузовик-цистерна, черно-багровое пламя лижет ближайшие колосья и выбрасывает клубы едкого дыма, от которого першит в горле. Мы медленно продвигаемся вперед, пригнувшись к велосипедам, то и дело проваливаясь в рытвины и сталкиваясь с «ситроенами», набитыми офицерами, машины тщетно пытаются пробраться сквозь эту плотную толпу. Один из офицеров, высунувшись из машины, с непокрытой головой, с блестящими позументами на погонах, кричит:
– Разойдитесь! Пропустите! Дайте проехать вперед, у нас приказ!
Он кричит таким хриплым, таким страшным голосом, что толпа расступается, пропуская автомобиль, который с трудом проезжает, поднимая тучи пыли, смешанной с дымом. Потом опять раздается вой самолета – он проносится совсем низко над нашими головами, мы бросаемся на землю и на этот раз слышим стрекот пулемета, свист пуль, крики и стоны, а самолет пролетает дальше, и пулемет продолжает бить по толпе.
– Вы целы? Все живы? Бежим, пока он не вернулся! – кричит мой отец, и мы, пригнувшись, бежим по проселку к ближайшему леску, который зеленым островком стоит среди моря дыма.
И вот тогда-то я вдруг увидел, что по полю, ставшему сплошным пожарищем, к нам несутся лошади. Они мчались с бешеной скоростью, но каким-то странным, сбивчивым галопом, с прерывистым ржанием, похожим на стон. Они скакали, взрывая землю копытами, и когда оказались совсем близко, дым внезапно рассеялся, и я, содрогнувшись, увидел, что их обгоревшие тела превратились в сплошную багровую рану. Жеребец, мчавшийся впереди, показался мне великаном, он дико тряс головой, на которой догорали остатки гривы, на месте глаз у него было кровавое месиво. Я завопил, рядом закричала моя мать и другие женщины. Отец схватил меня и потащил к деревьям, но ослепшие лошади, то ли расслышав наши крики, то ли почуяв препятствие на своем пути, замедлили скачку, на миг сбились в темную неясную массу и помчались в другую сторону, оставляя за собой невыносимый запах паленого волоса и горелой кожи.
Я помню, что в тот день к вечеру, когда мы, еле живые, среди чудовищного столпотворения наконец перебрались через Луару, перед нами то и дело возникали сцены еще более трагичные: несколько трупов, лежавших на пригорке – люди как будто спали в траве, старый квартал городского предместья, весь охваченный пламенем, страшная давка на мосту, которая, случись в ту минуту авианалет, мгновенно обернулась бы кровавой бойней, – однако то видение заживо горящих лошадей долго еще терзало меня по ночам, вторгаясь в мои сны, и до сих пор воплощает для меня весь ужас войны.
Да, теперь я воочию увидел ее – войну, ощутил ее дыхание, когда мы, спотыкаясь, задыхаясь от бензиновой вони и горького дыма, преодолевали последние метры моста. И я вспомнил дядю Жоржа, он так часто говорил мне о войне, что самое это слово вонзилось в меня, точно длинный шип, который, по правде говоря, мне так и не удалось вырвать. Наверное, в эти часы дядя тоже скитался где-то по дорогам, блуждая среди пожаров и бомбежек, – совсем как во время прошлой войны, той, «первой», о которой он так много рассказывал мне: лошади, обезумевшие от артиллерийских разрывов, несутся, не разбирая дороги, повозка кувыркается по рытвинам, а сам он стоит в ней, широко расставив ноги, как возница на римской колеснице, и, полумертвый от страха, пытается успокоить и сдержать взбесившихся животных.
– Какое же дерьмо эта война! – восклицал он, отставляя сабо на верстак. – Что мы сделали немецкому народу или что он сделал нам? Ничего. Мы просто пушечное мясо – и те, и другие! Но, понимаешь, есть люди, которые оборачивают это себе на пользу!
Для него дело было яснее ясного, он доставал с полки засунутые между банками с гвоздями и лаком экземпляры газет «Либертэр» или «Патри юмэн».
– Вот, держи, прочтешь и увидишь.
И я читал их, сев у окошка, затянутого паутиной, пока дядя орудовал своей стамеской, вырезая сабо, уперев колено в верстак.
– Может, и не таким уж блестящим стилем написано, но зато от сердца, вот что главное!
В самом деле, «сердца» тут хватало, так же как и пылких обличений всех этих «заядлых вояк» и «торговцев пушками», которые были изображены тут же рядом, на злых карикатурах: одни – в кепи, с усами и стеком, попирающие ногами нижних чинов, как охотник свою добычу, другие – в цилиндре и с сигарой, а вокруг головы венчик из пулеметных лент и гранат. Мне было тогда лет десять. И для меня, как и для дяди, тоже все было просто и ясно.
– Скоро ты сможешь читать серьезные книги: Золя, Толстого, Валлеса. Вообще всех пацифистов. И Роллана, и Барбюса, ну да ты сам увидишь!
Я спрашивал:
– Скажи, а будет еще война?
– Боюсь, что да. В Испании уже началось. Это ведь как пожар, не остановишь. Наверное, воевать будут всегда.
– Значит, и нам придется воевать?
– И нам, и другим! Ох, какое безумие! И ничего нельзя поделать! Что тут скажешь? Они сильнее нас.
Я помню усталый взмах его руки, нахмуренный лоб.
И вот нас настигли война и поражение. У моста на той стороне за укрытием из мешков с песком горстка солдат устанавливала пулемет, и, когда мы проходили мимо, мой отец узнал одного из них.
– Э, да это Легран! Что ты здесь делаешь?
– Вот получили приказ, старина. Должны удержать мост.
– С одним пулеметом?
– Да, ничего больше у нас нет. Мост заминирован. Когда они подойдут, мы его взорвем. А потом… посмотрим по обстановке.
– Да они рехнулись! – сказал отец.
Мать потянула его за рукав:
– Пошли, не надо здесь стоять! Им ничем теперь не поможешь. Бедняги, они остаются на верную смерть!
Да, у них был приказ, так же, как и у тех штабных офицеров в «ситроенах», которые обгоняли нас, спеша в Бурж или в Бордо, только приказы были разные.
Когда мы перешли через Луару и добрались до Солони, мне показалось, что мы наконец ушли от войны. Разрывы бомб ухали с каждым днем все глуше и дальше, и я снова услышал пение ветра и птиц. Благодаря карте, которую захватил мой отец, мы могли пробираться по сравнительно свободным проселочным дорогам, вьющимся меж озерками и сосновыми рощами; ночью мы укладывались спать на папоротнике или в каком-нибудь сарае. Запасы еды истощались, и в сумерках, накопав на чьем-нибудь поле картошки или надергав моркови, мы пекли их в золе. Сидя вокруг костра под открытым небом, поедая эту примитивную, обжигающую рот пищу, эти овощи, только-только выхваченные из углей, мы словно вдруг вернулись к временам наших предков – угольщиков, правда, эти лица, на которых плясали отсветы костра, скорее напоминали мне о каком-нибудь диком племени. Я шепнул Сильвии:
– Мы едим бизона. Мы индейцы и вышли на тропу войны!
– Ага! Или негры!
Усталость и волнения первых дней пути сперва как будто совсем сморили Сильвию, но мало-помалу она развеселилась, и мы возобновили наши игры. Здешняя природа меня очаровывала, несколько лет спустя я с волнением и радостью вновь встретился с ней в «Большом Мольне».
В одной деревушке близ Вьерзона нам сказали, что Петэн запросил перемирия, что война окончена и дальше идти незачем. Во всех взглядах сквозь печаль и смертельную усталость проглянуло также огромное облегчение. На площади люди, сбившись в маленькие группки, вполголоса обсуждали новость. С пастбищ возвращались стада, животные подходили к фонтану, чтобы напиться, из открытых ворот хлева доносилось позвякивание цепей. На следующий день толпы беженцев медленно двинулись обратно на Север.
По возвращении мы нашли наш дом и дом Мины совершенно разоренными: двери были выломаны, все продукты съедены, на кроватях кто-то спал, повсюду на полу валялось разбросанное белье, посуда и прочие вещи.
Мы переходили из комнаты в комнату, и Мина не переставала причитать:
– Ах ты господи боже, вот беда-то!
Алиса разглядывала паркет, который она всегда натирала до неистового блеска.
– Посмотри, нет, ты только посмотри! Ей-богу, они же тут танцевали в своих сапожищах с гвоздями. Не очень-то они церемонились, свиньи эдакие! Ну и задали они мне работку!
Она подразумевала немцев, но, по правде говоря, ничего нельзя было сказать наверняка – возможно, сперва в доме побывали беженцы и отступающие французские солдаты. Несколько стариков, остававшихся в поселке во время всеобщего бегства, затаились в своих домах и могли только сбивчиво рассказать о топоте, криках и шуме моторов. Потом появились немцы: мотоциклисты, броневик и пехота. Да, тут никаких сомнений не было.
В столовой, на столе, среди пустых бутылок, окурков и разбросанных пластинок, кто-то водрузил наш граммофон. Я бросился к нему.
– Как ты думаешь, он действует?
Я покрутил ручку и с облегчением услыхал знакомое шипение. Я поставил «Рамону», и из металлического раструба пополз знакомый чуть гнусавый голос.
И внезапно, позабыв об усталости, я ощутил счастье; мы все вернулись домой, живые и невредимые, и дом наш не был разрушен, и аромат цветущих лип струился из карьера, и я слушал «Рамону».
Подступала ночь, и, так как электричества еще не было, мы зажгли керосиновые лампы.
Люди постепенно стали возвращаться домой на велосипедах, с детскими колясками и узлами, а некоторые, потеряв все свое добро в суматохе и давке, – с пустыми руками. Все рассказывали одни и те же истории о бомбежках, о переправе через Луару. В течение нескольких дней нам удалось все привести в порядок в доме, и в конечном счете мы не понесли никакого урона, если не считать съеденных продуктов.
– Да уж, кто-то ими попользовался, – говорил мой отец. – Кто-то тут похозяйничал и себя не обидел, пока мы, как последние дураки, таскались по дорогам!
Мне даже кажется, будто он подозревал кое-кого из оставшихся соседей в том, что они воспользовались нашим отсутствием.
Под конец нам даже удалось отыскать в карьере нескольких кур и кроликов, которых мы выпустили, покидая дом, и восстановить потоптанные грядки и клумбы. С продуктами было трудно, приходилось выстаивать длинные очереди в лавках. Но вскоре вновь был пущен завод, и по утрам я опять, как и раньше, слышал заунывный вой сирены и шелест велосипедных шин под окном.
Немцы расположились в поле, за фермами. Мы с Сильвией бегали к парижскому шоссе смотреть на передвижение войск: танки, пушки, пехотинцы в сапогах и касках потоком двигались по дороге. Стоя на почтительном расстоянии, мы смотрели на них, разинув рты. По вечерам солдаты распевали в поле свои песни, и, поскольку были они молодые и красивые парни, некоторые деревенские девчонки уже начинали как бы невзначай вертеться возле их лагеря.
Стоял жаркий июль, у меня впереди были долгие каникулы, так как занятия в коллеже должны были начаться только в октябре. На ферме у замка жатва была в самом разгаре, и если бы не торчавшие там и сям по обочинам черные скелеты сгоревших машин, не брошенные пулеметы да несколько свежих могил, то легко можно было бы представить себе, что войны никогда и не было.
В сущности, как я теперь понимаю, все мы просто смирились с поражением, повсюду утверждали, что, добившись перемирия, Петэн совершил единственно разумную вещь – с этим соглашались все, даже коммунисты, которые оправдывали германо-советский пакт, даже дядя, не любивший военных.
– На этот раз я снимаю перед ним шляпу! – говорил он.
Наивный человек! Он поверил, что тот, кто усмирял солдатские волнения в семнадцатом году, был способен спустя двадцать лет перековаться в пацифиста! Некоторые рассказывали, что какой-то чудак в Лондоне призвал продолжать войну против немцев, но пока что никто, или почти никто, об этом не думал. Люди трусливо старались поскорее позабыть о великом ужасе, утешая себя тем, что «боши», которых еще живые легенды первой мировой войны представляли как головорезов, насильников и грабителей, показали себя сговорчивыми и сдержанными. Находились и такие – из тех французов, что так и не смогли переварить этого Блюма с его Народным фронтом, – которые начинали даже находить в них массу достоинств.
Одним словом, дела вроде бы обстояли не так уже и скверно: люди копались у себя в садах и огородах, продукты, худо ли, бедно ли, были, завод работал. Так что мы потихоньку начинали возвращаться к жизни, как встарь, во времена опустошительных вражеских набегов, когда почиталось счастьем, если по возвращении из лесного укрытия лачугу находили целой и невредимой и не нужно было считать мертвецов. В сущности, я думаю, что даже само понятие «родина» в ту пору несколько поблекло в глазах народа. Простые люди подозревали, что монопольное право на нее присвоили себе прежде всего банкиры, политиканы, епископы и генералы – словом, именно те, кто задушил Народный фронт. И тот факт, что сейчас им самим задали взбучку из-за их всем известной трусости и несостоятельности, простым людям был, скорее, приятен. Да, это верно, в то время в нашем краю к родине не питали горячих чувств: эти чувства так ярко пылали в тридцать шестом году, а теперь огонь угас и пепел остыл.
И только некоторое время спустя люди поймут наконец всю унизительность, всю боль и трагедию поражения. А еще позднее будет создана летопись этого периода и, чтобы придать ему особую значимость, его разукрасят высокими чувствами.








