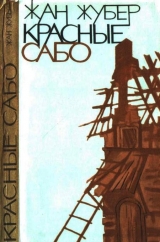
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– Сейчас же закутай шею! Застегни куртку! – умоляла Алиса. – Ах, какой ты легкомысленный!
Моя мать, которая, без сомнения, волновалась не меньше Алисы, молча испепеляла ее яростным взглядом.
По некоторым намекам матери я догадывался, что вражда эта восходила еще ко времени помолвки с отцом, когда Алиса, боясь быть разлученной с обожаемым братом, повела скрытую кампанию против его намерения жениться. И когда он тем не менее ослушался ее, в день свадьбы она, разумеется, пролила немало слез, которые, может быть, и ввели в заблуждение посторонних, но отнюдь не новобрачную, с тех пор затаившую к ней неприязнь.
– Ох уж твоя сестра!.. – говорила мать, и тон ее был так выразителен, что не требовалось оканчивать фразу.
Отец вяло пожимал плечами:
– Ну что ты хочешь, ее не переделаешь. И стараться не стоит!
Алиса так и не вышла замуж, и никаких любовных историй за ней никогда не водилось. Казалось, мужчины ее вовсе не интересуют.
– Ах, мне так хорошо одной. Всю жизнь слушать ворчание мужчины у себя под боком – да не дай бог!
Хотя она была нежно привязана к своим племянникам и племянницам, я никогда не слышал, чтобы она жалела, что у нее самой нет детей: ей вполне хватало нас. Я думаю, что она вложила всю свою любовь сперва в моего отца, а позже в меня. Для себя самой уже ничего не оставалось, и ей не нужна была другая семья.
Ее жизнь представляется мне бесконечной дорогой трудов и преданности. В тринадцатилетнем возрасте она идет работать на завод, откуда через некоторое время уходит и поступает в услужение к директору коллежа. Когда тот получил назначение в Бетюн, Алиса последовала за семьей своих хозяев, – там началась несколько авантюрная пора ее жизни, по крайней мере она считала ее таковой. Разразилась война, артиллерийская канонада становится все слышнее в городе, через который проходили, направляясь на фронт, английские войска. Целое лето один из полков квартировал в помещении коллежа, и Алиса на всю жизнь запомнила этих любителей пива и усвоила две фразы: «Do you speak English?» и «I love you!»[7]7
Вы говорите по-английски? Я люблю вас! (англ.).
[Закрыть] – этим и исчерпывалось ее знание английского языка. Я иногда спрашивал себя, не зародилась ли тогда в ее сердце симпатия к какому-нибудь солдатику, готовая излиться нежной любовью, разумеется несчастливой из-за быстрого передвижения войск. Мне ничего об этом не известно, и, по правде говоря, весьма сомнительно, чтобы подобная история могла приключиться, иначе Алиса обязательно поведала бы ее нам, хотя бы даже намеками. Скорее уж именно в это время Алиса установила между собою и мужчинами некую дистанцию, в которой угадывалась насмешка, так что напрасно все эти «томми» кудахтали ей вслед: «Мамзель! Мамзель!» – она не поддавалась на их заигрывания.
Я нашел старую фотографию, на которой она снята в костюме булонской крестьянки: в длинной юбке, шали, завязанной на талии, в гипюровом чепце, напоминающем ту ракушку, которую нацепляли на плащ или на шляпу паломники, идущие в Сантьяго-де-Компостела, и в сабо. Она стоит, повернувшись в профиль, с решительным видом, упершись кулаком в бедро. Этот снимок я и раньше встречал в альбоме, переплет которого был украшен шелковой вышивкой – фиалками и розами, – где Алиса хранила фотографии и почтовые открытки. Она бережно доставала его из нижнего ящика шкафа и, положив передо мной на стол, вынимала открытки, все одинакового коричневатого тона: «Вот видишь, это когда я жила в Бетюне, во время войны». О Севере она говорила так, будто это был какой-то экзотический край, который находился за тридевять земель отсюда, и вспоминала она о нем с печальным вздохом.
– Знаешь, как там хорошо было, люди все такие милые, добрые. Иногда хозяева брали меня с собой на взморье, мы ехали на поезде…
Положив локти на стол, я подолгу разглядывал на открытках шахтерские поселки и шлаковые отвалы, плоские песчаные пляжи с тентами и перевернутыми лодками, выветренные скалы, парусники под хмурым грозовым небом. В печке потрескивали поленья, в столовой стоял запах нагретого металла и воска. Открытки со «сценами из повседневной жизни» я приберегал «на закуску» и так близко подносил их к глазам, что мне начинало казаться, будто и я там нахожусь. Особенно мне нравились «Шахтеры в кабачке». Сидя вокруг столика, заставленного кружками с пивом, они смотрели прямо на меня своими очень светлыми глазами на темных от угля лицах. Потом я брал в руки «Возвращение в Экиан с рыбной ловли», «Торговца ракушками из Берка» – торговец был бос, в засученных до колен штанах – и «Перевернутую лодку, служащую приютом семье» – Алиса утверждала, что видела ее собственными глазами, как будто речь шла об одном из семи чудес света.
– Ты поедешь туда, когда вырастешь! Я знаю, тебе понравится путешествовать.
Я кивал головой, но уже тогда чувствовал, что этим сумрачным, печальным краям предпочту яркие пейзажи Юга.
Дневной свет в окне меж занавесками медленно угасал. Над крышами проплывали курчавые розовые облачка. За перегородкой Мина гремела кастрюлями и за что-то бранила кошку. Алиса закрывала альбом, и, если дело было в воскресенье, я просил:
– Поставь «Рамону», пожалуйста!
Она возражала:
– Да ведь уже поздно. Завтра мне вставать в шесть утра, так что надо с вечера все приготовить.
– Ну только один разочек!
– Ладно, так и быть.
Она энергично накручивала рукоятку граммофона, которая скрежетала при каждом повороте, опускала иглу на пластинку, и из металлической трубы тек хрипловатый, чуть гнусавый голос:
Рамона, мне снился чудесный сон,
Рамона, мы были с тобой вдвоем.
У граммофона был короткий завод, еще задолго до конца мелодия начинала съезжать вниз, как будто певца тошнило, и требовалось быстренько накрутить ручку, чтобы голос вновь обрел должную бодрость.
Были еще и другие пластинки: «Жирофле-Жирофля», «Время, когда цветут вишни», «Поднимись-ка сюда, ты увидишь Монмартр» и странным образом затесавшаяся среди всей этой песенной мишуры «Увертюра» Берлиоза. Мощное звучание оркестра удивляло меня.
– Вот, можно сказать, серьезная музыка, – говорила Алиса почтительно. – Это не для меня!
Я, как и она, в свои восемь лет предпочитал «Рамону». Жаклина иногда заставляла меня слушать Бетховена, Баха и Дебюсси на своем более современном патефоне, но это наводило на меня чудовищную тоску: я вертелся, зевал, и, уязвленная, она заявляла, что мне медведь на ухо наступил. Я возражал ей, что такая музыка годится только для богатых, и она возмущенно кричала:
– Замолчи, дурачок!
Только в двенадцать-тринадцать лет меня охватила настоящая страсть к музыке. Я заранее изучал всю программу передач и часами слушал радио. Я знал наизусть Равеля, Дюкасса, Шоссона, даже Сати, даже Онеггера и Цезаря Кюи, о существовании которого Жаклина и не подозревала. Наш врач, решив, что мне угрожает костный туберкулез, велел мне неподвижно лежать на доске. Я и лежал, приложив ухо к наушнику, я воспарял ввысь, я плыл вместе с музыкой. А еще у меня были книги, я читал стихи Ламартина в грюндовском издании, они всегда лежали на столике у моего изголовья, между стаканом воды и пузырьками с лекарствами. С зеленоватой обложки зеленоватый поэт чуть искоса смотрел куда-то вдаль с благородным и вместе с тем меланхоличным выражением лица.
– Ты это читаешь?! – спросил однажды пришедший меня навестить товарищ по коллежу с таким ошарашенным видом, будто застал меня за чтением Библии или Уголовного кодекса.
Он раззвонил об этом в классе, и, когда после долгих месяцев отсутствия я вернулся в коллеж, я уже был известен как тот, «кто читает Ламартина ради собственного удовольствия».
Все начинается с клеенки в красную и белую клетку, уже старенькой, потому что местами она липнет к ладоням и прежде, чем положить на нее книжку, нужно выбрать место почище. Прижмешь к ней газету, и остаются отпечатки перевернутых букв, фотографий, на которых не разберешь, что изображено, и которые потом медленно, день за днем, бледнеют и стираются. Кухня узкая, свет скупо проникает в нее через застекленную балконную дверь, выходящую во дворик, к стене пристройки, обвитой диким виноградом. В моей памяти неизменно возникают одновременно две картины: летний вечер, балконная дверь отворена, а за ней в воздухе бесшумно чертят зигзаги летучие мыши, поскрипывает насос, иногда слышно, как ударяется о каменный бортик лейка; и другая – октябрьские сумерки по возвращении домой после занятий в первом классе. На улице уже холодно и туманно. В кухне горит лампа, огонь потрескивает в плите. Я сижу в конце стола, прислонившись спиной к кухонному шкафу, и листаю школьные учебники, грудой лежащие передо мной. Одни совсем новые, едко пахнущие клеем, краской и бумагой – так пахли учебники в мое время, и мне кажется, что так они уже не пахнут теперь, а может быть, просто у меня ослабело обоняние, такое острое и чувствительное в детстве. Другие, уже побывавшие в употреблении, таят под своими слегка засаленными обложками иной запах – слегка тошнотворный запах прогорклого жира и пыли. Эти носят на себе многочисленные следы бывших владельцев: подчеркнутые слова, неразборчивые заметки на полях, отпечатки пальцев, иногда имя или дату на титульном листе.
Горя нетерпением, заранее очарованный будущими открытиями, пускаюсь я в долгое плавание по этому бумажному морю: хрестоматия, история, география, природоведение, другие учебники я откладываю; я прежде всего изучаю названия, подписи, карты и картинки, пробегаю глазами некоторые тексты. Мать гремит кастрюлями у плиты, но я ничего не слышу, я уже в другом мире, мире слов и картин. Да, именно в кухне, среди теплых ароматов огня и супа, мной завладела неуемная любовь к книгам, которая до сего дня не покинула меня. Книгам я решительно предпочитал все другие занятия, ибо в них я находил все собранное воедино: знания, приключения, путешествия; и даже теперь, когда мне предстоит какая-нибудь поездка, меня охватывают нерешительность и лень и в душе я совершенно убежден, что тут, рядом, стоит только руку протянуть к полке и дать волю воображению, лежат и ждут меня бесценные сокровища, которые рассеяны по всему свету. И я знаю, что в своей страсти книгочея ни разу не бросил на середине ни одной книги, даже посредственной – ведь все же это была Книга. Вот откуда те бумажные нагромождения в моем кабинете, от которых я, наверное, так никогда и не решусь избавиться.
Чтение, всепоглощающее, безоглядное чтение в годы отрочества, когда я ходил словно одурманенный; у меня до сих пор сохранились блокноты, куда я мелким почерком записывал свои пламенные и наивные впечатления от прочитанных книг. Помню, когда я мальчиком усаживался у окна с книгой на коленях, бабушка кричала:
– О господи, уж эти мне книги! Оставь ты их в покое! Пойди погуляй, побегай, поиграй во что-нибудь!
Я слушал ее вполуха и бурчал в ответ что-то невразумительное, но с места не двигался, и бабушка причитала:
– Вот несчастье-то! Смотри, глаза сломаешь!
Это последнее замечание меня несколько обескураживало; и иногда, чувствуя, как тяжелеют веки, я думал: а вдруг я и вправду ослепну и тогда все-все книги на свете станут мне недоступны. Бабушкино беспокойство можно было понять: она считала мое чтение странным чудачеством, книги были ей чужды, сама она ничего не читала, кроме еженедельника «Гатинэ», правда, от первой до последней строчки, нацепив на кончик носа очки в железной оправе. Так мы и сидели с ней друг против друга, одинаково погруженные в чтение, пока она наконец не складывала со вздохом газету, говоря: «Ну хватит! Пошли ужинать!»
Любимейшей моей книгой долго оставался малый «Ларусс»; я до такой степени любил его, что, пожалуй, именно с ним согласился бы остаться на необитаемом острове. Все слова были там, и рисунки, и карты, и портреты великих людей, и еще те иллюстрации, которые открывали мне одновременно и живопись, и волнующее очарование нагого тела. Я так зачитал его, что он развалился на части и окончил свое существование в чулане, где, помню, он валялся среди искалеченных игрушек и остатков конструктора. Тщетно я потом разыскивал его: во время одной из своих «чисток» мать, наверное, выбросила его на помойку. Его сменил новый, более поздний выпуск. Живописцы там уже не те: исчезли Мейсонье, Лефевр, Бугеро и те большие исторические и театральные полотна, глядя на которые я когда-то мечтал. Зато туда решительно вторгся импрессионизм, и, вспоминая старые сероватые цвета иллюстраций, я удивленно разглядываю пылающие красками картины Матисса и Пикассо.
Вчера вечером, когда мать уже легла, я устроился в кухне, в том самом уголке, где сиживал когда-то, – в конце стола, спиной к стенному шкафу. Стены теперь окрашены в более светлые тона, плиту, которую растапливали дровами, давным-давно сменила электрическая, и, конечно, клеенка на столе совсем другая. Я достал дешевенькое издание «Госпожи Бовари» серии «Современная литература»: большой формат, страницы украшены гравюрами и буквицами. Усевшись в привычной позе, подперев голову рукой, я перечел первые главы. В доме стояла тишина. За окном листья дикого винограда бились на ветру, легонько шуршал дождик. Когда я оторвал от книги глаза, было уже за полночь.
Вспоминаются мне и другие «важные сцены», особенно мытье ног, ему я обязан тем, что впоследствии всегда испытывал умиление, смешанное с неловкостью, глядя на известную картину, изображающую Иисуса, коленопреклоненного перед старцем, опустившим ноги в лохань и воздевшим глаза к небу; то же самое ощущение охватывает меня на фильмах Бунюэля, когда бесконечно повторяются кадры с голыми детскими ножками – зрелище, которое, по-видимому, и самого режиссера завораживает не меньше, чем его персонажей.
Этот эпизод моего детства вспоминается мне всегда в одной и той же обстановке, в дворике нашего дома, у входа в кухню, затененного чудодейственным розовым кустом, цветы которого отличались неповторимым бледно-розовым оттенком, какой встречается разве что у старых пуховых перин в деревенских домах. Сцена происходит, как правило, летним вечером. Еще довольно тепло, но сумерки уже заползают в сад, и уходящее солнце золотит на прощанье верхушки плакучих ив. Я сижу на соломенном стуле, царапающем мои голые ляжки, опустив ступни в тазик с водой. Алиса, сидя на корточках, намыливает и моет мне ноги. Я верчусь, иногда обрызгиваю ее, но она явно не сердится и только притворно грозно покрикивает: «Ах ты лягушонок, да будешь ты сидеть спокойно или нет?!» Мы оба хохочем, потом она закутывает мои ноги до колен полотенцем и растирает их; приоткрыв его, она целует меня в пятку, в то место, где кожа мягче всего. Этот поцелуй был как бы завершением ритуала, он сопровождался возгласом: «Ух, так бы и съела эту ножку!», причем я каждый раз ощущал щекочуще-сладострастное удовольствие, насколько это возможно для четырех-пятилетнего мальчика. Но восемь лет – дело другое! В один прекрасный вечер я так резко отдернул ногу, что ударил Алису в висок, а полотенце свалилось на землю. Я закричал, что отныне сам буду мыть ноги. Алиса недоуменно смотрела на меня, ошарашенная, сбитая с толку этим взрывом. Она глядела на меня, будто не узнавая, и я отвернулся от этих глаз, их растерянный взгляд был для меня невыносим. Этим внезапным для меня самого, подобным оборонительному укусу осы, движением, которым я отозвался на тянущиеся к моей ноге губы, я, без сомнения, попытался восстать против той смутной опасности, что таилась в подобном чувстве. Были и другие мелкие попытки мятежа: я дулся, я дерзил, проявлял черную неблагодарность, но Алиса, казалось, никогда не сердилась на меня, и если я и сам не знал хорошенько, какой злой демон в меня вселялся в такие минуты, то она и подавно не способна была это понять.
Не считая моего отца и дяди Жоржа, которые, впрочем, тоже были не лишены чувствительности, я жил в окружении женщин, и их любовь бурно изливалась на меня. В этой семье, замкнутой на себе самой, где, кроме дней летних каникул, я был единственным ребенком, я находился в самом средоточии постоянного водоворота бурных чувств и тайного соперничества. Внешне такая обстановка – истинный рай для малыша, если он умеет обращать ее к своей пользе и удовольствию, на самом же деле нет для него худшей западни. Маленький принц сам становится игрушкой, пленником в вязкой паутине эмоций, он страдает от ненасытной любви обожающих его близких и не может оттолкнуть их, не почувствовав себя при этом неблагодарным. На фотографиях той поры детства мой угрюмый вид и круги под глазами достаточно красноречиво свидетельствуют о разрушительных последствиях этих невидимых миру сражений. От счастья страдают так же, как и от горя, и оно оставляет не менее глубокие отметины.
Это вызывает у меня в памяти другую столь же знаменательную сцену. В детстве я никак не мог понять принцип сообщающихся сосудов. Ни объяснения, данные в учебнике, ни чертежи – водокачка и кран, артезианские колодцы, система труб – не в силах были развеять этот туман. Не знаю, почему мой отец вдруг отдал предпочтение подобному феномену природы, обычно он держался в стороне от моих школьных занятий, но тут взялся объяснить его мне.
Все его речи и чертежи в блокноте делу не помогли: я по-прежнему сидел дурак дураком. Отчаявшись, отец побежал в сарай и, покопавшись, притащил оттуда резиновую трубку; он подвел меня к раковине, долго возился, прилаживая трубку к крану, и наконец наполнил ее водой.
– Вот! Видишь? Понимаешь теперь?
– Нет… Н-не очень хорошо…
Отец занервничал, повторил опыт во второй, в третий раз, но и это меня не убедило.
– Тут нет сообщающихся сосудов. Здесь только один сосуд: трубочка.
– Но это одно и то же! Смотри: тут и тут, а вот так они сообщаются!
– Нет.
Отец швырнул трубку в раковину, забрызгав все вокруг водой, и закатил мне оплеуху, не слишком сильную, но повергнувшую меня в состояние полного изумления: она была первой в моей жизни!
Мать и Алиса, привлеченные шумом, подоспели к самой развязке и были потрясены не меньше моего. Испепелив разъяренного отца негодующими взглядами, они оттащили меня, и отцу ничего не оставалось, как уйти бушевать и успокаиваться в сад.
Эта сцена вошла в домашнюю хронику. Время от времени Алиса вспоминала: «Помнишь тот день, когда отец закатил тебе пощечину?» Я помнил эту пощечину, но вовсе не воспринимал ее как некое святотатство. Просто сама вина не слишком соответствовала размеру наказания, но я полагаю, что вполне заслуживал затрещины во многих других случаях и отец достаточно долго подавлял желание отвесить мне ее: вот таким, несколько странным образом я наконец и приобщился к миру взрослых мужчин.
Много позже, значительно позже, начался между мной и отцом период молчаливого разлада, недобрых взглядов, а иногда и обидных слов. Для семнадцатилетнего мальчика ужин в семье часто обращается в пытку, особенно когда за стол садятся всего трое. Несмотря на деланную веселость моей матери, пытавшейся разрядить атмосферу, в воздухе собиралась гроза. Мой отец говорил мало, но тогда для меня и этого было предостаточно. Мне казалось, что его шумное чавканье, которого я прежде не замечал, заполняет, заглушает все вокруг. Уж не знаю, школа ли, книги ли испортили меня, но я почти ненавидел отца за то, что он «неинтеллигентен», за то, что смиренно делит свою жизнь между заводом и садом. Я тогда как раз совершил довольно резкий скачок от Ламартина к сюрреализму и к левацкому социализму и поэтому воображал себя пламенным революционером. Я довольно глупо и самонадеянно заявлял, что мы знаем, как изменить жизнь и людей. Моя глупость состояла, конечно, не в том, что я желал этого, а в том, что я воображал, будто подобную вещь можно осуществить, используя низменные инструменты политики. По правде сказать, думаю, что и в это я по-настоящему не верил, я был все же менее глуп, чем можно было предположить по моим безапелляционным заявлениям. Я кричал отцу:
– Чего ждать от твоих догматиков! Патриотизм, сотрудничество классов, буржуазная мораль! Работайте, производите и помалкивайте. И ты с этим согласен?
– Они знают, что делают.
– Да, знают: они предают рабочий класс.
– Пф! Громкие слова! А по мне, они молодцы. И они сами рабочие, да! А вот твои приятели, что они знают о рабочем классе, а?
– Среди них тоже есть рабочие. И потом, легче легкого наплевать на интеллигенцию. А без нее вам революции не сделать!
– Ну, заладил: революция, революция! Вы просто болтуны и мечтатели.
– Ну ладно, ну довольно, – вмешивалась мать.
– Когда-нибудь ты увидишь, какие мы мечтатели.
– Увижу – после дождичка в четверг!
Ничего страшного, конечно, в таких спорах не было, но, разобиженные, мы оба надолго замыкались в угрюмом молчании, и, проглотив последний кусок, я уходил в свою комнату. Я злился на отца тем сильнее, что смутно чувствовал свою, пусть частичную, неправоту перед ним, чувствовал, что и он в чем-то прав. Будь он буржуа, я мог бы на законном основании закатывать ему страшные сцены, обличать власть денег, клеймить роскошь, эксплуатацию и все такое прочее. Но к нему это не имело никакого отношения! А я находил предлог восставать против человека, который не давал к этому ни малейшего повода, даже если ему случалось высказывать собственные убеждения, он никогда не навязывал их мне и не запрещал иметь свои. Я наносил удары в пустоту и выходил измочаленным из этих бесплодных наскоков. Однако иногда между нами завязывались и более ожесточенные схватки: однажды вечером, когда моя мать, позабыв о своей обычной осторожности, осмелилась принять мою сторону, отец швырнул салфетку на стул и покинул кухню, хлопнув дверью. Весьма сомнительная победа! Растерянный и смущенный, я остался хозяином завоеванной территории, не зная, что делать дальше.
Впоследствии, когда я уже не жил дома и только изредка наезжал туда, мы с отцом обменивались лишь короткими фразами: о его здоровье, оно все ухудшалось, о моих путешествиях и книгах, о саде, о лесе. Такие разговоры занимали нас ненадолго. Остальное время мы сидели бок о бок, молча и отчужденно.
Пока моя мать мыла посуду после ужина, отец читал свою газету, я свою. Потом я говорил:
– Ну ладно, я, пожалуй, пойду спать, спокойной ночи.
– Да и мне тоже пора.
По правде говоря, легче всего нам с ним было в саду или в лесу, даже если мы мало разговаривали. Эти деревья, зеленая листва, привычные движения во время прополки, подрезки, собирания грибов оживляли в памяти дни моего детства, и мы вновь чувствовали себя как бы сообщниками. Мы разделяли любовь к этому близкому нам миру – его можно было коснуться рукой, вдохнуть полной грудью, и это заменяло нам с отцом всякие слова. И тогда наше молчание становилось немым разговором, а все эти идеи, такие пустяковые на мой теперешний взгляд, улетучивались как дым. Какими же, однако, редкими были эти минуты невысказанной близости – им не дано было изгладить долгие часы отчуждения, серой стеной тумана встававшего между нами.
Но по крайней мере со временем я узнал то, чего доселе не понимал: главное в отношениях между живыми существами не речи, а то, что скрывается за ними: звук голоса, интонация, вздох и еще жесты, взгляды, прикосновение ладони к твоей руке и множество других знаков, которые гораздо лучше слов, часто неискренних, часто туманных, служат истинным языком для тех, кто любит друг друга. Когда я размышляю об этом, мне начинает казаться, что я слишком долго жил в ничтожном шумном мире. Сколько драгоценных часов потерял я по вечерам в Париже, сидя в гостях или в кафе и слушая тех, кто опьянялся словами, как иные опьяняются алкоголем. Одни без устали вышивали словесные узоры по канве собственных навязчивых идей. Другие – худшая разновидность – жонглировали идеями просто из любви к искусству. Признаюсь, я им тогда завидовал. Я даже пытался, неуклюже конечно, подражать им. И за этим занятием я забывал смотреть в глаза женщин, всматриваться в вечерние сумерки, в нежные краски неба. Теперь, тридцать лет спустя, от всего этого уцелели лишь женское лицо, мелькнувшее на секунду в окне, фигурка ребенка, прыгавшего на одной ножке по тротуару, обнаженные ветви дерева, блестевшие под дождем. Устояли картины, возникающие в памяти, и чувства, пробужденные ими, а вот идеи, слова испарились, исчезли. И если я не могу представить, что когда-нибудь перестану писать, то, напротив, очень легко вижу себя в будущем все более и более молчаливым.
А иногда я думаю, что хотел бы все «начать заново» с отцом, начать с того времени, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет и отношения у нас начали портиться. Сейчас, мне кажется, я смог бы найти другой путь. Хотя все это довольно сомнительно, да и какой смысл теперь об этом говорить? Остается лишь тосковать о разрушенном согласии, ушедшем вместе с моим детством, горевать и мучиться угрызениями совести из-за этого отчуждения.
В те долгие недели перед смертью отец мало говорил со мной – только изредка попросит принести воды, поправить подушку, отогнать муху. Потом однажды он сказал, что видит, как я шевелю губами, но не слышит меня. А потом он перестал меня видеть.
В детстве мне казалось это вполне естественным, но сейчас, спустя столько лет, глядя в прошлое, я увидел, до чего замкнуто жила наша семья. Поистине, мы были настоящими дикарями. Разумеется, мирными, сдержанными, не склонными к агрессии дикарями, но твердо желавшими сохранить свою независимость. Мы не встречались ни с кем, кроме своей родни, близких или дальних родственников. Совместные обеды, игра в карты по воскресеньям, семейные праздники, прогулки в лес, рыбалка на берегу Луэна. Наше «племя» дружно объединялось вокруг стола, где играли в манилью, ели жаркое из кролика или жареную рыбу, у каждого тут было свое место и своя роль; и даже если временами возникали мелкие перебранки, то я не упомню ни одной сколько-нибудь крупной ссоры. Семья была крепко спаяна, и чужому почти невозможно было проникнуть в этот неразрывный круг. Зато стоило появиться какому-нибудь троюродному братцу, как тут же начиналось установление родства: «Ты знаешь, это ведь сын Люс, нашей кузины, ну той, что вышла за садовника из Винейля!» – после чего новоявленный родственник получал право доступа в нашу крепость. Двери гостеприимно распахивались, накрывался стол. А если в доме находилась свободная кровать, то ее незамедлительно предоставляли гостю.
В остальном же, если не считать бывшей сослуживицы моей матери, которая перешла потом в почтовое отделение Шатонефа и за двадцать лет появилась у нас всего раза три или четыре, я не упомню, чтобы в доме обедали посторонние. Конечно, существовали отцовские товарищи по заводу или по конторе и их имена регулярно звучали в разговорах взрослых, но сами они оставались невидимыми. Я относился к ним примерно так же, как к литературным персонажам, к мсье Сегэну, Соколиному Глазу, Жану Вальжану, – словом, к тем, что существовали скорее на бумаге, чем во плоти. Однако, когда мой отец заболел, кое-кто из друзей пришел навестить его. Помню, я так изумленно их разглядывал, будто они свалились с Луны.
Что касается соседей, тут все было просто: «здрасьте», «до свиданья», два слова о погоде и о саде, иногда обмен саженцами, семенами или усами клубники – дальше отношения не заходили! Стены, разделявшие наши участки, были не только символическими, и через калитку проникал разве лишь взгляд. Каждый дом в этом предместье стоял как крохотная крепость, ревностно защищавшая свой немногочисленный гарнизон. Только мы, дети, отваживались иногда перейти границу, чтобы получить яблоко, конфетку или погладить собаку. Но и тут почти сразу же раздавался окрик:
– А ну-ка вернитесь, не смейте беспокоить мсье Дюмарселя!
Подразумевалось: не беспокойте соседей, чтобы они не вздумали беспокоить нас. Я прожил рядом с их домами двадцать лет, но так и не знаю, как они выглядят внутри.
В отношениях с посторонними наблюдалась какая-то настороженность, робость, как будто эти люди, вырванные в начале века из родных деревень, так и не смогли опомниться от сделанного шага и боялись слишком резко двигаться, дабы не нарушить хрупкого, с таким трудом достигнутого жизненного равновесия. Вот они и жили тайком да тишком, чтобы не искушать судьбу.
В семье дяди Жоржа все было совсем иначе: бесконечная вереница «товарищей», знакомых и незнакомых, политика, дискуссии, агитация, двери всегда настежь, стол постоянно накрыт, и постель в доме или охапка соломы в мастерской неизменно ждали гостя. Со своей семьей дядя Жорж, как истый анархист, не слишком носился, отводя ей второе место после великой семьи человечества, правда, он не доводил эту теорию до крайности и был, конечно, гораздо лучшим мужем и отцом, чем многие буржуа. Моя мать, как мне думается, унаследовала такой же, как и у него, общительный характер, и это время от времени, правда чем дальше, тем реже, давало себя знать. Однако, попав в тесный мирок мужниной семьи, она тоже мало-помалу замкнулась.
Я знаю, от кого у меня мрачноватый, меланхоличный характер и эта любовь к уединению, побудившая меня поселиться в пустынных местах, где я по многу дней не вижу человеческого лица. Один из моих друзей со смехом вспоминает тот достопамятный день, когда он решил навестить меня без предупреждения и в результате увидел издали мою спину, промелькнувшую в огороде и скрывшуюся в сосновой роще. Заслышав шум мотора и не признав в нежданном посетителе своего приятеля, я инстинктивно обратился в бегство, и если не повторял того же при каждом визите, то только потому, что условия не всегда позволяли. Когда я попадаю в подобные обстоятельства, во мне просыпается семейное «дикарство».
Но, как это ни парадоксально, я мечтаю также о братском сообществе и, порой погружаясь в людское содружество, становлюсь и сам открытым, отзывчивым, разговорчивым, почти болтливым. И в этой скрытой раздвоенности моей души я узнаю древнюю кровь башмачников, текущую в моих жилах.
Повсюду нынче так упорно твердят, будто времена года стали не такими, как прежде, что я и сам иногда начинаю в это верить: да, какие-то они невыразительные, зыбкие, ни то ни се. Но, поразмыслив, я все же прихожу к выводу, что изменились-то скорее мы сами, что мы просто разучились видеть или не находим времени оглянуться вокруг. Мне случается спрашивать: «Вчера было солнечно?» или «Разве сегодня шел дождь?» Сам я этого хорошенько не знаю, мне некогда было выглянуть в окно. А прежде я жил каждым дождиком, каждым лучом солнца, порывом ветра, морозом, снегом. И еще животными, садом, цветами. Я и сейчас помню так ясно, будто это было вчера, белые венчики цветов звездчатки, улитку, ползущую после дождя по мокрому песку, и бороздку за ней или эмалированную тарелку с лиловой и белой полосками, стоявшую возле курятника. Бабушка сзывала кур, прищелкивая языком, те неслись со всех сторон как сумасшедшие и лихорадочно начинали склевывать зерна с земли и с блюда. И это я тоже отлично помню: перестук их клювов. И помню запах кроликов, соломы, застоявшейся воды, а летом – аромат персиков и смородины.








