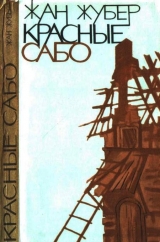
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
И именно в то лето я смутно ощутил, что подошел к некой границе, что вскоре мне предстоит расстаться с детством. Я говорил:
– Мне совсем не хочется быть взрослым! Моя мать и, главное, Алиса одобряли меня:
– И ты прав! Посмотри на котят, какие они миленькие, не то что большие кошки.
А потом котенок превращался в «дрянь паршивую», в прожорливого и вороватого зверька, которого пинками гоняли из кухни.
– Знаешь, люди не такое уж сокровище! – добавляла Алиса с тяжким вздохом.
Подобные убеждения были частью ее жизненной мудрости – может быть, высказывая их, она вспоминала о негодниках, испортивших ее паркет. С помощью воска и суконки ей удалось частично вернуть ему прежний блеск, но былое великолепие было безвозвратно утрачено.
Я думаю, что в наши с Сильвией игры уже тогда вошла война, хотя из-за семейного пацифизма мне раз и навсегда было отказано в оловянных солдатиках, пистолетах и ружьях. Но воображение у меня работало, а с его помощью любая палка в моих руках могла «стрелять». А порой, действуя более скрытно, мы играли в госпиталь. Так, под кваканье лягушек, в гниловатом запахе стоячих вод мы приобщались к житейским мелочам.
В конце сентября Сильвия вернулась к своей матери, которая вторично вышла замуж и поселилась неподалеку от завода. И мне показалось, что больше никогда мы не будем играть как прежде.
Лето уходило, уже поднимался с лугов туман, а над лесом нависали по вечерам кровавые сумерки.
Поскольку в коллеже для мальчиков квартировали войска, нас послали учиться в женский коллеж. Мы приходили туда утром, девочки – после полудня, так что у нас было мало возможностей общаться с ними. Кроме того, нам приходилось делить здание и двор со стариками из богадельни и несколькими умалишенными. Боязливые, молчаливые, явно голодные, поскольку все они были невероятно худы, они усаживались на стулья, спиной к стене, и передвигались вместе с ними, следуя за солнечными лучами. Среди них выделялся один: настоящий великан в плисовых штанах и грубой холщовой рубахе, в сабо на босу ногу; он непрестанно ходил взад и вперед по двору и коридорам. Он бормотал что-то невразумительное, казалось, никого вокруг не замечал, а порой неизвестно почему испускал протяжный бычий рев. Позабыв «розовую розу» или «Балладу о повешенных», мы вскидывали голову – кто испуганно, кто с приглушенным смешком.
– Ну-ну! – окликал нас преподаватель. – Не отвлекайтесь, будьте повнимательней!
А за дверью по каменным плитам пола звонко постукивали сабо, потом перестук удалялся, и вновь мощный звериный рык разрывал тишину здания.
Встречая этого великана на переменке во дворе, где он безостановочно ходил взад и вперед, ко всему равнодушный, казалось даже не замечая толпу учеников, я поглядывал на него с тревогой и жалостью – у меня он не вызывал смеха. Как ни странно, я очень хорошо запомнил его лицо, мягкие красивые черты, коротко остриженные волосы, и как сейчас вижу его голые тощие лодыжки, белевшие между кургузыми штанинами и сабо. На вид ему было лет тридцать – сорок. Говорили, что он навсегда утратил память. Откуда он был родом? Какая трагедия забросила его сюда? Может быть, ребенком он жил в деревне, и лошадь, лягаясь, угодила ему копытом в голову? Или он переболел какой-нибудь ужасной болезнью? Или попал под бомбежку? Каждый раз, видя его фигуру, возвышающуюся над головами мальчишек, я задавал себе этот вопрос.
Мне хотелось бы узнать, удалось ли ему пережить последовавшие за тем голодные годы и что с ним сталось? Может быть, он жив и сейчас – хотя это маловероятно, – жив после сорока лет мычания и помутненного сознания. Я всегда чуял в нем загадку, над которой бьюсь до сих пор. Есть такие существа, с которыми сталкиваешься только раз в жизни, но по каким-то необъяснимым причинам о них не забываешь, в то время как память о других, гораздо более близких мне, меркнет: такими остались для меня человек с книгой в будке стрелочника, солдат с пулеметом у моста и этот сумасшедший из коллежа.
И Андре тоже, конечно, но это уже совсем другое…
Я посещал коллеж, на смену войне пришла оккупация, было холодно и голодно. Интересно, что это время у меня навсегда осталось в памяти как зимняя пора, казалось, тогда и солнца-то не было. Туманы ползли вдоль лугов и канала, в город слетелась откуда-то масса воронья, птицы с хриплыми криками кружили над колокольней и замком. Как будто где-то лежал огромный труп и черные хищники упорно отыскивали его. Потом пошел сильный снег, намело сугробов, лед по временам сковывал канал, где пленницами застыли баржи.
По Вокзальной улице строевым шагом шли немецкие солдаты, направляясь на полигон, устроенный в лесу. В этот серый рассветный час, с трудом продвигаясь на своем велосипеде, закутав лицо чуть не до самых глаз, чтобы уберечь его от ветра, я услышал надвигавшийся издали грохот их сапог, а вот и сами они показались между платанами на шоссе, шагая, взвод за взводом, плотными темными кирпичами, будто управляемые какой-то невидимой машиной. Когда они проходили мимо, я с удивлением увидел под касками молодые, порой даже красивые лица, одно из таких лиц могло принадлежать Жану-Кристофу. Но, плечом к плечу, словно зачарованные четким ритмом своего маршевого шага, солдаты глядели в пустоту прямо перед собой, равнодушные к идущим мимо прохожим. Иногда по команде унтер-офицера, резкой, как удар хлыста, из их глоток внезапно вырывалась громовая песня, такая же бесстрастная и тяжелая, как поступь их кованых сапог. Да, в то время немецкие солдаты были молоды; потом на смену им пришли тридцатилетние, сорокалетние, а к самому концу войны, когда Россия поглотила и этих, остались уже одни старики.
Но в 1940 году отлаженный механизм еще не начал давать сбои, и это воплощение бездушного порядка и сдерживаемой, воинственной ярости, которая по самой ничтожной причине могла вдруг вырваться наружу и стать смертельно опасной, стало для меня просто наваждением. И я хорошо знаю, откуда в мои сны входят военные легионы и лица, затененные козырьком, с волчьим взглядом; тяжелой поступью проходят солдаты в моих сновидениях, потом постепенно растворяются в сером небытии. Война, о которой дядя так часто говорил мне с ужасом, война, с которой и сам я потом соприкоснулся в хаосе разгрома и бегства, являла теперь новое лицо – одновременно пугающее и завораживающее. И дядя тоже, глядя с порога своей лавки на марширующих солдат, растерянно говорил мне:
– Никогда ничего подобного не видел: ведь это же роботы! Это страшно. А ведь есть же, есть другая Германия – Манн, Цвейг, Вихерт!
И – наивный идеалист – он стремился увидеть эту другую Германию в глазах какого-нибудь солдата, зашедшего к нему купить пару башмаков; запинаясь, он обращал к нему те немногие немецкие слова, какие знал: «Krieg… schlecht, Friede… gut, Arbeiter… Bruder»[9]9
Война… плохо, мир… хорошо, рабочий… брат (нем.).
[Закрыть], пытаясь завязать разговор.
– Это точно как в четырнадцатом году, – говорил он. – У них ведь тоже есть и рабочие, и крестьяне. Нас просто натравили друг на друга, но, в сущности, мы же братья. И нужно, чтобы мы сумели договориться…
Я приходил в коллеж. Молчаливая привратница звонила в колокольчик у двери. Я бегом пересекал двор, одолевал темные, грязные коридоры этого бывшего монастыря, давно грозившего развалиться, но все еще державшегося благодаря могучим своим стенам и умело положенным заплатам из балок и досок. Я догонял товарищей на лестнице, где пахло кожей, мокрой шерстяной одеждой и где они толпились, зажав под мышкой портфель и полено для школьной печки.
– Я его нашел вчера в лесу. А ты-то где подобрал свою корягу?
– Ты только молчи – стянул в сарае у аптекаря. Ни одна живая душа не видела. У этого гада там дров невпроворот! Разве это справедливо? Вот я его и облегчил на одну полешку.
– Ну, папаша Муш будет доволен! Можешь рассчитывать на хорошую отметку!
– А я и рассчитываю!
– Сначала дрова! – коротко командовал нам учитель немецкого Ашиль Муш, когда мы входили в класс.
Мы чередой проходили мимо печки, складывая свои приношения в ящик для дров.
– Прекрасно, прекрасно! – хвалил он по мере того, как росла гора поленьев. – Ну а вы что же?
– Я забыл, мсье!
– Ах вы, юный убийца, вы, верно, желаете нам смерти? Не вздумайте прийти с пустыми руками завтра! Ну-с, а куда вы свое полено прячете?
– Это для французского…
– Давайте его сюда!
Мы смирно, навытяжку, стояли возле парт, ожидая, пока этот маньяк хлопнет в ладоши, позволяя нам наконец сесть.
И начинался обычный утренний ритуал. Муш водружал на нос пенсне и спускался с кафедры танцующим шагом, удивительно легким для такой огромной туши. Прижав локти к бокам, он направлялся к печке и, вытянув руку, осторожненько открывал дверцу маленькой железной кочергой. Мы все молча наблюдали за ним. Если в тот день ветер дул с севера, печка выплевывала клубы дыма, которые взвивались к потолку, где оседали копотью, а иногда и красноватые языки пламени, и до чего же нам хотелось, чтобы оно хоть разочек опалило Мушу брови! Но этот хитрюга держался на расстоянии: он дожидался конца извержения, потом наклонялся к печке, держа спину все так же прямо, и смотрел на огонь с преувеличенным вниманием. В течение нескольких мгновений лицо его было совершенно неподвижным, он не то дремал, не то грезил. Затем осторожно брал кончиками пальцев несколько небольших поленьев, ловко забрасывал их в топку, прикрывал дверцу и, круто повернувшись на месте, оказывался лицом к лицу с нами. Нахмурив брови, он тыкал в нас поочередно пальцем и рявкал:
– Sprechen?
– Sprach, gesprochen.
– Sehen?
– Sah, gesehen[10]10
Спряжения немецких глаголов «спрашивать» и «видеть».
[Закрыть].
А для меня, как мне казалось, он всегда приберегал исключение, какую-нибудь ловушку в виде неправильного или модального вспомогательного глагола:
– Nennen… brennen… können…[11]11
Называть… гореть… мочь… (нем.).
[Закрыть]
Он был неутомим. Каждый раз я тщательно готовился к сражению, но он в конечном счете всегда загонял меня в угол.
Он невзлюбил меня с первого дня и за все семь лет так до конца и не смягчился. В начале учебного года он спросил у нас, совсем еще малышей, изумленных его громадным ростом и ледяным взором: «Почему вы выбрали для изучения немецкий язык?» Сперва все молчали, потом забормотали: «Н-не знаю, мсье…», или: «Да просто так…», или: «Мне старший брат посоветовал…» Я же ответил: «Чтобы разговаривать с немцами», высказывание довольно банальное и вполне разумное, но в данном историческом контексте прозвучавшее для него бесстыдным вызовом. Его лицо передернулось, он молча постоял передо мной несколько секунд, потом круто повернулся и, крикнув: «Откройте тетради!», положил конец своему опросу.
Я ответил так без всякого умысла, скорее всего, подумав при этом о дяде, о пролетарской солидарности, о той, другой Германии, которую надо было уберечь от гибели. Мне следовало бы объяснить ему это, оправдаться, но я был слишком робок, да и вряд ли бы учитель Муш мог понять меня. Скорее всего, объяснения только усугубили бы его неприязнь ко мне. Истовый французский патриот, так же как за Рейном он, возможно, был бы истовым прусским патриотом, со своим бритым затылком, безбородыми щеками, любовью к дисциплине и привычкой чуть что орать во всю глотку, он с самого начала оккупации избрал для себя тактику молчаливого презрения. Я даже подозреваю, что именно из желания отомстить немцам за наше поражение и за оккупацию Франции он упорно преподавал немецкий как мертвый язык, ведя свой урок по-французски, замыкаясь в рамках грамматических упражнений и переводов, чтобы, как мне кажется, отрешиться от чересчур живого, навязчивого грохота сапог и воинственных маршей за окном. В самую хорошую погоду, стоило ему заслышать вдали, в предместьях, их мерный шаг, он кидался наглухо закрывать окна.
– Тихо! Занимаемся дальше! – приказывал он.
И, отгородившись от современных варваров, мы погружались в легенду о Нибелунгах.
Сказать по правде, в сороковом году мы еще находились на стадии «der Tisch, die Tür, das Fenster»[12]12
Стол, дверь, окно (нем.).
[Закрыть], но именно в этом классе, сидя возле печки, чье мурлыканье вторило нашему чтению, я зачарованно погрузился в немецкую поэзию. Поистине таинственны и неисповедимы пути литературы, коль скоро такая личность, как Ашиль Муш, начисто лишенный поэтической жилки, измученный маниями и нервным тиком, стал первым моим проводником в ее волшебном лесу. Впрочем, не думаю, чтобы он сознательно исполнял эту роль и понимал значение поэтических грез, в которые сам же и посвящал меня. Он просто выполнял свою работу, не более того; он машинально следовал давно привычному ритуалу: поленья для печки, «встать, учитель идет», огонь, полыхнувший из дверцы, глаголы сильного спряжения, перевод, но встречались в учебнике тексты, как бы проходившие мимо его сознания, так иногда, говорят, благодать являет себя через посредство самого, казалось бы, недостойного. Этот учебник я отыскал в шкафу: грубая, желтая, какая-то лохматая бумага военных лет, готические буквы, карандашные пометки на полях. Я перелистываю его, а перед глазами возникает картина дремучего леса: там Зигфрид кует свой меч, он убивает дракона и завладевает сокровищем, освобождает спящую Валькирию и наконец погибает от копья Хагена. Я словно вижу, как он, пронзенный копьем, падает наземь возле источника. Мне кажется, ни один образ французской литературы, ни в «Песни о Роланде», ни в «Легенде веков», не занимал мое воображение так прочно и неизменно, как эти картины, возникающие в лесном полумраке под сенью могучих дерев, среди гигантских корней и стоячих вод.
Много позже, когда я проезжал через великие немецкие леса, они показались мне странно знакомыми, как будто я вновь очутился в одном из тех реально существующих мест, какие давно уже посещал в своих грезах и где в вечных сумерках листвы становилось возможным любое волшебство. И сильнее даже, чем в лесу родного Монтаржи, где по-прежнему бродил призрак по-волчьи злобного пса-мстителя, я ощутил здесь, в этих немецких лесах, все могущество этих уз, которые привязывают нас к некоторым местам до такой степени, что они всецело завладевают нами, подчиняют себе и мало-помалу в силу некой чудесной метаморфозы заставляют слиться воедино с этим пейзажем. Этот зов, влекущий и головокружительный, слышался мне в строках «Лесного царя», «Лорелеи», «Рыбака», и особенно явственно я чувствовал его в гравюрах Дюрера, украшавших учебник, они до сих пор волнуют и трогают меня как самим сюжетом – четыре апокалипсических всадника, рыцарь, смерть и сатана, святой Евстахий и речное чудовище, – так и тщательно прорисованным пейзажем, в который они вписаны, холмами, долинами и деревнями. Очарованный, я проникал в этот мир, где стерты границы между днем и ночью, реальностью и чудом, разумом и грезой, и, без сомнения, именно там обретал я то зыбкое, загадочное видение жизни, наносившее столь непоправимый ущерб классическому французскому воспитанию, неким символом которого была пунктуально-придирчивая система Ашиля Муша. И тем не менее именно Муш, неведомо для самого себя, пробивал в нем эту брешь.
Несколько лет назад я случайно узнал о его смерти. Он ехал по дороге в Невер на своем стареньком велосипеде, как вдруг допустил невероятную для такого сверхаккуратного человека оплошность. Решив свернуть в сторону, он забыл подать знак рукой. Налетевшая сзади машина задавила его насмерть.
В противоположность классной комнате Муша, которая скорее напоминала подвал, класс Роне, напротив, забрался на самую верхотуру. Нужно было одолеть сложную путаницу коридоров и лестниц, но зато там, наверху, мы были отрезаны от всего мира. Может быть, ему специально и выделили такой класс, чтобы избавиться от шума, ибо уроки его иногда проходили весьма бурно, а эта удаленность позволяла директору, не любившему скандалов, закрывать на все глаза. Впрочем, ничего слишком серьезного и не происходило, никаких стычек и криков, просто в классе стоял мерный гул, поскольку каждый занимался чем хотел. Прилежные ученики, вроде меня, любившие литературу, усаживались вокруг кафедры, придвигая парты как можно ближе к ней; другие в глубине класса, отделенные от нас как бы «ничейной землей», развлекались самыми разнообразными способами: играли в карты, болтали, дремали, что-то мастерили. Из окон виднелись верхушки платанов и вороны, с карканьем кружившие над крышами. В классе пахло плесенью, мелом, дымом, а в дождливые дни еще и мокрой шерстью, ибо всегда находились оригиналы, которые, разувшись, сушили носки у печки.
Роне был очень чувствителен, вдумчив, тонок, одержим еле сдерживаемыми страстями – словом, полная противоположность Ашилю Мушу, который, впрочем, за то и не любил его. С мечтательным видом он извлекал из своего портфеля книги, устраивался за деревянным некрашеным столом, служившим ему кафедрой, и больше уже не двигался; сидя за этим кухонным сооружением в непринужденной и одновременно изящной позе, со скрещенными ногами, как Малларме в своем кресле, он пространно толковал нам о поэзии, о музыке слов, о ритмике, образах, и его, казалось, ничуть не заботило безразличие части класса. Я думаю, он считал, что культуру палкой не вбивают. Что ж, тем хуже для этих варваров! Пусть идут в лавочники. Роне рассказывал то, что ему хотелось рассказать, и слушали его те, кто хотел или мог его слушать. Подобный педагогический принцип с ходу осудили бы в наши дни, но в общем я нахожу его ненавязчивым и разумным. Нас, его слушателей, было не то пятеро, не то шестеро, зато уж слушали мы как следует, и небольшая группа колеблющихся, смотря по времени года, теме урока и настроению, то примыкала к нам, то возвращалась в лагерь противников литературы.
В некоторые, по правде говоря довольно редкие, дни даже самые неподдающиеся ученики: бездельники, игроки в белот, специалисты по изготовлению волчков или метательных трубок – вдруг настораживались и начинали слушать, покоренные красотой какого-нибудь отрывка или комментария к нему. На несколько минут воцарялась непривычная тишина, которая, казалось, даже смущала самого Роне. Тогда наступали прекрасные мгновения полной гармонии, высокие минуты общения с Гюго, Шатобрианом, Нервалем, и, если кто-то все же осмеливался нарушить тишину, мы бурно протестовали, а Дэр, здоровенный верзила, в свои тринадцать лет ростом почти в метр восемьдесят, оборачивался и заявлял, что с людьми, которые не любят поэзию, он объяснится после уроков во дворе. Угроза немного смиряла смутьянов. Мы задавали Роне вопросы, он внимательно выслушивал их, потирая нос большим и указательным пальцами, потом отвечал серьезным, немного вялым тоном, листая книгу, читая нам тот или иной отрывок.
– И все, – заключал он, – а больше я вам ничего не скажу. Не рассчитывайте только на меня! Перечитайте эту страницу сами сегодня вечером, и завтра утром, и еще через несколько дней; постепенно вы проникнете в ее смысл, и каждый раз она будет представать перед вами в новом виде. И помните, читать нужно с большой любовью…
– С любо-о-вью? – насмехался кто-нибудь сзади.
– Заткнись, дурак! – кричал Дэр.
Раздавался звонок. Роне отряхивал рукава и поправлял галстук.
– Ну ладно, завтра продолжим.
Это для него я написал александрийским стихом длинную поэму «На смерть Тристана». Цикл романов о короле Артуре вдохновлял меня почти так же, как Нибелунги, и я, горя поэтической лихорадкой, накатал целых шесть рифмованных страниц. Смертельно раненный Тристан лежит на берегу бретонского моря. У него едва хватает сил приподняться, чтобы поискать взглядом на горизонте парус корабля, посланного им в Корнуэлл. Если корабль везет Изольду Белокурую, то парус будет белым, но он будет черным, если посланного постигла неудача. Охваченная ревностью, Изольда Чернокудрая кричит, что парус черный, и жизнь покидает Тристана. Прекрасная Изольда, прибывшая на корабле, умирает от горя возле тела того, кого она не переставала любить.
Все это чаровало и в то же время пугало меня. Я мучился загадкой жестокой силы любви, думал о роли, какую сыграл тут любовный напиток, что придавало всей этой трагедии оттенок нереальности. Не приведется ли и мне когда-нибудь страдать от такой же напасти? Мне чудился шум волн, набегавших на пляж, где я когда-то проводил каникулы, мне виделось смертное ложе на самой вершине маяка, и уж конечно я был влюблен в Белокурую, но так же сильно и в Чернокудрую.
Возвращая нам работы, Роне сказал, вначале не называя меня, что в одной тетрадке он нашел «замечательные стихи» и поздравляет их автора. На этот раз его внимательно выслушал весь класс, раздались одобрительные восклицания и даже восхищенный свист. Я с замирающим сердцем сидел, не поднимая головы. Тут он указал на меня, и свист возобновился, – в нем не было иронии, так как в то время даже самые отъявленные лентяи еще питали уважение к подобным вещам. Среди общего молчания Роне прочел отрывок из моего произведения, указал мне на несколько сомнительных цезур, на одну неточную рифму, но тут же добавил, что это все пустяки, и, глядя на меня с каким-то новым вниманием, протянул мне тетрадь, которую я принял у него дрожащей рукой.
Эти стихи я безвозвратно потерял, да оно, вероятно, и к лучшему, воображаю, какие неуклюже-добросовестные вирши я способен был накропать на эту великую тему, но в глазах товарищей я с этого дня стал поэтом. Чьи-то руки вырезали на парте мое имя в лавровом венке, среди лир, и я, сам того не сознавая, оказался вознесенным на некую высоту. Я был худ и бледен, кутал горло в шерстяные шарфы и находился в состоянии перманентной влюбленности в какую-нибудь девочку, мельком увиденную в тумане. И я начал писать в блокноте стихи, которые не показывал ни одной живой душе.
Нынче в некоторых кругах считается хорошим тоном оплевывать школу, заявляя, что она отупляет детей, вероятно, в наши дни действительно поэзии и живому воображению она мало что дает. Но я-то очень хорошо знаю, чем обязан учителям и книгам. Передо мной распахнулись двери в неведомые области, в которые мне доселе удавалось лишь мельком заглянуть, читая книги из дядиной библиотеки и учась в начальной школе, и я устремился туда с таким пылом, что моя мать даже порой беспокоилась.
– Да хватит тебе корпеть над уроками, – уговаривала она меня. – Пойди погуляй! Ты слишком много занимаешься!
– Подожди, мне некогда, надо кончить…
У меня было ощущение, что мне неслыханно повезло: я посещаю коллеж, открываю для себя мир, о котором мои предки, навечно прикованные к своему полю, к своей убогой лачуге, не имели ни малейшего понятия; было и еще одно, более прозаическое соображение: учение – единственный способ спастись от завода. Дело тут было вовсе не в социальной амбиции или страсти к обогащению – от этого я был хорошо застрахован, – нет, меня снедало более высокое стремление: избавить мой род от тяжкого груза прошлого.
Но в этом моем рискованном предприятии, помимо моей одержимости учебой, была и другая, мучительная сторона. История наводила на меня тоску, но я добивался хороших отметок, заучивая наизусть, как это и требовалось от нас, имена королей, министров, генералов, даты сражений и мирных договоров – чисто механическая работа памяти, никакой радости мне не доставлявшая, если не считать античной Греции, которая манила и завораживала меня как высшее воплощение еще неведомого мне Средиземноморья. И, напротив, в этот период войны, обрекшей нас на вынужденную оседлость, я с удовольствием «путешествовал» на уроках географии. Но все точные науки, исключая те, что зовутся естественными науками, были для меня темным лесом, даже если я и ухитрялся с помощью зубрежки подняться до сносных отметок. Все эти абстракции, которые отсутствие лабораторий делало еще более сухими, начисто испарились из моей памяти, оставив лишь тягостное ощущение безнадежности при попытке пробить непробиваемую стену. Да, признаюсь, в школе я выучил – и сохранил во всей свежести – лишь то, что было близко моей душе, моему сердцу.
Я поехал взглянуть на свой бывший коллеж, ныне заброшенный, с тех пор как на опушке леса построили здание нового лицея. За решеткой ограды ветер гонял по двору сухие листья. Окна смотрели на меня пустыми черными глазницами. Ворота заперты, да, по правде говоря, я на самом деле и не испытывал желания войти и обнаружить внутри уже четверть века как заброшенного здания суетливых ящериц, плесень, обрушившиеся балки и обвалившуюся штукатурку – все, что придало бы этому и прежде печальному месту совсем уж жалкий вид. Нет, лучше мысленно пробежать вновь по этим лестницам и коридорам, припоминая классы такими, какими они были тогда: класс Муша, класс Роне, класс английского, где Сижель читал нам поэму Теннисона «Энох Арден», «Рассказ старого моряка» и «Оду греческой урне», класс истории на первом этаже, темноватый, весь завешанный картами, и, наконец, класс философии, самый памятный, самый близкий, – к нему я питаю особую нежность, ибо именно здесь я встретился с Жюльеттой.
Вот она сидит у окна, мне виден ее профиль, длинные волосы стянуты лентой, и лицо ее, озаренное солнцем, проникающим в окно сквозь золотистую листву платана, предстает в каком-то нереальном освещении, как на тех картинах, где свет как будто весь сконцентрирован на одном-единственном персонаже. Она внимательно слушает, слегка покусывая колпачок своей ручки. Я краешком глаза наблюдаю за ней издали и не без волнения признаюсь себе, что она интересует меня, хотя меня и раздражают ее порой такие безапелляционные суждения, ее туфли на низком каблуке и носочки. Фалье превозносит разум и Спинозу. Его живые глаза блестят на худом лице, он чуть покусывает губу, как будто пережевывает слова, прежде чем произнести их. Мы все увлеченно вникали в эту новую для нас область, и я целый год мнил себя философом, до того самого дня, как обнаружил в Сорбонне начетчиков от философии, которые за несколько месяцев сумели внушить мне отвращение к предмету.
Вот о чем я думал, глядя, как сумерки затопляют двор, и внезапно, сам не знаю почему, я вспомнил лестницу со стороны заднего двора —. невидимая с улицы, она вела к подземному ходу, закрытому черной решеткой. Никто не входил туда, сомнительно даже, имелся ли у кого-нибудь ключ. Несмотря на строгое запрещение, мы иногда тайком спускались по этой лестнице и, прижавшись лицом к решетке, пытались разглядеть что-нибудь в темной дыре, откуда веяло могильным холодом. Некоторые уверяли, что этот ход ведет в некое подземелье под рыночной площадью, другие – что он доходит до самого замка, стоявшего на холме, находились скептики, утверждавшие, что ход оканчивается тупиком. Однажды Фабр принес отмычку и электрический фонарь и, сбежав с послеобеденных занятий, долго ковырялся в замке, который так и не поддался. Может быть, правы были те, кто не верил, будто ход ведет куда-то. Мне нравится, что эта тайна так и не открылась нам, и она до сих пор интригует и занимает меня, как те герметически закрытые «коробки с секретом», внутри которых, если их потрясти, слышится стук неизвестного предмета, чья единственная ценность как раз и состоит в том, чтобы остаться неразгаданным.
Ночь опустилась на землю, пока я бродил улочками вокруг коллежа. Зажглись фонари, всё такие же тусклые и унылые. В этот час прохожие на улицах редки, за ставнями домов приглушенно бормочут телевизоры, а открытые окна светятся голубоватым аквариумным светом экранов. Какая тяжкая пелена грусти лежит на этом городке, где все обрекает его жителей на скудную затворническую жизнь! В этих домишках, где хмуро господствует серый цвет – и на фасадах, и на ставнях, и, чуть потемнее, на черепичных крышах, будто отражающих вечно затянутые тучами небеса, – течет по извечной своей колее серая жизнь. Конечно, существуют радостные минуты детства, короткие безумства юности: любовь, вино, велосипедные гонки, – но через несколько месяцев, самое большее через несколько лет все попадает под серый тяжкий пресс тишины. Люди обосновываются в своем жилище, замыкаются в нем, и безбрежный мир съеживается до пределов семьи, ремесла и домашнего очага, где из поколения в поколение повторяются одни и те же привычные ритуалы: праздники, церковные обряды, кино по субботам, прогулки по воскресеньям, и только какая-нибудь историческая драма или чья-то личная трагедия способны на мгновение пошатнуть это устоявшееся существование. Но быстро, очень быстро порядок восстанавливается, и я всей кожей чувствую давящую силу этой осторожной устойчивости, отвергающей всякие жизненные бури. Приключения вызывают порой интерес, но на расстоянии, и пусть их переживают другие, а мы только тайно помечтаем о них. И однако, в этом узком мирке процветают мелкие добродетели, расхожая мудрость и смиренные страсти, вложенные в основном в дом и сад. О эта ужасная провинция! Ужасная вдвойне оттого, что под нею лежит эта скудная неблагодарная земля, без таких упоительных открытий, как море, могучая река, необозримая равнина, теряющаяся на горизонте. Вот от чего я бежал в юности, и все же, все же я знаю, она намертво приросла к моей коже, мне не избавиться от нее, как никогда не забыть ни тумана, ни холодов, проживи я на солнечном Юге хоть сто лет.
Я прошел мимо старой почты, где моя мать проработала больше сорока лет, сидя в темном закутке с матовым стеклом в окне, забранном толстыми железными решетками, отгораживавшими ее от внешнего мира. Мне случалось стучать в это окошко, когда я возвращался из коллежа. Мать открывала его, и мы обменивались несколькими словами, за ее спиной я видел стол, заваленный пачками денег, и дверцу сейфа.
– Ну, до вечера, – говорила она. – Мне надо побыстрее сдать кассу.
– Ты поздно вернешься?
– Надеюсь, не очень.
– Ладно, я пошел. Пока!
И вот я снова в этом переулке, под булькающим дождем. Я направляюсь к улице Доре, там хотя бы витрины освещены и можно встретить солдат, что по двое, по трое возвращаются к себе в казармы. Теперь здесь на месте старых кафе полно баров с игральными автоматами и неоновым освещением, но, несмотря на шум и яркий свет, ничто не в силах стереть грусть с лица этого города.
В детстве передо мной не стояла проблема неравенства: мы все были одинаково бедны, или, если точнее, все «жили скромно». Беднее нас были только русские, украинцы и поляки – эмигранты, жившие на другом берегу реки, в заводских кварталах. Мы их почти не видели. У них были свои школы, свои праздники, своя деревянная церковь с колокольней, с луковицей, обшитой цинком. То была крошечная иностранная территория, где звучала разноязыкая речь. Те, кто не хотел селиться в рабочих поселках, ставили себе в стороне маленькие домики с садом и огородом, где росли огурцы и подсолнухи. Мы говорили об эмигрантах с легким пренебрежением, но, если бы им вздумалось поселиться среди нас, никто не стал бы возражать и их детей мы приняли бы в свою компанию.








