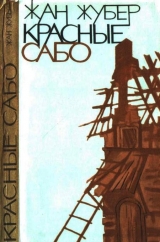
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
На время каникул дочь Симоны, Сильвия, почти моя ровесница, приезжала погостить у бабушки. Ее я вспоминаю в сиянии июльского дня в глубине сада, между орешником и сиренью. Ее белокурые кудряшки блестят на солнце, она носит платьице из легкого полотна, выше колен, и держит в руке лейку – совсем как на той фотографии, которую я недавно нашел, ей там то ли шесть, то ли семь лет. Она слегка склонила головку к плечу и прищурила глаза, пряча их от ослепительно яркого солнца.
Мы с ней играли возле маленького прудика на дне карьера – там мы строили «хижины». Мы поочередно становились индейцами, неграми, бандитами, а иногда изображали тигров или крестьян. Особенно мне хотелось превратиться в негра, я целыми часами жарился на солнце, а придя домой, первым делом бежал к зеркалу, где разочарованно созерцал свои по-прежнему бледные щеки и тонкие, совсем не негритянские черты. Мне казалось: нужно только набраться терпения, позагорать подольше, и я превращусь если не в самого настоящего негра, то хоть во что-то близкое к нему. У меня был лук со стрелами. Сильвия, нацепив на себя кусок облезлого меха, изображала тигра. Черный целлулоидный голыш, сидя в траве, смотрел на нас своим единственным глазом – другой у него безвозвратно стерся.
Иногда Сильвии надоедало быть тигром. Она плакала и бегала жаловаться бабушке: «Он меня укусил, он меня исцарапал!» Бабушка беззлобно отвешивала мне парочку подзатыльников и ворчала: «Ох, до чего вы мне оба надоели! Перестаньте с ума сходить!» Она чистила овощи или кипятила белье, а еще я помню, как она потрошила кролика. Кролик висит на гвозде возле кухонной двери, привязанный за задние ноги. Бабушка осторожно разрезает острым ножом тушку, а другой рукой сдирает с нее кожу, которая снимается как перчатка. Кролик давно уже мертв, но кровь еще сочится у него из носа, капля за каплей падая в белую фаянсовую миску, уже наполовину полную, с забрызганными красным краями. Черная кошка возбужденно трется о Минин передник, но та отталкивает ее: «Брысь, пошла прочь, негодница!» Мы с Сильвией толкаемся, чтобы получше разглядеть кролика, и бабушка кричит: «А ну прекратите! У меня от вас голова кругом идет! Отправляйтесь-ка в сад, поищите там вчерашний день!» Мы замираем. Бабушка взрезает кроличий живот, и кучка требухи вываливается на пол. Я явственно помню ее теплый сладковатый запах.
В эти длинные летние дни, которые я проводил в бабушкином доме, играя с Сильвией, я позабывал тревожную тоску ожидания вечерних сумерек; казалось, солнечный свет не померкнет никогда. И однако, тени постепенно вытягивались, лягушачий и жабий хор возвещал приход ночи.
Когда за мной приходил отец, на какие только хитрости я не пускался, чтобы оттянуть уход, даже прятался под стол.
– Да ну же, пошли! Завтра опять придешь сюда играть!
Господи, вот бы никогда не спать!
Да, я помню эти места – сад, карьер с крошечным прудиком на дне и этот дом, где мне знаком каждый уголок. Последний раз я побывал в нем примерно за год до смерти Алисы. Она в конце концов вынуждена была уйти на пенсию, и этот поворот в ее судьбе, после целой жизни ожесточенного труда, оказался для нее мучительным. «У нее бывают какие-то странные заскоки, – писала мне мать, – ей кажется, будто соседи преследуют ее. И не похоже, что она сумеет избавиться от этой мании». Однако Алиса продолжала возделывать свой сад, а в доме главным ее занятием стало начищать мебель и паркет – этим она занималась часами с каким-то яростным исступлением. Нигде больше я не видел, чтобы так сверкала мебель: в нее можно было смотреться, как в зеркало.
Я похвалил ее сад, по правде сказать не слишком ухоженный – я даже заметил, что большое персиковое дерево справа от дома засохло и больше не плодоносит.
– Ба, да тут все само по себе растет! – отвечала Алиса.
Она не слишком изменилась, только чуть больше седых волос, чуть глубже запали щеки, а глаза словно подернулись пеленой.
Мы зашли в дом и сели, она расспрашивала меня о детях, о Жюльетте, но мне показалось, что она не слушала моих ответов – это она-то, которая так любила входить во все подробности, выспрашивать все до мелочей.
– А ты как? – спросил я.
– Ох, у меня не жизнь, а пытка! Если бы ты знал, как они меня мучают!
– Кто?
– Ну они! Все эти ведьмы соседки. Одна, знаешь ли, целый день торчит у забора и подглядывает за мной. А другая, та, что напротив, стережет за дверью. Я даже выйти из дому не решаюсь!
– Да что ты выдумываешь?!
– Выдумываю! Знал бы ты, что они про меня болтают!
– Да не может быть! Ведь ты же их знаешь целую вечность!
– Нет, я их только теперь и узнала! Чудовища, вот кто они такие! Ты обратил внимание: когда ты вошел в дом, она подглядывала из-за занавески. Я-то ее видела! А что они обо мне говорят!.. Будто бы я принимаю у себя мужчин…
Ее жалобы лились нескончаемым потоком, и я перестал ей противоречить, я увидел теперь, как она изменилась, и понял, что, споря с ней, рискую стать в ее глазах сообщником ее врагов – это я, которого она так горячо любила. Я выслушивал ее, машинально кивая головой, потом, улучив момент, заговорил о другом: рассказал ей, что написал книгу, которую обязательно подарю ей.
– Да-да, спасибо, ты молодец! – проговорила она, но я видел, что мысли ее блуждали далеко.
Потом я собрался уходить, пообещав, что вскоре опять навещу ее. Она поднялась:
– Погоди-ка. Посиди минутку.
Она ушла в свою спальню, оставив меня одного в кухне разглядывать мебель, плиту, хлебную корзину, поднос с медными стопочками для ликера, блестевшими, как золото…
Вернувшись, она сунула мне в руку кредитку, сложенную вчетверо:
– Вот, держи, это тебе!
– Спасибо, не надо. Тебе они нужнее!
– Бери-бери, купишь себе сигары.
Я почувствовал, что отказываться нельзя. Я поцеловал ее и поблагодарил. Вероятно, она так и не смогла привыкнуть к мысли, что я уже взрослый: она все еще видела во мне подростка, а может, даже маленького мальчика, каким я был, когда ездил на праздник святой Магдалины в Монтаржи или, позже, в Париж.
– Ты уж извини, что я тебе надоедаю своими разговорами. Но надо же мне хоть кому-нибудь рассказать. Твой отец не желает меня слушать. Ах, если бы ты знал… Я тебя не провожаю. Не хочу лишний раз показываться им.
Я толкнул калитку. Я уходил по пустынной улице, на которую уже спускалась ночь.
Врач сказал, что ее нельзя больше оставлять дома. Ее поместили в лечебницу, что-то вроде санатория, близ Орлеана. Она согласилась, ей невмоготу было жить среди этих ведьм, которые рассказывали о ней такие ужасные, совершенно ужасные вещи! Время от времени я писал ей, но, конечно, не так часто, как нужно было бы. Я рассказывал ей о детях, описывал наш дом на Юге, наш сад. Я много раз получал от нее ответные письма, написанные дрожащим почерком, который с трудом можно было разобрать: «Здесь мне неплохо… кормят довольно хорошо… горячо целую вас всех». Потом письма прекратились. Когда отец и мать приехали навестить ее, она попросила их передать мне, чтобы я не обижался: ей трудно держать карандаш, руки дрожат все сильнее и сильнее.
Однажды и я приехал повидаться с ней. Большое серое здание стояло в саду, окруженном высокой стеной – наверное, это был бывший монастырь, – вдоль аллей тянулись пышные цветники. Я позвонил, мне открыла монашка, она провела меня в приемную и попросила подождать, сказав, что сейчас сообщит о моем приходе.
– Разве я не могу пройти к ней в комнату?
Она сказала: нет, нельзя, это запрещено.
Приемная – единственное место, где пансионерки могут принимать посетителей.
– Как она себя чувствует?
– Довольно хорошо, – коротко ответила она бесстрастным тоном, и мне вдруг показалось, что она не очень-то ясно представляет себе, о ком идет речь.
В комнате с голыми побеленными стенами одиноко висело распятие над дверью, а из мебели стояли лишь садовые кресла из пластика кошмарного оранжевого цвета. Окна без занавесок выходили в пышно цветущий сад.
Ждать пришлось долго, вокруг стояла такая тишина, как будто дом был необитаем. Наконец появилась Алиса. На ней была какая-то длинная серая хламида, волосы забраны назад. Она шла очень медленно, я заметил, что веки и скулы у нее припухли больше обычного и это подчеркивало азиатский разрез ее глаз. Я боялся, что она расплачется, но она только слабо улыбнулась, когда я поцеловал ее, и села напротив меня, положив на колени пакет со сладостями, который я ей принес и который она даже не развернула.
– Я очень рада тебя видеть, – сказала она. – У тебя все в порядке? Ты прекрасно выглядишь. А как жена, детки? Я получила твои письма. Так мило, что ты меня не забываешь. Знаешь, я не могла тебе ответить…
– Это неважно. Я узнавал о тебе от родителей. Ну, как ты себя здесь чувствуешь?
– Хорошо. Здесь спокойно.
– Ты не скучаешь?
– Нет.
– А чем ты занимаешься целый день?
– Ничем.
– Ты не смотришь телевизор?
– Нет. Я могла бы, но мне не хочется.
– А в парке ты гуляешь?
– Немного.
Она сидела передо мной с каким-то отсутствующим, рассеянным видом, ни следа не осталось от ее былых навязчивых мыслей: ведьмы соседки испарились из ее памяти, но вместе с ними пропал и интерес к жизни. Наверняка ее здесь слишком пичкали всякими успокоительными – оттого-то все ее движения были замедленны, а взгляд затуманен. На минуту как бы вынырнув из своего полузабытья, она неловко развернула пакет, протянула мне шоколадку, взяла себе другую, и мы продолжали говорить о том о сем.
Потом вошла монашка, она ничего не сказала, но по ее лицу я понял, что визит пора закончить. Я встал, попрощался с ней, и она ответила мне безмолвным наклоном головы.
Алиса пошла проводить меня до ворот. Я похвалил великолепные цветники и чуть было не спросил ее, скучает ли она по своему саду, но вовремя удержался, побоявшись пробудить в ней воспоминания о призраках прошлого.
Отойдя, я оглянулся: она стояла совершенно безучастная и глядела на меня из-за решетки, в последний момент мне показалось, что она слабо махнула мне рукой.
Через несколько месяцев я увиделся с ней в больнице Монтаржи, куда ее перевезли из-за ухудшившегося состояния. Она уже не вставала с кровати, и рассудок ее как будто совсем не реагировал на окружающее. В этой большой палате она, казалось, не замечала других больных, ее пристальный взгляд был устремлен в окно, голос тек медленно и тихо. Я принес ей мой только что вышедший роман, она взяла его и, легонько проведя пальцем по переплету, положила на тумбочку у кровати; я знал, что она его не прочтет. Она уже вступила на путь смерти, а я странным образом чувствовал себя виноватым из-за того, что останусь жить и вот сейчас выйду отсюда на солнечную улицу, как будто, обладая властью удержать ее на этой земле, я не сделал этого. Я сказал ей: «До свиданья, мы еще увидимся», зная, что говорю неправду. На улице несколько стариков, прислонившись к стене, грелись на осеннем солнышке, только вокруг не было цветов – одни камни, лужи и несколько хилых деревьев с уже желтеющей листвой. И в этот самый миг меня вдруг затопила серая волна, как это нередко бывало теперь со мной.
Однажды утром мать позвонила мне на Юг и сообщила, что Алиса ночью умерла. Тоска подмяла меня под себя, давила все сильнее. Я прошептал: «Я приеду», но, видно, голос мой звучал так странно, что мать спросила:
– Тебе все еще нездоровится?
– Да. Еще хуже стало.
– Ну тогда не приезжай, не надо. Мы и сами справимся. В конце концов, что от этого изменится?
– Да, что изменится…
Стоял ноябрь, здесь, на Юге, теплая солнечная пора, но тоска вот уже несколько недель не отпускала меня. Я ненавидел солнце и свет. В конце концов я так и не поехал на Алисины похороны, и даже если это и в самом деле ничего для нее не меняло, то меня еще долгие годы терзали угрызения совести. Ночами я просыпаюсь и лежу без сна, обвиняя себя в предательстве, пытаясь оправдаться перед самим собою; и все мои прочие вины внезапно возникают из тьмы, как будто затаившиеся там чудовища, учуяв мою слабость, наконец поднимают голову. И они набрасываются на меня всей стаей. Днем от них еще можно как-то избавиться, но ночью… ночью…
Дедушкин дом опустел; каждый брал оттуда то, что ему хотелось: мебель, белье, безделушки – да и много ли там было! – а старьевщик вынес или сжег остальное. Я ничего не пожелал взять.
Вновь я узнаю эти сумерки, эти шорохи, этот последний блик дневного света на паркете – дрожащий, как огонек свечки, он медленно съеживается, тает и наконец окончательно меркнет. И вот наступает для меня самый гибельный час, некое угасание, минуты тоскливого ожидания чего-то или кого-то неведомого, неназываемого. Конечно, если захотеть, можно с помощью маленькой хитрости избежать его: открыть книгу, и слова сразу же отгородят меня от окружающего, или лечь на узенький диванчик, служивший мне постелью, отвернуться к стене, закрыть глаза ладонью и, чувствуя щекой чуть шершавую ткань подушки, попытаться уснуть. А когда я проснусь, будет уже темно и за окном, совсем близко от дома, зажжется фонарь.
Да, в детстве мне казалось, что половина моей жизни проходит в ожидании. Мой отец возвращался домой около семи часов, он задерживался из-за дополнительной работы, а моя мать – еще позже, только после того, как сдавала кассу. Придя из школы, я раздувал огонь в печке, раскладывал на столе книги и тетрадки и погружался в домашние задания. Вот тут-то с наступлением сумерек начиналось мучительное ожидание. Мне чудилось, что все: и стены, и тьма за окном – источает тревогу, она сгущалась в комнате, и я, закончив уроки и стараясь отвлечься от тягостных мыслей, раскрывал «Книгу для чтения». Но чем дальше текло время, тем меньше улавливал я смысл прочитанного, мне приходилось по два-три раза перечитывать одну и ту же фразу, чтобы понять ее, я напряженно вслушивался в редкие звуки, доносившиеся с улицы: далекие голоса, скрежет закрываемых ставен, лай собаки, а главное – шуршание велосипедных шин. Заслышав его, я сдерживал дыхание. Шины скрипели по гравию на перекрестке, мягко шелестели по утрамбованной земле проселка, в дождливые вечера с хлюпаньем разбрызгивали лужи; потом шум удалялся. В наступившей тишине я снова ждал, напрягая слух. То и дело поглядывал на будильник, стоявший на камине. Временами его тиктаканье становилось невыносимо громким, а красная эмаль полыхала на полке, как чей-то огненный глаз. Наконец велосипед останавливался у нашего дома. По манере сходить с него я сразу узнавал, кто приехал, отец или мать: папа резко и стремительно останавливался и сразу соскакивал с седла, мама же тихонько тормозила и под легкое шуршание шин легко и бесшумно спрыгивала на землю. Потом скрипела калитка, вот ее открыли и закрыли снова, раздавались шаги на крыльце, щелкал замок, и наконец в проеме двери возникал знакомый силуэт. Вмиг тревога моя улетучивалась. Я никогда не жаловался, не упрекал за задержку. Но и не двигался с места, опустив глаза к книге и притворяясь, будто поглощен чтением. Я ждал привычного поцелуя в лоб. Теперь – в который уже раз? – я был спасен, но сохранял невозмутимый вид, то ли из какой-то стыдливости, то ли от тайной обиды.
Обычно первым приезжал отец. Он говорил:
– Ну как там, в школе, все в порядке? Что-то прохладный нынче вечерок. Мама скоро приедет. Давай-ка собирай свои тетрадки, я буду накрывать на стол.
Пока разогревался суп, он медленно, старательно свертывал сигарету, а я прислушивался, не едет ли мама.
Особенно острым и невыносимым становилось ожидание, когда из-за болезни я должен был сидеть дома. Наконец появлялась мать – подойдя к моей постели, она целовала меня в щеку.
– Как ты себя сегодня чувствуешь? Лучше? Ты не очень скучал?
Я кивал и тут же мотал головой.
Когда мать наклонялась надо мной, еще прежде, чем ее губы касались меня, я ощущал дыхание холода, принесенного ею с улицы, он волнами расходился по комнате от ее пальто. Она так спешила войти в столовую, где я лежал, что не успевала снять его, потом она клала мне руку на лоб, а я смотрел в ее улыбающееся, чуть встревоженное лицо. Иногда на ее ресницах и волосах блестели крохотные водяные капельки от тумана.
Я говорил:
– Какая ты холодная!
– Ох, сегодня такой ужасный холод, наверное, ночью снег пойдет. А у тебя лоб еще горячий.
– Неважно! Ты принесла мне журналы?
– Конечно, а как же, разве я забуду!
Она вынимала из сумки журналы, клала мне на кровать, и я вдыхал знакомый запах бумаги и краски. Мама никогда не забывала про журналы, но я все равно боялся: а вдруг забудет, и в предвечерние часы, когда по комнате растекались сумерки, а у меня поднималась температура, этот страх еще больше усиливал мою тревогу. Но, завладев журналами, я тут же успокаивался и погружался в чтение, а мать шла на кухню готовить ужин.
Доктор Шаторено обычно громко кричал на всю комнату:
– Ну-ка, мальчуган, докладывай, что стряслось?
Он был худой, высоченный, носил высокие сапоги из рыжей кожи и, входя, чуть наклонял голову, чтобы не стукнуться о притолоку. Выслушивал он меня бесконечно долго – прижмет ухо к моей груди и замрет, так что я боялся, не уснул ли он там. Длинные белокурые усы щекотали мне грудь, я внимательно разглядывал его голый розовый череп, от которого исходил слабый запах одеколона. «Хорошо… хорошо… отлично…» – приговаривал он, потом скреб голову, ворчал что-то себе в усы и, скрестив ноги, подсаживался к столу, чтобы нацарапать очередной рецепт. После этого он немного отдыхал, болтал с матерью. Он был социалистом, человеком образованным и, прописывая мне лекарства, одновременно рекомендовал хорошие книги: Жюля Верна, Жионо, Доде, а позднее Стендаля, которого обожал. Наконец он медленно выпрямлял свое длинное тело, выходил, и я слышал фырканье мотора его машины под окном, постепенно затихавшее в морозной мгле.
Однажды ночью, когда я метался в жару, я открыл глаза и в слабом свете ночника, мерцавшего в изголовье, вдруг увидел, что наша столовая стала огромной-преогромной. Где-то очень далеко от меня, в конце пустынного пространства, стояли стул, буфет, зеркало, казавшиеся сейчас совсем крошечными. В густом полумраке цветы и листья на коврике, давно примелькавшиеся и мной даже не замечаемые, внезапно обрели яркую выпуклость и таинственную глубину тропического леса. Широко раскрыв глаза, я долго лежал неподвижно, скорее удивленный, чем испуганный; мне чудилось, будто меня нежданно забросило в какой-то сказочный мир, где время и пространство смешались, где какой-то могучий чародей, не переставая, творит чудеса. Ночь стояла тихая, родители мои спали в соседней комнате, но я не стал их звать, в этом необыкновенном мире не было ничего угрожающего. Напротив, мне казалось, я переживаю какое-то головокружительное приключение, меня куда-то влекло, уносило. Я коснулся груди, потом ног, которые теперь тоже находились где-то очень далеко от меня, так что, пока я дотянулся до них, прошли века. Но я все же был по-прежнему здесь, только я растянулся до бесконечности, растворился в этом странном, вязком пространстве. В конце концов я опять заснул. Когда утром я открыл глаза, температура у меня немного упала, стены комнаты снова сдвинулись, и все предметы в утреннем свете вновь приняли свои обычные размеры, оказались на своих прежних местах и выглядели довольно обыденно. Я как будто совершил путешествие и, вновь очутившись в знакомой тесной комнате, прикрыл глаза, чтобы лучше припомнить волшебные образы минувшей ночи.
Многие сцены моей жизни забылись вовсе или помнятся смутно, но воспоминание об этой ночи оказалось странно живучим, в нем видятся мне первые проявления склонности к метаморфозам, что, как говорят, вызывается некоторыми лекарствами, а может и просто быть свободной игрой воображения. Я знаю, меня никогда не перестанут занимать та запредельная реальность и ее долгие отзвуки.
Интересно, что стало сейчас, спустя тридцать лет, с ними, с друзьями моего детства: разъехались ли они кто куда, умерли или изменились до неузнаваемости? Как-то я встретил на улице Фарана. Смешно раздвинув колени, он жал на педали старенького велосипеда и был до ужаса похож на своего отца. Эта встреча была такой неожиданной, она потрясла меня, мне показалось, будто время вернулось вспять. Мы кивнули друг другу, он улыбнулся, но ни я, ни он не остановились. Можно ли за несколько минут преодолеть расстояние, которое отделяло нас от тех далеких лет? Для меня он был уже не тем мальчишкой, с которым мы вместе ловили головастиков на дне карьера, а довольно пожилым мужчиной, чужим человеком, и, кроме нескольких обычных банальных слов, я не знал бы даже, о чем с ним говорить. Слишком далеко ушло прошлое, чтобы нам с ним его ворошить, да может, он и не узнал меня? Когда мне доводилось встречать друзей своего детства и я пробовал беседовать с ними, я испытывал такую неловкость и грусть, что предпочел навсегда отказаться от подобных попыток. Всякий раз у меня бывает такое чувство, будто образ того мальчишки, что сохранился в моей памяти, искажается и тает, как восковая маска над огнем.
По вечерам после школы и в свободные дни мы собирались в глубоких песчаных карьерах, лежавших между околицей и полями. Здесь когда-то добывали песок для строительства Монтаржи, а потом карьеры забросили. Они заросли кустарником, ивняком, а в лужах шныряли головастики и лягушки. Здесь у нас был свой особый мир, с шалашами, с тайниками, с секретными лазами, сложные разветвления которых были мне так хорошо знакомы; удивительно, какими маленькими показались мне теперь эти карьеры. А тогда и хлеба в поле стояли такие высокие, что, пробираясь между колосьями, я будто шел через густой лес и видел только солнце, да небо, да жаворонков, рассыпающих трели, и еще васильки, маргаритки и маки. Я прокладывал дорогу наугад, дразня себя мыслью: а вдруг это поле никогда не кончится, и я буду так идти и идти часами. И в конце концов попаду в какую-нибудь неведомую страну – к индейцам или к неграм. Но я выходил на аллею, ведущую к замку, и видел ограду там, вдали, и фасад с серыми ставнями. Иногда, притаившись в какой-нибудь канавке, я с бьющимся сердцем, боясь быть обнаруженным, следил, как скачут мимо доезжачие со сворой собак. Я и сейчас еще помню огромных, дико ржущих лошадей, красные лица егерей и сверкающую на солнце медь охотничьих рогов.
За полями был еще один карьер, рядом с ним лесопилка, а дальше – заповедник, река и луга, далекие неведомые земли, страшноватые для малышей, но, подрастая, мы их тоже понемногу осваивали.
– Знаешь, я сегодня ходил в заповедник, – сообщал мне Фаран, который обожал копаться во всяком мусоре.
– Один?
– Ага, конечно. А ты как думал?! Нашел два колеса со ступицей.
Я слушал с восхищением и легкой завистью.
– А где же они?
– У меня дома. Я тебе их покажу. Буду делать тележку.
Именно он, когда нам было лет по десяти, приобщил меня к радостям и тайнам общественных свалок. Вот где был праздник – весь год напролет! Правда, этот рай слегка отдавал адом, так как из-под зловонных мусорных куч частенько выбивались языки огня от тлевшего снизу мусора. Временами пожарная команда заливала его, но мусор продолжал потихоньку тлеть, и, когда ветер дул с севера, эта сладковатая вонь перебивала стоящий над поселком запах паровозной и заводской гари. Кроме нас, там бродили грязные как черти старьевщики с черными руками, цыгане и собаки. Сколько счастья было, если нам удавалось опередить их! Мы притаскивали домой найденные сокровища, и надо признать, что Фаран, более опытный и, несомненно, наделенный более острым взглядом, всегда успевал раньше меня заметить и ухватить какую-нибудь особенно заманчивую рухлядь.
Дети богачей, торговцев, инженеров – одним словом, из «приличных семей» – никогда не играли ни в карьерах, ни в поле и, уж разумеется, не ходили на свалку. Впрочем, и девочки тоже – все без различия, и богатые и бедные, – играли только у себя в саду в куклы или помогали матери по хозяйству. Мы видели их, лишь выходя из школы или за оградами их домов, а еще в церкви – но об этом мне рассказывали те, кто отбывал эту повинность. Они являлись туда в воскресных платьицах, в белых носочках, и матери кричали им на улице: «Не бегай! Не прыгай! Осторожней, испачкаешься. Вот несчастье, до чего неаккуратная!» Разумеется, мы влюблялись – увы, на расстоянии! – и выражали свою любовь как умели: взглядами, подножками, дерганьем за косички, и, конечно, мы пачкали стены надписями вроде «Луи любит Сюзанну», увенчивая их сердцем, пронзенным стрелой, и повергая героя в смущение или в ярость. Иногда соперники в любви тузили друг друга, но драки быстро забывались: игры были важнее девчонок. Мы ловили головастиков старыми горшочками из-под сыра, иногда нам попадались саламандры – этих мы не трогали руками, так как существовало поверье, будто они ядовиты, а еще – что они не горят в огне. Их светлые брюшки с оранжевыми крапинками яркими пятнами мелькали в темной, мутной воде. В сумерках камышовые заросли оглашались лягушачьим кваканьем, влажный туман клубами вздымался над болотом. Мы невольно начинали говорить потише, какое-то смутное беспокойство сковывало нас. И мы возвращались нашими тайными тропками в поселок, унося с собой в консервных банках дневной улов. Мы быстро разбредались по улицам, я шел к дому вместе с Банье, мы были соседями.
Иногда он вдруг останавливался, прижимался спиной к стене и стоял, упрямо насупившись.
– Эй, пошли быстрее! Ты чего?
– Неохота домой, – отвечал он.
– Вот ненормальный! Ты что, всю ночь здесь собираешься торчать?
Глядя под ноги, он пожимал плечами:
– Иди давай, а то опоздаешь.
– А ты?
– Да ну!..
Но я тянул его за рукав, и он наконец сдавался. Мы расставались у его калитки. В глубине сада, за деревьями, светилось кухонное окошко, и, если в доме было тихо, он успокаивался. Тогда мы прощались, он быстро толкал калитку. Но иногда, остановившись у ограды, мы, одинаково смущенные, слушали хриплую брань и выкрики его отца и приглушенный голос матери, отвечавшей ему. Двери в доме с треском хлопали, а однажды раздался грохот разбиваемой посуды.
Я до сих пор помню, как Банье идет по дорожке к дому – маленький, щуплый, в черной рубашке, стянутой пояском, в носках, спускающихся на ботинки. Я знаю: иногда ему приходилось прятаться в саду и пережидать, пока буря в доме не утихнет.
С тяжелым сердцем я бежал по улице и входил в кухню: там было светло, тепло, стол накрыт, и отец спрашивал:
– Ну, полуночник, где ты пропадал?
– Мы играли в карьере.
– Вы прямо не вылезаете из этого карьера! Показывай, что принес сегодня?
Я предъявлял ему свои трофеи, и он с интересом разглядывал их.
– Да они у тебя тут задохнутся, – говорил он, – пойди-ка пересади их в лохань – и быстро за стол!
В хорошую погоду мы оставляли открытой дверь кухни, и тогда до нас доносились крики из соседнего дома.
– Какое несчастье! Бедная женщина! – вздыхала мать. – Это плохо кончится.
Я ел суп и думал о Банье, который, наверное, сидит сейчас за кустами смородины, а рядом с ним банка с головастиками и саламандрами.
Позже мы сменили территорию игр, отважившись продвинуться дальше, на поляну, что за портомойней, за пастбищем и заливными лугами. Мы шли туда по рыбацким тропинкам, вдоль стариц под тополями. Голоса прачек и стук вальков постепенно затихали. Белые и рыжие коровы шумно дышали за оградой лугов. Здесь нас окружал зеленоватый свет, запах мокрой листвы и воды.
Я и правда очень любил нашу реку, тихо несущую свои глубокие, темные воды под сенью ив и тополей. Она возникала внезапно: вдруг из зарослей ирисов и мальв выныривало ее длинное блестящее тело – река напоминала огромную великолепную змею, и мы смутно чувствовали в ней опасность. С тихим причмокиваньем лизала она низкие берега, и ее холодный поток теребил и раздергивал зеленые косы ив. Порой по ней проплывали растрепанные травяные островки с крохотными белыми цветочками и стрекозами. Я вспоминаю приветливые старицы, по которым мы шлепали босиком, островок с заброшенной хижиной, плот из бидонов и досок, который мы проталкивали по протокам сквозь камыши с помощью длинного шеста, распугивая нырков и зимородков. По весне над лугами стоял густой запах сена.
Позднее, в пятнадцать-шестнадцать лет, я тоже наведывался сюда, но я был уже не тот: я вступил в период душевного смятения и меланхолии. Привалившись спиной к стене лачуги, я читал книги. У меня не было ни озера, ни Комбурга, как у Шатобриана, ни пастушьей хижины, но была река, слабое подрагивание листьев и рябь на воде – они питали мою юношескую тоску. Я воображал, что живу здесь, вдали от всех, в этой скромной лачуге, как монах, пишу стихи, разговариваю с птицами, или еще так: в один прекрасный день на берегу появляется заблудившаяся юная девушка с цветами в руках. Время индейцев и негров миновало, но страсть к мечтам не иссякла во мне. Тогда-то, мне кажется, душа моя и замерла в долгом ожидании, которое все еще длится. С книгой под мышкой, мрачный, я шел обратно домой по проселочной дороге. Я неохотно возвращался к людям. От портомойни по улочке поднимались в поселок все те же старухи в серых фартуках, толкая перед собой тачки, нагруженные выстиранным бельем.
Я сижу допоздна, вновь обретая привычное течение моих отроческих вечеров. Вот мать запирает калитку и вешает ключ на гвоздь под почтовым ящиком. Вот она проходит по двору, в доме хлопают двери: одна, потом другая, и по наступившей тишине я догадываюсь, что она наконец легла спать. По всей нашей улице в окнах погас свет, одно только мое окно упорно продолжает светиться, и я вспоминаю все те ночные города, по которым ходил пешком, и то, как всегда зачаровывали меня эти редкие, одиноко горящие во тьме огни, выдавая тех, кто бодрствует, когда весь мир уснул. Иногда я подолгу стоял под такими окнами, тщетно пытаясь разгадать тайну мужчины или женщины, заставлявшую их не спать среди этого пустынного сонного царства. Мне казалось, что только они могут вдохнуть в мою душу любовь, меня тянуло к ним, к их ночному бдению, они словно стояли на страже в своей невидимой башне. Ибо, кроме этого светлого прямоугольника, я ничего не мог различить, и мне оставалось лишь гадать, что побуждало их держаться вот так особняком. Часто я думал: может быть, там читают или пишут книгу, ведь книга способна целиком захватить нас, вырвать из привычного круга бытия. Лачуга стрелочника, мелькавшая на перегоне между Монтаржи и Морэ, была лишь одним из вариантов этой неисчерпаемой темы. Я чувствовал: все мы принадлежим к одному тайному сообществу, где каждый, однако, безнадежно одинок и, встретившись, мы не признаем друг друга.








