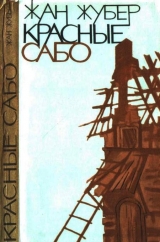
Текст книги "Красные сабо"
Автор книги: Жан Жубер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Пошли сходим к Алисе, а потом я покажу вам цеха.
Вот тут-то я и узнал по-настоящему, что такое завод, о котором без конца все вокруг меня говорили, а я слушал со смутной боязнью. В тот день машины, конечно, не работали, рабочие гурьбой стояли, смеясь и болтая, возле длиннющих столов, где были навалены кучи шин, резиновых сапог и прочие начатые и незаконченные изделия. Но нетрудно было себе представить грохот машин, суету, жару и удушливую вонь резины и бензола, наверное вовсе невыносимую, когда включали конвейер. И вот в этих зловещих помещениях, которые своими перекрытиями и грязными стеклами напоминали чердак, люди проводили половину жизни! Я содрогнулся от этой мысли, и страх мой перед заводом впервые обрел четкие очертания. Я глядел на моего отца, на тетю Алису и удивлялся: как они еще могут улыбаться?
Вечером я с тоской спросил у матери, придется ли и мне, когда я вырасту, тоже работать на заводе.
– Не знаю, – ответила она. – Если ты будешь по-прежнему хорошо учиться, то, верно, сможешь стать учителем. Тебе хотелось бы учить детей?
Я сказал: да, конечно, хотелось бы, и почувствовал облегчение от того, что у меня все-таки есть какой-то шанс избежать общей участи. Я буду очень стараться, очень прилежно учиться, я стану ученым! И я принялся с удвоенным усердием листать свой «Ларусс».
К середине июня работа на заводе возобновилась, снова по утрам запели сирены. Повсюду говорили об оплачиваемых отпусках, о сорокачасовой рабочей неделе и увеличении заработной платы.
– На этот раз наша взяла, – объявил отец, едва переступив порог дома. – Не зря мы десять дней провалялись там на голых досках!
Вечера стояли теплые, жабы заводили в саду свои гортанные трели, из карьеров доносился неумолчный хор лягушек. Мы ужинали в беседке, под сенью дикого винограда, и обсуждали вопрос о поездке на отдых в Бретань, на берег океана. Сперва должны были уехать мы с матерью, а отец обещал присоединиться к нам попозже, когда завод закроется и рабочим предоставят отпуска. Незаметно темнело. Поужинав, я выходил в сад поиграть с кошкой и краем уха прислушивался к тихим голосам в беседке; когда отец зажигал сигарету, его лицо на миг внезапно освещалось, выступая из тьмы, потом вновь тонуло в ней, и только маленький тлеющий огонек чуть двигался в листве.
Четырнадцатое июля прошло великолепно. Люди танцевали на площадях и улицах два дня и две ночи, и в праздничных фейерверках преобладал красный цвет. Потом начались отпуска: люди разъезжались на поездах, на велосипедах и тандемах. Некоторые отправлялись в деревни, откуда их родители приехали на завод сорок лет тому назад, другие решили посмотреть невиданное ими прежде море. В газетах много писали о каком-то испанском генерале, который поднял мятеж и угрожал Республике, но в опьянении этого прекрасного лета никто, за исключением нескольких дальновидных политиков, не обратил на это серьезного внимания.
Поезд дрогнул и тронулся с пронзительным свистом, выпустив облака пара. Стоя рядом с матерью, прижавшись носом к стеклу, я смотрел на отца, который шел по перрону, стараясь не отставать от нашего вагона, махал рукой и кричал:
– Чемодан в багажном отделении! Я проверил, все в порядке. Как только приедете, надо будет получить его!
– Да-да! – отвечала мать, нагнувшись к окну и держа в руке шляпку.
– Ключи у тебя с собой?
Она порылась в сумочке и показала ему связку ключей:
– Да, вот они.
– Ну хорошо. Ты мне напишешь?
– Да, сразу же как приедем.
Отец ускорил шаг, теперь он почти бежал, так как поезд набирал скорость, но вот перрон кончился, и он остановился, махая рукой.
– Пошли папе воздушный поцелуй, – сказала мне мать.
Я прижал пальцы к губам и встал на цыпочки, но тут густое облако пара скрыло от меня неподвижную фигуру отца. Потом поезд стал заворачивать. Под свистки паровоза мы въехали в лес.
– Садись вон туда, там удобнее. Тебе не холодно? Ты доволен, что мы едем отдыхать?
Я отвечал «да», но без особой убежденности, конечно, возможность впервые увидеть океан и провести целых две недели вдвоем с матерью соблазняла меня, но самый наш отъезд поверг меня в какое-то тоскливое беспокойство. Понадобились несколько часов пути и смена пейзажей, чтобы эта тревога наконец покинула меня. Мать, видимо, почувствовала мое смятение, потому что усиленно старалась развлечь меня.
– Смотри-смотри, вон Луара! – Или – Вон красивая церковь, овцы, замок, баржа.
– Есть хочешь? – спросила она.
– Нет.
– Поешь все-таки, мы ведь приедем поздно.
Она развернула пакет и дала мне бутерброд, я нехотя откусил от него.
– Там прекрасный воздух, он пойдет тебе на пользу!
Дело в том, что доктор Шаторено заявил матери, что я слабенький и что укрепить мое здоровье могут только йод и морские купания.
Весь день мы маялись от жары, шума, запахов дыма и сажи. Наконец я услышал:
– Ну, смотри! Вот оно, море!
Меня обожгло волнение, я кинулся к окну и за рядами деревьев увидел бледно-голубой залив с белыми чайками и парусами.
– Мы уже приехали?
– Нет еще. Через несколько минут.
– А там порт есть, как ты думаешь?
– Думаю, есть.
– А мы пойдем к морю сегодня вечером?
– Сегодня уже поздно. Завтра.
– Нет! Нет! Сегодня!
– Ладно, посмотрим.
Поезд приближался к берегу, и вот уже сквозь душное дыхание паровоза повеяло новым, влажным запахом водорослей и тины.
В семейном альбоме нет недостатка в фотографиях, относящихся к нашему пребыванию у моря. Пансион «Парковый» в Порнике находился довольно далеко от пляжа, так как наши скромные средства не позволяли нам поселиться на самом берегу моря. На снимке видны дверь и смежное с ней окно нашей комнаты, выходящие в реденький самшитовый парк. Я сижу по-турецки на подоконнике, а моя мать позирует фотографу, сидя под окном на ступеньках крыльца. У нее короткие пышные и вьющиеся волосы, она в полосатом пляжном костюме с голой спиной. А вот и другие фотографии: скалы, подточенные волнами, казино, порт, пляж с натянутым на сваи канатом, за который держатся купальщики, чтобы их не унес прибой. А вот я стою рядом с отцом, который приехал к нам через несколько дней. Он красуется в новеньком черном купальнике на бретельках, а я держу в руке сачок для креветок. За нами лежит песчаная отмель, во время отлива здесь остались лужи и жгуты водорослей. А на этом снимке я гримасничаю, сидя на ослике и вцепившись ему в гриву.
От этих каникул у меня осталось двойственное впечатление. Помнится мне, что часто шли дожди, погода хмурилась, высокие гребни вздымались вдали на поверхности моря. Нам ничего не оставалось, как сидеть в комнате, читать или глядеть сквозь мокрое стекло на дождливый пейзаж. В столовой мы занимали маленький столик у окна. Я усаживался спиной ко всем пансионерам с их противно-приторными разговорами, я сердился на мать, которая, будучи от природы общительной, на мой взгляд, слишком часто принимала в них участие. Погода, пробежавшая собака, поданное блюдо – все служило предметом обсуждения. Когда речь заходила обо мне и слышалось: «Какой большой мальчик, сколько же тебе лет?» – я готов был сквозь землю провалиться. Упрямо стиснув зубы, я мрачно молчал, чтобы пресечь эти заигрывания.
– Ну и дикарь же ты! – упрекала меня мать.
На что я возражал:
– Они все такие противные!
Дикарь… да, я был настоящим дикарем и унаследовал это качество от отцовской семьи – этих солонских крестьян, ремесленников или браконьеров, молчунов, забившихся в свои лачуги. «Здравствуйте. До свиданья. Хорошая погода» – вот и все разговоры. Языки развязывались только в семье, в кругу родни, да и то по большим праздникам. А в остальном – упорное, недоверчивое молчание. Позднее, уже взрослым, я наблюдал, как они разыгрывают дурачков перед приезжими парижанами, только приглядевшись, можно было уловить хитринку, затаившуюся в уголках их глаз.
Да, я был настоящим дикарем, даже на пляже, где большей частью играл один, строя из песка города, крепости, мосты и башни. Новое увлечение захватило меня: я буду архитектором. Но в порту, куда мы ходили смотреть на возвращавшиеся после ловли шаланды, я уже хотел быть моряком: рыбаком-матросом, а вовсе не корсаром и не мореплавателем. Как видите, иногда я был довольно скромен в своих мечтах.
В тридцать шестом году на пляжах полно было мужчин в подтяжках и каскетках и бледных, незагоревших женщин, которые никогда не видели моря и, стоя на берегу, с визгом подбирали юбки, спасаясь от набегавшей волны. Из ресторана доносился запах жареной рыбы. Однажды вечером над бухтой взлетел фейерверк, каждому взрыву ракет вторили крики, охи и ахи зрителей. От искры загорелась куртка пиротехника, он бросился в воду под шум и гам собравшихся. Минуту спустя он вынырнул мокрый, но невредимый.
Моя мать часто рассказывала мне – и я охотно верю ей, – что я всегда заводил себе друзей чуть ли не накануне отъезда среди мальчиков и девочек, одетых как и я, в полосатые купальники и полотняные панамки, неутомимо копавшихся в песке или плескавшихся в «лягушатнике». После дней, проведенных в полном одиночестве, для меня вдруг наступало время страстных привязанностей, тем более горячих, что близился отъезд. С превеликим трудом меня извлекали с пляжа, обещая вернуться после обеда на мыс, где мы сможем играть даже в темноте. Тучи мошкары вились вокруг фонарей, из казино доносились звуки вальса и смех. Мы взапуски бегали по темному пляжу, где-то близко рокотали невидимые волны. Нам казалось, будто мы знакомы всю жизнь, но подходило время разлуки, и я уезжал, тоскуя по потерянным друзьям и еще долго изнывая от новой, не изведанной раньше печали.
И доныне именно это чувство пробуждают во мне простые слова «семейный пансион», или же почтовая открытка с видом скромного морского курорта, или ребенок на пляже, копающий песок, с лопаткой и ведерком. Точно так же праздник 14 июля с его фейерверками одновременно чарует и печалит меня: надо бы веселиться и ликовать, а мне что-то мешает. Здесь, в Лангедоке, есть один домик, окруженный небольшим садом, и, сколько бы раз я ни проходил мимо него, меня всегда охватывала острая грусть. И однако, ничего мрачного в нем нет: обычная решетчатая ограда, аллея с подстриженными самшитовыми кустами, несколько деревьев, цветники, и за розовыми кустами фасад. Но стоит мне взглянуть на него, и сердце мое сжимается. Я долго доискивался и не мог понять истоков этого волнения, пока однажды меня вдруг не озарило: это сходство с тем пансионом, где я отдыхал в детстве и который даже не совсем ясно помню. Кажется, вот-вот на крыльцо выйдет моя мать: молодая, красивая, в легком летнем платьице и в соломенной шляпке на коротко подстриженных кудрях.
Эти картины морского побережья тайно тревожат меня до сих пор. И я чувствую: они навсегда врезались в мою душу.
А еще мы летом ходили в лес. Это было до войны, в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, тогда стояла прекрасная, очень жаркая погода, и вообще мне кажется, что в то время мы были счастливы. Конечно, в газетах много писали о гражданской войне в Испании, то и дело на страницах мелькали слова «Теруэль, Мадрид, Гвадалахара»; чувствовалось, что дело начинает принимать скверный оборот для республиканцев, еще хуже было положение в Германии и в Италии, но вначале, я думаю, никому просто не хотелось воспринимать все это слишком трагически. И вот по воскресеньям мы отправлялись всей семьей в лес, кто на велосипеде, кто пешком, даже Мина шагала рядом с отцом, который толкал перед собой тачку. Мы уславливались встретиться возле «Четырех камней», и дети, в том числе и я, мчались вперед на велосипедах, изображая гонки. Взрослые кричали вслед: «Смотрите поосторожнее на парижском шоссе! Останавливайтесь перед шлагбаумом!» Потные и запыхавшиеся, мы подъезжали к будке стрелочника и там делали минутную передышку, так как на этом полустанке шлагбаум всегда был опущен. Нужно было толкнуть турникет и посмотреть направо и налево, потому что здесь проходила четырехколейка, и поезд мог появиться с любой стороны. Иногда мимо нас с грохотом и воем мчался «скорый» на Клермон или Марсель; я читал названия городов на вагонах, и мы махали пассажирам, глядящим в окна. Перебравшись через железную дорогу, мы ныряли в прохладу и аромат лесной листвы.
Это самое прекрасное воспоминание, которое я сохранил о нашем лесе, если не считать воспоминаний об осени и грибах. Позже, подростком, я буду приходить сюда, уже одинокий и печальный, но в те времена я еще любил наши семейные сборища, шутки и общий смех. Мы завтракали на полянке, усевшись прямо на мох, а потом я играл с Сильвией и с кузинами Полеттой и Иветтой, которые были старше меня, хотя их и продолжали по привычке называть «малышками». Мы лазили на деревья, сооружали шалаши из папоротника. Потом все собирали в большие мешки шишки – дома ими растапливали плиту. На обратном пути мой отец и дядя Эжен поочередно везли тачку. С высокого берега мы видели в низине деревенские крыши и дымки над ними, а вдали, на холме, замок Монтаржи. Солнце клонилось к горизонту, и я помню это розовато-лиловое небо, все в длинных жгутах облаков, гонимых ветром. Иногда тучами вилась мошкара, а иногда ласточки низко пролетали над землей, и мы знали: завтра пойдет дождь.
Жорж и Жермена не участвовали в общих лесных прогулках, хотя иногда приходили к нам пообедать и сыграть в карты во дворике под сливой. Дядя, который всегда жил бедняком, когда сам вырезал сабо, теперь, занявшись торговлей обувью, подкопил денег и купил машину. Автомобиль в те времена ставил своего владельца ступенью выше остальных. Мне кажется, и в нашей семье на дядю уже смотрели как на человека, занявшего более высокое положение. Меня он иногда брал с собой в поездки; таким-то образом я и открыл для себя деревни, где он жил раньше: Шюэль, Шантекок, Куртене, Сен-Жермен-де-Пре, и вовсе безвестные, затерянные среди лесов и полей глухие уголки, пропахшие навозом. Он заходил в дома, где побывал когда-то, беседовал с людьми и уж обязательно наведывался в местную мастерскую, где выделывали сабо. В большинстве случаев оказывалось, что он знаком с хозяином, но даже если это было не так, дружба завязывалась мгновенно, поскольку Жорж был необыкновенно общителен, весел и за словом в карман не лез. Случалось, вначале собеседник поглядывал на него немножко косо, но скоро ему становилось ясно, что дядя – настоящий мастер своего дела, и атмосфера становилась дружеской. Дядя с пониманием рассуждал о заготовках дерева, об инструменте, о сбыте. Хозяин лез в шкаф за бутылкой и стаканами, но дядя отказывался: он только хотел поговорить, повспоминать!
– Нет-нет, спасибо. Стакан воды, если можно. Разрешите взглянуть на вашу работу?
– Почему бы и нет?
Мы шли в маленькую запыленную мастерскую, где пахло березой и лаком.
– Ага, вот эти сабо? – Он брал их, взвешивал в руке, подносил поближе к свету, поглаживал, проводя пальцами по всем изгибам. – Хороши! – говорил он. – Крепкие и удобные. Добрая работа!
В других случаях он помалкивал, предоставляя говорить хозяину, сам же не делал замечаний, так как не любил обижать людей. Но позже, в машине, он ворчал:
– Видал? Прямо не сабо, а баржи! Только дерево зря испортил. Да… переводятся хорошие мастера!
О своем ремесле он всегда судил непререкаемо строго.
А иногда мы ездили с ним в гости к Временам, фермерам, с которыми он свел знакомство, когда работал в Шаторенаре. Они жили на маленькой ферме, затерянной среди рощиц, полей и пастбищ, в десятках километров от деревни. Правда, по другую сторону проселочной дороги стояла еще одна ферма, но хозяева обоих домов годами жили бок о бок, не разговаривая друг с другом. Каждый ограничивался тем, что подглядывал за соседом в приоткрытые двери хлева – ни один шаг не ускользал от жадного внимания наблюдавшего, а чего не удавалось увидеть, то додумывалось. Послушать Габриэль, оглушительно кричавшую через всю кухню, словно мы находились в поле, за сотню метров от нее, так выходило, будто их соседи – просто дикари, голодранцы и бездельники, даже землю возделывать не умеют, она вся у них заросла репейником, и за коровами плохо ухаживают, и пока «сам» в поле тащится за плугом, его жена, эта «тумба», дает себе волю и развлекается с кем попало – с врачом, с бакалейщиком, с почтальоном. Я не совсем понимал эти разговоры, но то, что я улавливал, как-то смущало меня, и я старался поскорей улизнуть во двор, к коровам и прочей живности, предоставляя сплетни взрослым.
У Бремонов было две дочери, крепкие, довольно миловидные и тоже весьма голосистые. Младшая, моя ровесница, чаще всего дразнила и щипала меня, называя простофилей, но иногда, если у нее было хорошее настроение, показывала мне крольчих с крольчатами, быка, свирепо фыркающего в загоне, или борова, похрюкивающего за своей перегородкой. Повсюду в ноздри ударяли крепкие запахи фермы. Девочка рассказывала мне о животных всякие «стыдные» вещи, потом вдруг неожиданно швыряла мне в лицо горсть соломы. Ее старшая сестра учила меня доить коров, уговаривала: «Ну иди, не бойся!», а однажды во время дойки посадила меня к себе на колени. Я не забыл колыхание ее загорелых грудей под кофточкой, нежное тепло коровьего вымени под пальцами, запах молока.
Мы возвращались на кухню, где Бремоны все еще судачили с дядей; на стол выкладывали хлеб, сыр, открывали бутылку сидра: не каждый день к ним заглядывали гости, и приезд дяди был для них настоящим праздником. Частенько между хозяевами и гостем разгорались споры: Бремон сочувствовал коммунистам, а Жорж в то время как раз начал от них отходить.
– А судебные процессы, что ты о них скажешь? – спрашивал он Бремона.
Но тот упрямо и хитро мотал головой и кричал, стуча ручкой ножа по столу:
– Да плевать я хотел на судебные процессы! Я другое знаю: они нас, мелких крестьян, защищают, только они одни и стоят за нас.
Улучив минутку, когда они умолкали, Габриэль вставляла свое словечко:
– А разве нельзя каждому думать по-своему…
Но муж тут же прерывал ее стуком ножа по столу:
– Помолчи, женщина! Иди займись своими коровами!
Она понижала голос, продолжая ворчать, что коровам ничего не сделается, могут и обождать, да и дочки там с ними.
Они выпивали по последнему стакану – хозяин пил сидр, а Жорж чистую воду – и расставались добрыми друзьями. На прощанье Габриэль подтрунивала над дядей:
– Ай да машина! А ты неплохо устроился. Прямо миллионером выглядишь, ей-богу!
– Миллионером! Ты уж скажешь!
– Смотри, совсем обуржуазишься!
– Иди к черту! – кричал дядя.
И все хохотали.
Мы ехали обратно по узким дорожкам, обсаженным яблонями. Близился вечер, стада возвращались с пастбищ, и шоссе было усеяно свежими коровьими лепешками. Пастухи неторопливо отгоняли коров к обочинам, и те, тараща глаза, изумленно смотрели на проходящую машину.
– Ну и женщина! – восклицал дядя. – Слыхал, как высказывается, вот уж бой-баба!
Он медленно ехал, выставив в окно локоть, и рассказывал, как он научился водить машину сразу после войны, когда попытался работать коммивояжером. Он разъезжал от деревни к деревне на маленьком авто своего хозяина, на «зебре», но это продолжалось недолго, ему пришлось вернуться к своему ремеслу сапожника.
Ему было безразлично, на какой машине ездить, мне кажется даже, что эта машина с передними ведущими колесами его несколько стесняла. Втайне он, вероятно, предпочитал «зебру», о которой рассказывал мне как о своей старой доброй знакомой; даже напасти, связанные с нею: лопнувшая шина, протекающий карбюратор, капризный радиатор, тугая заводная ручка – и те умиляли его. К машине он относился как к живому существу: ее нужно было любить, ласкать, чистить, здесь закрепить проволочкой, там подклеить изоляционной лентой. Ничего общего с новым автомобилем, у которого он ни разу так и не поднял капот. Я сильно подозревал, что он и купил-то его не для себя, а для дочери, желая хоть так побаловать ее и отвлечь от мрачных мыслей. Впрочем, с той же целью он позже приобрел дом в Клозье. Сам он прекрасно прожил бы в одной каморке рядом с мастерской и охотно передвигался бы пешком. «Это женщины делают из нас цивилизованных людей», – говорил он, и по тому, как он произносил «цивилизованных», в его шутливом тоне чувствовалась ирония.
Что касается Жаклины, то она использовала автомобиль на все сто процентов. Целыми днями гоняла она по дорогам, пропадая неизвестно где, и возвращалась лишь к вечеру в серой от пыли машине. Она выходила из нее «с шиком», показывая колени, как это делали кинозвезды. По моему мнению, она резко отличалась от всех остальных женщин нашей семьи: туалеты по последней парижской моде, экстравагантные шляпки и эта манера уснащать свою речь ругательными и жаргонными словечками. Она любила в комедийном тоне рассказывать о своих многочисленных «романах»: как ее коллега-учитель, или фермер из Мельруа, или музыкант предлагали ей руку и сердце. Мы даже однажды увидели этого музыканта: придя к нам, он сыграл несколько вещей на аккордеоне в увитой виноградом беседке. Уж не помню, был ли он пианистом или скрипачом, но он явно преуспел больше остальных ее воздыхателей. Тем не менее его выпроводили так же мило, как и всех прочих. Я вспоминаю, как сердился на Жаклину за ее насмешки над чувствами, которые она внушала молодым людям, и за то, что она рассказывала о них направо и налево, особенно жалел я аккордеониста, чья музыка надолго пленила меня, да и вообще он мне показался довольно привлекательным. Дома у нас говорили: «Ну и характер у нее! Если так пойдет дальше, она останется старой девой!», а я думал: наверное, у нее есть мечта, идеал; наверное, она ждет неведомо кого, какого-нибудь знаменитого артиста или художника, который похитит ее и увезет в Париж.
На самом же деле все это была одна видимость; лишь позже мы разгадали тайну, которая в ту пору была известна только ее матери.
Приступы жизнерадостности, почти исступленного веселья перемежались у нее с черными днями. Тогда ставни ее комнаты наглухо затворялись, Жаклина спускалась вниз, только чтобы поесть, и Жорж говорил шепотом: «Опять у Жаклины тоска!», как будто речь шла о какой-то неизлечимой болезни. В такие дни она жила затворницей, избегала людей или же появлялась только на минутку, к вечеру, с глазами, опухшими от слез. Однажды, проходя мимо ее двери, я услышал рыдания. Черная тоска!.. Мне чудились черные насекомые, которых я видел иногда у нас в погребе, и меня преследовало наваждение: вот они ползут вверх, по стенам, кишат вокруг ее кровати и подбираются к подушке…
В ужасе я убегал к дяде в мастерскую.
– Ну, как там, наверху? – спрашивал он.
– У Жаклины все еще тоска.
– Н-да, плохо дело… ну да ничего, пройдет.
Я думаю, он мало-помалу привык к этим приступам и почти не придавал им значения.
– А ну-ка давай, садись! У тебя ведь времени полно?
– Да, я уже кончил уроки.
Он усаживался напротив меня и медленно сворачивал сигарету. Меня всегда удивляло, как неловко он это проделывал, он, который так умело управлялся с сапожным инструментом. Я говорил:
– Некрасивая получилась.
– Ба, ничего страшного, и так сойдет! Ну, кем ты будешь после школы? А в школе-то хорошо успеваешь?
Он доставал из печки уголек, прикуривал от него и ладонью смахивал наземь искры, сыпавшиеся ему на колени. Заходил какой-нибудь крестьянин, спрашивал сабо, и дядя говорил:
– Погодите, сейчас подберем вам парочку покрепче. Вы не торопитесь? Нет? Ну ладно, присядьте-ка, передохните немного.
Он придвигал стул, беседовал о погоде, о том о сем и, как всегда, незаметно сводил разговор к политике.
Наконец приходило время, и ставни распахивались, и я знал: Жаклине полегчало. Она кричала мне с верхней площадки лестницы:
– А, это ты? Поднимайся сюда!
И я вновь оказывался в комнате, заставленной книгами, с маской Бетховена, репродукцией «Потопа» и сладким запахом духов, веявшим от одежды. Часто я заставал ее на кровати, она полулежала, подсунув под голову подушечки, и при моем появлении опускала на грудь книгу, которую читала. В то время она была без ума от Ницше – я же ничего не знал о нем, кроме имени, прочитанного на обложке, помню, как оно удивило меня.
– Кто это такой – Ницше?
– Один философ. Потрясающий! Но ты еще слишком мал. Ты прочтешь его позже…
Позже я часто спрашивал себя, как ей удавалось примирять любовь к Ницше с идеями социализма и пацифизма, которые она также исповедовала в то время.
Здесь же, в этой комнате, Жаклина однажды спросила меня:
– Кем ты собираешься стать?
Мне пришлось ответить: моряком, земледельцем или лесничим. Она рассмеялась, потом очень серьезно объяснила мне, что я ведь хорошо учусь и скоро поступлю в коллеж, а значит, должен метить выше.
– Метить выше?
Что же могло быть выше, чем плавать по морям или жить в одиночестве среди лесов?!
– Ну, ты сможешь стать учителем.
И она поведала мне, как настрадалась от того, что не могла учиться в университете из-за бедности родителей, а главное, из-за тяжелой болезни, приковавшей ее к постели на долгие месяцы, – вот и приходилось ей теперь работать учительницей начальной школы в каком-то жалком захолустье. Ах, если бы она могла преподавать в лицее, какая была бы жизнь! Как прекрасно, грезила она вслух, жить среди интеллигентных, умных коллег, которые много читают, путешествуют, слушают музыку, с которыми можно вести интересные разговоры!
Но я вдруг упрямо возразил ей: нет, все равно мне больше нравятся море и лес.
– Это совсем другое дело. А потом, ты ведь мог бы также писать книги.
– Писать… книги?
– Ну конечно! А почему бы и нет?
Эти слова меня по-настоящему поразили. Я еще только начинал учиться ценить книги, а те, кто их писал, казались мне существами иной породы, и мне так же трудно было представить себя пишущим книгу, как, скажем, охотящимся на оленя вместе с графом де Грамоном. Нет, я не был рожден для столь возвышенной участи, хорошо хоть, если мне удастся спастись от работы на заводе. В остальном же будущее было пока что скрыто в тумане, и, уж конечно, я не видел себя писателем. Так что когда позже я начал сочинять стихи, то записывал их в блокнот, который тщательнейшим образом скрывал ото всех, и мне понадобилось еще целых пятнадцать лет, чтобы осмелиться подумать о публикации книги, да и то я не питал особых иллюзий на свой счет и с трудом отважился на это. Из поколения в поколение в наши жилы вместе с кровью предков переливалось смирение, и если кто-то из нас и мечтал возвыситься, то разве что в иерархии слуг. Но стать художником, писателем!.. Я долгое время не мог избавиться от ощущения, будто я самозванец, обманщик, – боюсь, это чувство до сей поры не исчезло окончательно. Я причисляю себя к когорте признанных писателей не более, чем, скажем, к клану крупной буржуазии, представители которой более или менее тактично, но всегда успешно устанавливают между собой и мной определенную дистанцию, которую, впрочем, я и сам стараюсь сохранять. Что касается простого люда, то я давно уже чувствую, что и тут потерял свое место. Так вот я и плыву по воле волн, лишившись своих корней и нигде не находя себе пристанища.
А в тот день слова Жаклины бесконечно удивили меня, и я возразил:
– Но ведь у нас никто никогда не писал книг!
– Ну так тем более, ты и начнешь! Слушай, ты иногда таким дурачком бываешь!
Я обиделся и замкнулся в молчании. Но, может быть, именно в тот день заронилось в мою душу зерно, которое медленно, но упорно стало прорастать.
А еще я долгое время не мог набраться храбрости, чтобы войти в книжный магазин. Сперва я подолгу торчал перед витриной, разглядывая книги: я читал имена писателей, названия, а иногда, если книгу выставляли раскрытой, чтобы показать иллюстрацию, мне удавалось, приклеившись лбом к стеклу, прочесть целую страницу, которая часто обрывалась на середине фразы. Вглядываясь в глубину магазина, я видел там хорошо одетых мужчин и женщин: учителей, нотариусов, врачей, а может быть, и тех таинственных инженеров, о которых изредка упоминал мой отец, – они либо беседовали с продавцом, либо листали книги. За исключением Жоржа и Жермены, члены нашей семьи никогда не переступали порога этого магазина, если же моей матери и случалось зайти туда, чтобы купить мне книгу в подарок, она стесненно и робко открывала эту дверь. Как и я, она боялась быть не на высоте положения и показаться продавцу – если он вдруг вздумает заговорить с ней – смешной и неотесанной. И когда я встречался взглядом с продавцом, пожилым и внешне вполне доброжелательным человеком, я быстро отводил глаза и отходил от витрины, будто был в чем-то виноват.
На самом деле у нас было две книжные лавки, и, когда я поступил в шестой класс коллежа, я начал ходить в одну из них, где продавались главным образом канцелярские товары и школьные учебники, – вот этот-то магазинчик и послужил мне преддверием рая. После долгих колебаний я осмелился перейти из него в тот, другой. К счастью, в первый раз меня никто ни о чем не спросил. Если бы мне задали какой-нибудь вопрос, я, наверное, пролепетел бы, что ошибся дверью или что-нибудь в этом же роде. Но никто как будто не обратил на меня внимания, и вот я смог наконец подойти к книжным полкам, разглядеть, где стоит та или иная книга, которую я куплю, как только у меня заведутся деньги. Лишь несколько недель спустя я осмелился достать с полки и полистать книгу, как это делали те господа, которых я видел с улицы. Еще чуть позже я отважился прочитывать целые главу из романов, которые брал с полок там, где оставил их несколько дней назад. Но иногда книга исчезала, и мне так и не удавалось узнать конец.
Продавец терпел меня; впрочем, иногда, кроме тетрадей и других школьных мелочей, я покупал у него кое-какие книги, то ли устыдясь своего чтения украдкой, то ли торопясь спокойно дочитать книгу у себя дома. В этом-то магазине я и обнаружил антологию поэтов-символистов, первый том сочинений Верлена и сборник Франсуа Порше, который привел меня в восторг. Как я теперь вспоминаю, он был полон меланхолических и сентиментальных стихов, наверняка бесцветных и вялых, но полностью перекликавшихся с моими тогдашними мечтаниями. Тщетно я ищу эту книгу на полках своей комнаты, ее там нет. А жаль, хотелось бы мне сорок лет спустя перечитать эти стихи, которые я начисто забыл, помню лишь, как очарован был ими когда-то.
Но зато я обнаружил тут книги, принадлежащие моей матери, – Жорж Санд, Гюго, Ламартина, Поля и Виктора Маргерит, десятитомник «Жана-Кристофа» и другие книги, купленные когда-то мной самим, с моим именем и датой на титульном листе. Я изучаю, рассматриваю их, вновь узнаю их запах, иллюстрации, а вот знакомое пятно на обложке. Не выпуская книжку из рук, я сажусь, скрестив ноги по-турецки, на пол. Да, волшебство не умерло, и я опять поддаюсь ему.








