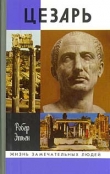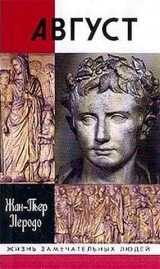
Текст книги "Август"
Автор книги: Жан-Пьер Неродо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Политический агитатор
Летом события ускорили свой ход, и многое прояснилось. Убийцам Цезаря стало ясно, что в Италии их затея потерпела полный провал, и в августе Брут отплыл в Грецию. В октябре к нему присоединился и Кассий. 1 августа Антоний объявил обоим войну, так что они активно готовились к схватке. Между тем сам Антоний вел себя все более вызывающе и вскоре потребовал себе в управление Цизальпинскую Галлию – провинцию, которую Цезарь отдал Дециму Бруту. Это был типичный casus belli – формальный предлог к войне. Сенат продемонстрировал свое отношение к происходящему 2 сентября, когда Цицерон выступил с первой из своих «Филиппик».
Чтобы занять свое место среди участников начавшего формироваться сложного политического процесса, Цезарю Октавиану потребовалась вся его ловкость. Сенаторы уже восстали против тирании Антония, который продолжал – или верил, что продолжает, – политику Цезаря и стремился привлечь на свою сторону как можно большее число легионов. В этой ситуации у Цезаря Октавиана, наследника того самого Цезаря, чьи деяния из-за поведения Антония перед многими представали в нежелательном свете, оставался единственный выход – попытаться снискать к себе расположение сенаторов, одновременно наращивая собственную военную мощь. Ради последнего он и отправился в Кампанию, где вербовал ветеранов и, не жалея средств, старался переманить к себе верные Антонию легионы. Как только он почувствовал за собой достаточную силу, он немедленно перешел к выполнению второго пункта своей программы, что потребовало от него и изворотливости, и жесткости.
10 ноября во главе вооруженного отряда он занял римский Форум [46]46
Форум – главная площадь Рима, где проходили народные собрания и была сосредоточена вся политическая жизнь. – Прим. ред.
[Закрыть]. Он надеялся, что сенат, собравшись на заседание, выразит ему поддержку. Однако никто из сенаторов здесь так и не появился. Тогда он выступил перед народным собранием с горячей речью, которую завершил торжественной клятвой отстоять политическое наследство своего отца [47]47
Цицерон. Письма к Аттику, XVI, 15.
[Закрыть]. О том, каким его увидела толпа изумленных сограждан, дает представление статуя в Прима Порта. Стройный мускулистый юноша, приподнявшийся на носки, чтобы казаться выше, с высоко поднятым лицом, с воздетой кверху правой рукой, – он был прекрасен, как, должно быть, были прекрасны сами боги. В то же время его бледность и худоба, неряшливый вид его небритых щек, мрачный взгляд, прикованный к звезде, венчающей голову изваяния, воспринимались как символ мести. Нет, он не ломал перед окружающими комедию; он выступил в трагической роли сына убитого отца.
Чем обернулась для него эта дерзкая выходка – полупобедой или полупоражением? Не поторопился ли он? Или все-таки Цезарь Октавиан, понимая, что дольше выжидать нельзя, рассчитал все точно? Как бы там ни было, он сумел привлечь к себе внимание. Ясность его позиции и торжественная серьезность намерений не могли не заинтриговать тех, кто его слушал – ветеранов и плебеев. Вряд ли он полагал, что этот смелый шаг немедленно принесет свои плоды, однако ему удалось главное – так обставить свой выход на сцену, что дальнейшее развитие пьесы стало без него невозможным. В тот день состоялось его рождение как политика, и отныне представителям разных партий пришлось задумываться, что лучше – использовать его в своих интересах или нейтрализовать.
С точки зрения осуществления его плана, разработанного еще до возвращения в Рим и состоявшего в том, чтобы заинтересовать, если не соблазнить своей фигурой как можно большее число сенаторов, его поступок имел неоценимые последствия. В его решимости действовать сразу в двух параллельных направлениях, опираясь, с одной стороны, на силу оружия, а с другой – на дипломатию, по всей видимости, отразился состав сколачиваемой им партии. Не случайно первое упоминание имени Мецената относится как раз к этому времени и встречается в списке узкого круга друзей, сопровождавших его в Кампании [48]48
Николай Дамасский. Жизнь Августа, XXXI, 133.
[Закрыть].
Этот человек, разительно не похожий ни на Сальвидиена, ни на Агриппу, ни на самого Октавия, стал одной из ключевых фигур в бурной истории его восхождения, равно как и в истории успешного правления Августа. Сын богатого этрусского аристократа, по матери он принадлежал к древнему царскому роду из Арреция. Сделав в начавшейся игре ставку на Цезаря Октавиана, он тем самым существенно поднял его шансы. Странный это был человек. В нем одном, казалось, воплотились все пороки, которые римляне привычно приписывали этрускам. Он и сам умело играл на этой своей непохожести на других, демонстрируя презрительное равнодушие к должностям и званиям, за которые отчаянно бились прочие честолюбцы. Он отверг их все – во-первых, потому, что любой пост считал недостойным своей царской крови, а во-вторых, потому, что, исповедуя эпикуреизм, не дорожил вещами, которые считал несущественными [49]49
Эпикурейцы не должны были участвовать в политике. – Прим. ред.
[Закрыть]. Существенным же, на его взгляд, было лишь одно: признание того, что все вокруг – ничтожество и пустяки. Раскованный, беспечный, то зябко кутающийся в плащ с капюшоном, то разодетый в шелка и сверкающий драгоценностями, он выступал этаким «декадентствующим денди», и, как знать, быть может, это было лучшее, что оставалось отпрыску этрусской знати, давным-давно пережившей свои звездные времена. Сенека, ненавидевший даже память об этом человеке, посмертно обвинял его в пристрастии к слишком просторным одеждам, столь любимым золотой римской молодежью, но главным образом в откровенном нежелании скрывать свои пороки. При этом его отличали блестящий ум, широкая культура, литературный талант, приветливость в обращении и искренняя привязанность к друзьям. Одним его чудачества внушали восхищение, другим – резкую неприязнь, но они никого не оставляли равнодушным. Он любил и умел спорить, владел искусством добиваться своего, действуя поочередно то посулами, то угрозой, обладал поистине кошачьим терпением, достойным Мазарини, и не раз выручал Цезаря Октавиана из самых тяжелых положений.
Располагая таким советчиком, действительно можно было начинать вербовать союзников среди сенаторов. И первой в поле зрения Цезаря Октавиана попала фигура Цицерона. Стареющий консуляр, которого смерть Цезаря заставила вздохнуть с облегчением, для всех не согласных с режимом все еще символизировал авторитет сенаторской республики, которая осталась жить в его прекрасных речах. 1 ноября 44 года Цицерон получил от Цезаря Октавиана письмо, из которого узнал, что тот на свои средства собирает войско для борьбы с армией Антония. В городах Кампании под его знамена уже встали живущие здесь ветераны, и, где бы он ни появлялся, его встречали приветственными криками. Ему хотелось бы, чтобы Цицерон занял его сторону. Но Цицерон колебался. Он помнил, что накануне отъезда из Италии Брут советовал ему не доверять молодому Цезарю. Однако тот проявлял настойчивость, и его поддерживали Марций Филипп, его отчим, и Клавдий Марцелл, муж его сестры Октавии.
Понемногу Цицерон, возмущенный тем, как вел себя Антоний, начал склоняться к мысли, что, возможно, Цезарь Октавиан – это орудие, ниспосланное судьбой ради избавления республики от ее злейшего врага. Сегодня, когда вся тщета его усилий по спасению республики нам хорошо известна, легко рассуждать об очевидности развития событий. Но сам Цицерон, и не он один, все еще верил в возможность ее восстановления. Не исключено, что у него, не имевшего ни малейших оснований довериться сыну тирана, созрел макиавеллиевский план: вначале с помощью Цезаря Октавиана убрать с дороги Антония, а затем с помощью сторонников республики – и самого Цезаря Октавиана. В силу целого ряда обстоятельств, и в первую очередь из-за отсутствия у республиканцев четкой программы действий, этот план с треском провалился, погубив и твердо верившего в его успех Цицерона. Во всяком случае, политическая подоплека его союза с Цезарем Октавианом выглядит гораздо убедительнее того странного сна, который он якобы видел и пересказывал другим. Итак, Цицерону как будто бы приснилось, что Юпитер созвал на Капитолий всех сыновей сенаторов, чтобы указать того из них, кому суждено возглавить город. Молодые люди медленно двигались перед статуей бога, когда она вдруг ожила и простерла указующий перст в сторону совсем молодого юноши, почти мальчика. И все услышали, что конец гражданским войнам наступит в тот день, когда этот мальчик станет властелином Рима. Буквально несколько дней спустя Цицерон повстречал приснившегося ему юношу на Марсовом поле и узнал, что зовут его Гай Октавий.
В этой истории, входящей в цикл чудесных пророчеств, возвестивших появление гения Августа, нет и тени правдоподобия, прежде всего потому, что Цицерон меньше всего на свете мечтал, чтобы кто бы то ни было стал «властелином Рима». Он вовсе не нуждался в изобретении «предчувствий», оправдывающих тот факт, что ему пришлось примкнуть к делу, которое он считал всего лишь наименьшим злом. Видимо, тот, кто сочинил эту сказку, в избытке обладал или нахальством, или чувством юмора, или цинизмом, коли уж додумался возвестить приход нового режима через пророческий сон человека, который в своем трактате «О республике» предлагал вверить судьбу государства принцепсу – то есть «первому из равных». И действительно, Август впоследствии взял себе звание принцепса, вот только содержание его роли оказалось диаметрально противоположным тому, о чем писал Цицерон.
В середине ноября 44 года Антоний издал эдикт, в котором в оскорбительных выражениях отзывался о Цезаре Октавиане, старательно метя в его «больные» места – происхождение и юный возраст, а заодно обвинял в противоестественных наклонностях. Хуже всего было то, что он обращался к нему как к «мальчишке» и приписывал ему малодостойных предков: с отцовской стороны, прадеда-вольноотпущенника, фурийского канатчика, и деда-менялу, а с материнской – прадеда-африканца, торговца благовониями, позже ставшего булочником в Ариции. Кое-кто из аристократов присоединился к этим оскорблениям, говоря, что «мальчишку» следует усыпать цветами и вознести до небес. Нет, они вовсе не намекали на его обожествление; просто латинский глагол «tollere», который они использовали, служил для изящной игры слов, ибо означал и «поднимать», и «губить». В ответ Цезарь Октавиан, выступая перед неофициальным, но многолюдным собранием, обвинил Антония в посягательстве на свободу граждан. Свою речь он отослал Цицерону, который одобрил ее главную идею, тем самым сделав в предстоящей схватке окончательный выбор.
20 декабря Цицерон произнес третью Филиппику, за которой последовали 11 других. Высказываясь в защиту Цезаря Октавиана, он подчеркивал, что его молодость – лучшее доказательство божественности его избрания, которое станет спасением для государства. Он явно старался польстить молодому человеку, которого так бесили нападки на его юный возраст, что после победы при Мутине он официально запретил употреблять по отношению к себе слово «puer» – ребенок. Сторонники Антония то и дело прерывали речь Цицерона выкриками с мест, но вопреки их стараниям сенат постановил воздвигнуть статую в честь Цезаря Октавиана и возместить ему расходы на выплату жалованья солдатам, кстати сказать, считавшимся уволенными из регулярной армии. Впрочем, гораздо более важным – как для будущего Цезаря Октавиана, так и для будущего государства – оказалось другое решение: ему, ни дня не работавшему в должности квестора, позволили наряду с бывшими квесторами принимать участие в заседаниях сената. Кроме того, он получил официальное разрешение занимать важные государственные посты на 10 лет раньше, чем достигнет предусмотренного законом возраста [50]50
Должность квестора – первая из ступеней «почетной карьеры», считалась обязательной для вступления в рялы сенаторов. Дион Кассий (XLVI, 29) приводит пространную речь, произнесенную Каленом. В дальнейшем повествовании, если нет особых оговорок, использован пересказ Диона Кассия.
[Закрыть]. Учитывая царившую тогда обстановку крайней сумятицы, представляется маловероятным, чтобы у Цезаря Октавиана успел к тому времени сложиться до мелочей продуманный план завоевания власти, хотя вполне возможно, что в общих чертах такой план у него существовал. О его «тональности» говорит тот факт, что он согласился принять новые права и обязанности – с одной стороны, вроде бы законные и поддержанные сенатом, но с другой, совершенно не соответствующие существовавшим нормам и противоречившие всем правилам. Примечательно, что 16 годами позже, когда режим Августа уже прочно стоял на ногах, он во многом держался благодаря тому же причудливому сочетанию законности и беззакония, которым в 43 году характеризовалось начало взлета Цезаря Октавиана. В это же время Антоний обвинил Октавиана в попытке подстроить его убийство. Никаких доказательств справедливости этого обвинения у нас нет, если не считать слов Светония, однако свидетельства этого автора, как в данном случае, так и во многих других, не должны вызывать у нас слепой веры. Сомневаться в том, что покушение имело место, заставляет в первую очередь его провал, предполагающий плохую подготовку. Между тем, что бы ни предпринимал Октавиан, он всегда проявлял поразительную трезвость в оценке реальных возможностей и редкую для его возраста сноровку. Он виртуозно вел игру, понимая, что все карты в колоде – крапленые. Простой народ, наблюдавший за этой партией со стороны, также сознавал, что, кто бы ни вышел из нее победителем, действовать будет в своих, а не в его интересах. Наконец, и сенаторы, прекрасно осведомленные о величине ставок, строили свои комбинации, стараясь если не переломить ход игры, то хотя бы отсрочить ее финал. За внешней случайностью событий стояла умело сплетенная сеть интриг и лицемерия.
Цицерон в этой грязной игре не отставал от прочих, в частности, от сенаторов, приказавших Антонию оставить Галлию и идти в Македонию. Антоний отказался повиноваться, и тогда сенат объявил ему войну, поручив ее ведение консулам и Цезарю Октавиану, назначенному ради такого случая пропретором. Сенаторы рассчитывали использовать его до определенного момента, а затем просто убрать с дороги. На первый взгляд, ситуация складывалась абсурдная: сенат доверил наследнику Цезаря миссию разбить Антония – ярого цезариста, державшего в осаде Мутину, где укрывался один из убийц Цезаря Децим Брут. Со своей стороны, Антоний, не желавший терять Галльскую провинцию, преследовал Децима Брута именно за его участие в убийстве Цезаря. Так кто же из них нагляднее доказал свою верность долгу сыновней почтительности – он или Цезарь Октавиан, который поклялся отмстить за гибель отца, но в данный момент объективно защищал Децима Брута?
Разумеется, Антонию приходилось воевать тем же оружием, что использовал и его соперник. Последний, впрочем, не был оригинален в своем стремлении прикрыть самые жестокие из своих поступков ореолом добродетельной верности долгу. Брат Антония Луций, дабы подчеркнуть свою преданность ему, добавил к своему имени прозвище Pietas (благочестие) [51]51
В понятие pietas у римлян входило не только почтение к богам, но и любовь, и нежность к членам своей семьи. – Прим. ред.
[Закрыть]. Секст Помпей к прозвищу Magnus (Великий), унаследованному от отца, присоединил еще одно – Pius (Благочестивый). Все они, готовясь к братоубийственной войне, объявляли себя защитниками одной из главных добродетелей традиционной римской морали – pietas, понятие которой включало в себя верность высокому долгу по отношению к богам, предкам, семье, городу. Брат поднимался на брата во имя добродетели, провозглашавшей священный характер родственных отношений.
Перед лицом столь явного извращения ключевых ценностей морали сами небеса не сдержали возмущения. Совершая накануне похода обряд жертвоприношения, Цезарь Октавиан обнаружил у всех 24 жертвенных животных парные внутренности. Боги яснее ясного дали понять: государству угрожает раскол. Впрочем, ничего нового это «сообщение» не несло. Впрочем, может быть, значение имело не содержание «послания», а его адресат? Действительно, отмеченный вниманием небес Цезарь Октавиан оказался в лагере победителей: консулы Гай Панса и Авл Гирций нанесли Антонию два поражения подряд. Его собственное участие в сражении выглядело более чем скромным, но даже и в таком виде сопровождалось самыми противоречивыми комментариями. Так, Антоний рассказывал, что с поля первой битвы он попросту бежал и появился лишь через два дня, когда шло уже второе сражение, причем у него не было ни коня, ни плаща полководца. Другие, напротив, утверждали, что он выхватил из рук раненого воина знамя легиона и доблестно исполнил свой долг военачальника и солдата. Именно последняя версия получила официальное признание, а Цезарь Октавиан наряду с обоими консулами удостоился в результате звания «императора». Впрочем, из трех победителей в живых остался только он, потому что консулы – и тот и другой – скончались от полученных в бою ран, – случай настолько редкий, что молва объявила Цезаря Октавиана виновником их убийства.
Какой бы нелепостью ни звучало это обвинение, оно свидетельствовало о весомости и тональности такой вещи, как fama – понятия, у древних римлян обозначавшего одновременно и «слухи», и «общественное мнение». Возможно, возникновение этих слухов объяснялось неудержимостью, с какой Цезарь Октавиан рвался к консульству. Но он натолкнулся на противодействие сенаторов, которые приняли свои меры к защите законных институтов и присудили триумф Дециму Бруту и вознаграждение его солдатам. Сексту Помпею они доверили флот, Марку Бруту отдали в управление Македонию, а Кассию – Сирию. Что касается Цезаря Октавиана, то он получил всего лишь право наряду с консулярами принимать участие в голосовании. Вожделенного консульства ему так и не досталось, – еще бы, ведь он был юнец, мальчишка!
Первое, что он после этого предпринял, – постарался войти в сговор со своим вчерашним врагом Антонием, со своей стороны, искавшим союза с Лепидом. Народ, для которого эти шаги остались глубокой тайной, тем временем возложил на Цезаря Октавиана обязанность возглавить армию и повести ее на Антония и Лепида. Цезарь Октавиан принял командование войском в надежде, что это принесет ему долгожданное консульство, и даже предложил Цицерону баллотироваться в качестве своего коллеги.
Вот это уж точно отдавало комедией. На самом деле он успел разработать собственный грандиозный план. Прежде всего с помощью умелых манипуляций он создал в войсках нужные ему настроения, и солдаты, искренне убежденные, что выражают собственную волю, отказались выступить против бывших воинов Цезаря. Как только эти настроения достаточно оформились, он отправил отряд в четыре сотни человек поставить в известность о них сенат. Разумеется, это был лишь предлог. Явившись без оружия перед высоким собранием, солдаты немедленно начали требовать консульского звания для своего командира и обещанных денег для себя. Услышав отказ, один из воинов покинул зал, но тут же вернулся, уже с мечом в руках, и, потрясая оружием, заявил: «Если вы не дадите Цезарю консульство, этим придется заняться вот ему!» На что Цицерон, признавая полную несостоятельность республиканского закона, им же сформулированного в одной из нравоучительных поэм («Пусть склонится оружие перед тогой!»), отвечал: «Раз ты так об этом просишь, он его, конечно, получит!» [52]52
Этот анекдот, пересказанный Дионом Кассием (XLVI, 43, 4–5) и Светонием («Божественный Август», XXVI, 1), указавшим, что солдата звали Корнелием и он был центурионом, по мнению Р. Сайма, «живописен, но лишен смысла» (R. Syme, «La Revolution romaine», с. 541, прим. 8).
[Закрыть]Цезарь Октавиан, который не присутствовал при этой сцене, но, конечно, «дирижировал оркестром» на расстоянии, не только не осудил выходку воина, с предельной ясностью выразившего желание своего командира, но еще сетовал, что его людей вынудили разоружиться и смели пытать вопросом, кто их послал: легионы или сам Цезарь. Вскоре после этого эпизода он снова связался с Антонием и Лепидом, а затем, делая вид, что не в состоянии сдерживать нетерпение солдат, двинулся на Рим. Город притих в опасливом ожидании, однако, стоило Цезарю приблизиться к предместьям, многие из тех, кто еще накануне клял его на чем свет стоит, теперь бросились его встречать, и впереди всех – Цицерон, которого дерзкий юнец приветствовал весьма двусмысленным восклицанием: «А вот и последний из моих друзей!» Он не стал вступать в черту города, дабы не разрушать иллюзию, что выборы проходят в свободной атмосфере. 19 августа 43 года он был избран консулом. В тот день он увидел шесть парящих в небе ястребов, а назавтра, когда занимался гаданием о будущем, еще 12. Это предзнаменование, напомнившее о божественном избрании Ромула, невероятно подняло престиж нового консула, совершенно задвинув в тень его коллегу Квинта Педия, мать которого приходилась сестрой Юлию Цезарю. Наконец, Цезарь Октавиан публично поблагодарил сенат и народ, словно свой выбор они сделали добровольно, и щедро вознаградил своих солдат, причем за счет государственной казны, хотя вслух объявил, что платит из собственных средств.
Теперь он мог без опаски подвергнуть факт своего усыновления Цезарем старинной юридической процедуре, требовавшей голосования куриатного собрания, и на вполне законном основании носить полное имя – Гай Юлий Цезарь Октавиан. Тем, кто успел забыть, это имя напоминало, что он – сын Цезаря и его долг – отмстить за смерть отца. Его коллега и родственник дал свое имя вновь принятому закону. Итак, Педиев закон приговаривал убийц Цезаря к «запрету на воду и огонь». Это значило, что отныне любой человек не только имел право, но и был обязан – под страхом разделить наказание – предать их смерти. Объявленные врагами народа, они лишались всего имущества, которое должно было достаться либо тому, кто казнит преступника, либо тому, кто его выследит. Таким образом, Педиев закон стал прелюдией к грядущим проскрипциям.
Рассчитывать на большее Цезарь Октавиан в ближайшем будущем не мог. Пусть Антоний потерпел военное и политическое поражение, но он сумел воссоединиться в Галлии с Лепидом и заключить с ним союз. Вдвоем они располагали 23 легионами. Столько же было и у республиканцев на Востоке. Явную, хотя пока не поддающуюся точной оценке угрозу представлял и Секст Помпей. Наконец, и сенат, и римский народ достаточно наглядно продемонстрировали, что их уважение к Цезарю Октавиану носит весьма условный характер. Он только производил впечатление сильного. Он и сам прекрасно сознавал это, и тот факт, что ему удалось вырвать себе звание консула, ничего не менял. В переговоры с Антонием и Лепидом он вступил сразу после битвы при Мутине. В свою очередь, эти двое тоже лишь казались проигравшими, ведь у них в руках оставалась вся Галлия. Но пока им приходилось сотрудничать с «юнцом», ибо тот представлял законную власть.